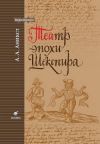Текст книги "Стиль и смысл. Кино, театр, литература"

Автор книги: Александр Дорошевич
Жанр: Учебная литература, Детские книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Художественная жизнь Запада в 1960-е годы переживала бурную трансформацию в сторону демократизации, выражавшуюся в том, что замкнутые ранее в своих условностях различные виды искусства: литература, театр, кино – стали существовать в некоем едином культурном пространстве, причем пространстве гораздо более связанном напрямую с повседневностью, насущной злобой дня. Неудивительно, что во всех областях культуры стали работать одни и те же люди, и, соответственно, пишущие о них также приобрели некую универсальность. Скажем, автор основополагающей книги о новой английской драме Джон Рассел Тейлор оказался впоследствии на месте главного редактора кинематографического журнала «Филмз энд Филминг», а блестящий театральный рецензент Кеннет Тайнен стал не менее блестящим кинокритиком.
В условиях же советской жизни, когда гастроли иностранных театров были редки, а частые поездки за границу большинству наших граждан отнюдь не грозили, работа критика в области зарубежного кинематографа казалась единственной возможностью непосредственно прикоснуться к художественной жизни за «железным занавесом». Фильмы попадали в страну благодаря Московским фестивалям, а также благодаря заказам «Совэкспортфильма», занимавшегося покупкой зарубежных картин для отечественного проката, для чего требовался их просмотр специальной закупочной комиссией Госкино СССР. (Эти просмотры были самыми сладостными, доступными лишь для «небожителей»). Позже, уже в виде черно-белых копий сравнительно свежая кинопродукция оказывались доступна зрителям многочисленных закрытых просмотров, о которых говорилось выше. (Даже «Смерть в Венеции» я впервые увидел в черно-белом контратипе, лишь достраивая в воображении пиршество красок, царящее на экране).
И вот, наши театральные критики, такие как Майя Туровская, Инна Соловьева, Вера Шитова, Ян Березницкий, уже успевшие составить себе имя на страницах журнала «Театр», закономерно перекочевали под обложку журнала «Искусство кино».
Я тоже в какой-то мере оказался подвержен этой закономерности, что наглядно выразилось в составлении книжки театральных и кинематографических рецензий уже упоминавшегося Кеннета Тайнена. Д. Шестакову, некоторое время работавшему в издательстве «Прогресс», каким-то чудесным образом удалось вставить выпуск этой книги в план издательства, и я занялся отбором не только уже изданных в Англии отдельной книгой статей Тайнена о театре, но и его кинорецензий в либеральном интеллигентном еженедельнике «Обзёрвер». Должен с удовлетворением отметить, что, увидев выпущенное Тайненом несколько позднее переиздание его старых и новых работ (включая избранные кинорецензии), я обнаружил там почти всё то, что несколько ранее выбрал сам, роясь в газетных подшивках. Кинорецензии блестяще перевел Дима, мне же помимо составления следовало откомментировать тексты Тайнена. Что касается театральных реалий, я к тому времени уже собаку съел по части современной английской и вообще мировой драматургии и ее сценического бытования, но вот в области кино оставался всё-таки новичком. Причем это касалось даже не столько современного кино, сколько некоторых деталей его истории. Этим и объясняю два-три совершенно непростительных «ляпа» в тексте комментария.
Если же попытаться определить искусствоведческую журнальную практику того времени с точки зрения методологии, то в ее лучших образцах это была социологическая эссеистика. Не быть социологической она, разумеется, не могла, но социология эта выглядела достаточно широкой и обобщенной, причем в равной степени применимой ко всем проявлениям социальной жизни, «здешним» и «тамошним». Это в высшей степени раздражало и злило идеологических начальников, но, повторяю, в первые брежневские годы твердая линия, шаг в сторону от которой «считался побегом», еще не была окончательно проведена.
Значительную роль если не в формировании, то, по крайней мере, в осознании этой методологии, сыграл Борис Исаакович Зингерман. Его небольшая, изданная издательством ВТО книжечка о спектаклях гастролировавших у нас французских, немецких и английских трупп вела читателя от восприятия конкретного спектакля к осознанию неких гораздо более широких закономерностей в жизни современного искусства и общества. Сам же он (к вопросу о «школе»!) называл в качестве своего учителя ленинградского ученого Н.Я Берковского (сборник эссе последнего «О литературе» вышел в конце 1950-х годов). Помимо уже упоминавшегося широкого, ненавязчивого социологизма Зингермана привлекал в Берковском его эссеистический стиль, изобилующий афористическими определениями, опирающийся, казалось бы, только на анализируемый текст, однако скрывающий под этой поверхностью глубокую эрудицию и доскональное знание предмета. Неудивительно, что Д. Шестаков, сам любивший время от времени блеснуть запоминающимся афоризмом, а также стилем своих работ в чем-то подражать стилистке разбираемых им текстов, нашел в Зингермане родственную душу.
Что же до меня, грешного, то блеском стиля моих старших товарищей я не отличался, поэтому избрал для себя некий, может быть, несколько нудный, историко-философский подход к произведению искусства, стараясь углядеть в его конкретных проявлениях косвенное отражение диалектики философских категорий, в свою очередь социологически оправданной. В этом отношении мне много дали труды Юрия Николаевича Давыдова и Пиамы Павловны Гайденко, а также опыт, хотя и краткий, общения с таким живым осколком русского «серебряного века», как Алексей Федорович Лосев. Не без приятного чувства поэтому вспоминаю реплику Лосева: «Сашка меня с полуслова понимает!», – произнесенную как-то после разговора с ним о Гоголе и Розанове. (Помнящие стиль общения Алексея Федоровича подтвердят, что фраза эта вполне в его духе и не выглядит выдумкой мемуариста).
Поскольку опубликованная журналом «Театр» моя статья «Человек без качеств на подмостках» была едва ли не первой, достаточно подробно описывающей и без обязательной в то время неприличной ругани анализирующей такое тогда новое для нашей публики явление, как «театр абсурда», Б. И. Зингерман, повстречавшийся мне как-то на улице Горького (Тверской) сразу же завел разговор об участии в коллективном труде сектора современного искусства Института истории искусств, редактором-составителем которого он был. Мне и самому хотелось более основательно философски и исторически обосновать наработанный материал, а также обратиться к еще более новому тогда явлению, известному под именем «театра жестокости». Зингерман торопил, резонно предвидя очередное «закручивание гаек» к пятидесятилетию Октябрьской революции в конце 1967 года.
Здесь, пожалуй, и произошел главный профессиональный поворот в моей жизни: вместо работы над заявленной при поступлении в университетскую аспирантуру темой о поэзии английского поэта-метафизика XVII века Джона Донна (ведь начинал-то я как шекспировед), все силы были брошены на философское осмысление проблем модернизма, театрального авангарда и стоящей за всем этим (спасибо Лосеву!) метафизики мифа. К концу 1967 г. работа была написана и, предваряя книжное издание, в несколько сокращенном виде в начале следующего года опубликована журналом «Театр». Почти сразу же за этим и на близком материале я взялся за другую работу: о проблеме мифа в литературе ХХ века. (Писалась она по заказу Института атеизма и религии для какого-то непонятного сборника, хотя в конце концов увидела свет в журнале «Вопросы литературы»). Я, было, уже подал заявление на изменение темы будущей диссертации, но, наступил август 1968 года. Вторжение советских танковых армад в Чехословакию, вина которой проявилась лишь в том, что ее коммунистические руководители посмели возмечтать о «социализме с человеческим лицом», сразу изменило климат в стране. На собраниях в различных учреждениях все должны были единодушно голосовать за резолюции, одобряющие «братскую помощь народу Чехословакии», тех же, кто пытался хотя бы воздержаться, не то что проголосовать «против», с позором увольняли. Хотя сам я на таких собраниях и не присутствовал, знаю об этом не понаслышке: мою университетскую однокашницу, ныне известного детского психолога Т. П. Гаврилову подобным образом изгнали из Фундаментальной библиотеки общественных наук.
Ходили слухи о готовящейся к девяностолетию «отца народов» полной политической реабилитации Сталина, в связи с чем стали появляться подписанные разными представителями интеллигенции письма, протестующие против этого. И хотя явно и декларативно подобная «реабилитация» не состоялась, наступило время окончательно завершить процесс расправы с фрондой, начавшийся процессом Синявского и Даниэля. В софроновском «Огоньке» появилось письмо ветеранов советского кино во главе с Н. Крючковым о том, что, дескать, редакция журнала «Искусство кино» злонамеренно принижает великие художественные достижения советского кинематографа 30-х–40-х годов, поднимая на щит сомнительные с идеологической точки зрения картины некоторых современных советских и западных режиссеров. Организационные меры не заставили себя ждать. Были сняты со своих должностей главный редактор Л. Погожева и ее заместитель Я. Варшавский (он-то и был настоящим вдохновителем того недолгого успеха, который журнал получил у читателей в начале и середине 60-х). Впрочем, наказание для обоих оказалось не слишком тяжелым: Погожева получила синекуру советника председателя Госкино Романова, Варшавский стал заместителем главного редактора популярного еженедельника «Советский экран». А «Искусство кино» возглавил занимавший до Погожевой место советника Е. Д. Сурков, перед которым была поставлена задача искоренить из журнала дух Туровской, Соловьевой и Шитовой.
Подобный же удар с кадровыми перемещениями и внутренними проработками произвели и по Институту истории искусств, в стенах которого работало много ненавистных власти фрондеров и «подписантов». Журнал «Коммунист» камня на камне не оставил от книги Виктора Ильича Божовича «Современные западные режиссеры». А тут еще подоспел выпущенный, наконец, в 1969 году институтский сборник «Современный зарубежный театр», под обложкой которого оказались столь раздражающие начальство фамилии А. Аникста, Б. Зингермана и Т. Бачелис. Туда же затесался и некий А. Дорошевич, хоть и мало кому известный но, судя по всему, из этой же компании. И вот, 19 мая 1970 года в Центральном органе ЦК КПСС газете «Правда» появился большой, на две полосы, «подвал», подписанный театральным обозревателем газеты Н. Абалкиным. Назывался он «На объективистских позициях». Что такое «подвал» «Правды», пусть даже не редакционный, а подписной все хорошо знали. Традиция таких «подвалов» восходила еще к анонимной статье «Сумбур вместо музыки», оборвавшей в 1936 году творческую эволюцию Д. Шостаковича. На моей памяти был разнос романа В. Гроссмана «За правое дело», учиненный М. Бубенновым в 1952 году и многие подобные материалы более поздних времен вплоть до разгрома журнала «Новый мир», после которого был вынужден покинуть пост редактора А. Т. Твардовский. Абалкин обвинял авторов сборника в том, что, взяв на вооружение метод «буржуазного объективизма», они под видом якобы объективного критического анализа на самом деле злокозненно пропагандируют худшие образцы буржуазного искусства и тем самым играют на руку врагам социализма. Особенно досталось А. Дорошевичу, в частности, за то, что он посмел найти «лирические островки» в пьесах антигуманиста Беккета. Позднее, летом того же года в разделе «После критики» «Правда» сообщала читателям, что в Институте истории искусств состоялось обсуждение статьи Абалкина, в ходе которого критика была признана справедливой, особенно в отношении А. Дорошевича, «допустившего наибольший субъективизм в своих оценках» (это при общем-то «объективизме»!). Должен сказать, что на обсуждении я не присутствовал, поскольку не был сотрудником института, и вполне понимаю, что валили все на меня именно по этой причине. Могу еще добавить, что и статью о мифе тоже успел лягнуть некий В. Меженков в журнале «Октябрь». Здесь я попал в почетную компанию к Сергею Аверинцеву, номером раньше напечатавшему в «Воплях» (так в тогдашнем обиходе называли «Вопросы литературы») статью о Юнге и юнгианстве. При этом Аверинцева автор честил чуть ли не сексуальным маньяком, а меня – просто фашистом. Естественно, ни о какой защите диссертации в этой ситуации речи идти не могло. Так закончился период моих «научных изысканий». Я тогда твердо усвоил, что от попыток «встроиться в систему» ничего хорошего для личности произойти не может, и всю оставшуюся жизнь старался оставаться маргиналом.
И все же, должен признать, что вышеописанные коллизии меня впрямую никак не задели. К этому времени я уже был человеком другой епархии, редактором зарубежного отдела журнала «Искусство кино», куда был взят Е. Д. Сурковым на место, освободившееся после ухода в Институт истории искусств В. Михалковича. После выхода того самого номера «Правды» я получил лишь поздравление с «боевым крещением» от главного редактора. То, что я не «киношник» Суркова не смущало, он сам был в большей степени «человеком театра». Смущало это, скорее, моих новых коллег. Помню, как зашедший в отдел посмотреть на новичка Андрей Зоркий, заявил: «Этот птенец свалился сюда прямо из дворянского гнезда и ничегошеньки в кино не понимает». Оставалось лишь доказать свою профпригодность. В те времена в «Искусстве кино» было принято писать длинные, многословные рецензии на фильмы, с пространными отступлениями и многочисленными ассоциациями. Каждая такая рецензия выглядела своего рода проблемной статьей. Если же автор, по мнению главного редактора, не дотягивал до искомого идеала, сам Сурков вписывал в его текст огромные пассажи своим мелким, почти «готическим» почерком, расшифровать который могла лишь секретарь редакции Мария Марковна. Причем дополнения эти писались и после сдачи номера журнала в типографию, навлекая на редакцию огромные штрафы. Авторы негодовали, но практика «приписок» продолжалась. Написать такую «проблемную» рецензию поручили мне. В качестве предмета разговора был избран нашумевший на Западе за три года до того фильм Артура Пенна «Бонни и Клайд». В те патриархальные времена взять на просмотр в редакцию любой фильм из хранилища Госкино или из Госфильмофонда не составляло никакого труда. Поэтому в порядке подготовительной работы я смог просмотреть множество фильмов на гангстерскую тему и не только на нее, чтобы залатать дыры в своем кинематографическом образовании. Всегда готовы были помочь мне советом или консультацией мои новые коллеги по отделу: заведующий Дмитрий Степанович Шацилло и редактор Латавра Григорьевна Дуларидзе. «Инициация» состоялась осенью 1970 года, когда в журнале появилась моя статья «Бонни и Клайд: герои или жертвы?». Судя по всему, приняли её в кинематографическом сообществе достаточно хорошо. Так началась моя новая киноведческая жизнь. С тех пор прошло более тридцати пяти лет, но и по сю пору мне иногда начинает казаться, что настоящего киноведа, идеалом которого для меня является мой бывший коллега по «Искусству кино» Владимир Всеволодович Забродин, из меня так и не вышло, а остался я в том звании, что в моем университетском дипломе обозначено как «Учитель английского языка».
Из работы «Традиции экспрессионизма в «театре абсурда» и «театре жестокости»[2]2
Полностью опубликовано в сборнике «Современный зарубежный театр. Очерки». М. 1969.
[Закрыть]
Экспрессионизм провозгласил человечность как нечто присущее всем людям, как тот душевный остаток, что неподвластен естественным законам и потому составляет человеческую сущность. «Дело самопознания в том, чтобы не искать и анализировать сложности происходящего, но сознать то, что в нас вневременное и, таким образом, переживать в себе высшее, вместо того, чтобы разглядывать низшее. Потому что не хотим мы погибнуть в тине характера, не хотим затеряться в хаосе случайных особенностей и их судорог, но хотим твердо знать, что в иные священные часы наша внешняя оболочка с нас спадает и проступает вперед более святое»[3]3
Сб. «Экспрессионизм» (п/р Браудо и Радлова). Пг. – М., 1923. С. 119.
[Закрыть], – эти слова драматурга Пауля Корнфельда иллюстрируют идеал экспрессионизма, который мог осуществиться лишь в искусстве. Путем к этому было очищение от конкретности, эмпирики, естественно ведущее к абстрактному обобщению (параллельным процессом в философии был метод «феноменологической редукции» Э. Гуссерля). «Пространство в кубизме, движение в футуризме – понимаются не как явление, а как бытие, взамен красочных ценностей сенсуализма выступает отвлеченность»[4]4
Там же. С. 56.
[Закрыть] (Ф. Гюбнер). Отвлеченными, лишенными конкретности становились персонажи экспрессионистической драмы, лишь обозначенные: Директор банка, Миллиардер, Солдат, Актер и т. п. Отсюда же – любовь к схеме, конструкции, построенной лишь на чистом чувстве.
Так экспрессионизм сближается с лубком, примитивом, плакатом, гротеском. С другой стороны, чистые формы человеческих эмоций и т. п. складываются в извечные, надвременные схемы, которым в психологии параллельно оказалось понятие «архетипа», «мифа» – вневременной схемы, которой следует жизнь, неизменно повторяясь. «Мифическое» и «типическое» противопоставляются «буржуазному» и «индивидуальному» (принцип, сформулированный Т. Манном для тетралогии об Иосифе).
Миф как схема чистого ритма бытия конкретизирует стремление к вечному и постоянному у экспрессионистов. Поэтому день дублинского обывателя оказался у Джойса равным в своих элементах гомеровской «Одиссее». Путь к мифу объясняется тем, что в нем совпадают общая идея и чувственный образ. Происходит, следовательно, не индуктивное обобщение отвлеченных понятий из массы частных случаев и затем воплощение их в частном же примере, а слияние частного случая и схемы. Схема тогда не проступает в единичном как общая идея, извлекаемая воспринимающим сознанием, а дана как бы изначально и объективно в качестве живой реальности. Это характерно для ранних стадий развития человечества; мир природы воспринимался тождественным миру людей, их невозможно было противопоставить из-за отсутствия индивидуального сознания как такового. Различие идеального и реального (т. е. разрушение мифа) связано с развитым сознанием и общественной практикой.
В условиях отчуждения, при разрыве между действиями общества в целом и волей отдельного человека, происходит обратный процесс. Параллельно с действительной скованностью деятельности имитируется такая же потеря способности к рефлексии, и тогда вступает в свои права миф.
* * *
«Господство вещных отношений над индивидами»[5]5
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 2. С. 440.
[Закрыть], проявление которого экспрессионисты видели в детерминистской эстетике натурализма, они пытались взорвать при помощи духовности. Существование филистера, т. е. человека, подчинившегося этому господству, приводило их в отчаяние. Герой одной из пьес Корнфельда душит некоего Иосифа, который ничего ему не сделал, только потому, что видит в нем олицетворение филистера. Страстность, пусть даже творящая зло, оправдывается. Ю. Баб пишет: «Холодное – вот содержание понятия «зло» для человека пламенного, сострадающего, наделенного силой любви; вот содержание «черта»».[6]6
«Экспресоионизм». С. 123.
[Закрыть]
Если мы уберем сострадание и силу любви, введенные сюда как нечто самоочевидное лишь потому, что «человек добр» (Л. Франк), то перед нами прообраз жестокости, жестокости «горячей», противопоставленной холодной жестокости капиталистической системы, жестокости машины. Те бунтари-интеллигенты, кому был дорог неподвластный машине общества «душевный остаток», обеспечивающий свободу воли, и которые, тем не менее, не могли видеть в нем «божеское», так или иначе приходили к признанию роли подсознательных разрушительных инстинктов. Здесь редукция, очищение от всего исторически-конкретного ведет к фрейдистско-юнговскому архетипу, к мифу. Мифу темному, кровавому, ибо только так трактуют иррациональную стихию бессознательного, которую мифологическое сознание проецирует на мир, вышедший из-под контроля отдельных индивидуальных усилий. Так, лишившись скрепляющего морального начала, экспрессионизм уступил место течениям, развивающим лишь разрушительную его сторону; дадаизму и сюрреализму, наследником которых стал послевоенный «театр абсурда».
Краткий обзор основных тенденций экспрессионизма помогает понять происхождение лозунга «театра жестокости», который выдвинул А. Арто в книге «Театр и его двойник».
А. Арто (1896–1948) – поэт-сюрреалист, актер, режиссер, теоретик театра, визионер и безумец, составлял свою книгу на протяжении 1930-х годов и выпустил ее в 1938 г. Подобно экспрессионистам, он утверждал, что основой театра должно быть непосредственное переживание зрителя, а не сопереживание того, что чувствуют персонажи. Такое непосредственное воздействие должно адресоваться к эмоциям и инстинктам: в отличие от экспрессионистов Арто отнюдь не склонен видеть в человеке божественное начало. Поэтому Арто ближе к интуитивистской критике буржуазной цивилизации, имеющей долгую традицию. Основным ее моментом является сведение существующего в буржуазном обществе отчуждения к отчуждению сознания от бытия и их противопоставление. Выход из этого положения критики находят в том, что сознание, ассоциирующееся у них с буржуазным рационализмом, попросту отбрасывается как ненужное наслоение в пользу инстинктивного и потому кажущегося иррациональным бытия. Это – отправная точка всех мыслителей иррационалистов от Ницше до Хайдеггера, и тем любопытнее увидеть совершенно такие же высказывания у практика Арто.
«Если наша жизнь не может разгореться адским пламенем, – говорит Арто, – то есть, если ей не хватает постоянной магии, это лишь потому, что мы предпочитаем наблюдать собственные действия и теряем самих себя, рассматривая их воображаемые воплощения, вместо того, чтобы целиком отдаваться их напору».[7]7
А. Artaud. Oeuvres complètes. Le théâtre et son double, t. I V. P. 1964. Р. 13.
[Закрыть]
Эмоциональность, чувство экстатического единства (ср. ницшевский дионисизм), которые Арто видит в магических ритуалах времен великих древних культур, он противопоставляет обособившемуся в самостоятельную сферу эстетскому созерцанию «целесообразности без цели» (Кант). Буржуазный эстетизм Арто называет «западным», противопоставляя Западу Восток, в искусстве которого, по его мнению, есть стремление к мистическому абсолюту, в противоположность «западному» интересу к частному, единичному, к психологии.
«Духовное нездоровье Запада – где, par excellence, смешивают искусство и эстетизм, – обнаруживается, когда думают, что в живописи главное – сама живопись, что в танце главное – пластика; это ведь просто попытка кастрировать формы искусства, обрубить их связи со всеми мистическими значениями, которые они могут приобрести в соприкосновении с абсолютом».[8]8
А. Artaud. Oeuvres complètes. t. I V. Р 94.
[Закрыть] Механизм подобного хода мысли такой же, как и в экспрессионистском отрицании детерминизма, индивидуальной психологии, конкретности. Эмпирия отбрасывается как нечто принадлежащее «неподлинному существованию» (понятие, введенное философами экзистенциалистами), и когда вместе с картиной действительности отбрасывается анализ социальных отношений, оформивших ее, на первый план выступает нечто абсолютно всеобщее, образ высшей реальности, постичь и ощутить которую можно лишь глубоко лично, путем интуиции, пробуждающейся в священном экстазе.
Такое восприятие мира характерно для ранних стадий развития человеческого общества, когда анализирующее индивидуальное сознание еще недостаточно развито. Теперь же анализирующее мышление попросту отбрасывается за ненадобностью, ибо, в конечном итоге, в мире капиталистического отчуждения желания отдельного человека часто противоположны результатам функционирования общественного механизма. Понимание оказывается бессильным, а сила – слепой. Буржуазный конформизм, приятие положения вещей на деле выглядит лишь как формальное соблюдение видимости осмысленных самостоятельных действий, хотя самостоятельности давно нет. Поэтому Арто и обрушивается на эстетизм, в котором он видит такую же приверженность к поддержанию видимости: «Вопрос лишь в том, чего мы хотим. Если мы готовы к войне, чуме, голоду и резне, нам даже не нужно объявлять об этом, достаточно лишь продолжать оставаться такими, какие мы есть, продолжать вести себя как снобы, валить толпами, чтобы послушать такого-то певца, посмотреть такое-то замечательное представление, которое никогда не выходит за пределы искусства… Этому эмпиризму, господству случая, индивидуализму и анархии надо положить конец».[9]9
Ibid. Р. 94.
[Закрыть]
В отрицании принципа «искусство для искусства» Арто повторяет положение экспрессионизма о том, что искусство – переживание, а не предмет роскоши, что главным в искусстве является не вопрос «как», а «что». Этим «что», т. е. содержанием искусства, для Арто становится очищенный от конкретного опыта универсальный аспект жизни, а выражением его – миф и магия.
Своим «театром жестокости» он хочет заставить зрителей почувствовать мощь и таинственность враждебной людям вселенной, которой, тем не менее, человек бросает вызов. (Этот мотив бунта одинокого человека против космоса в дальнейшем получил развитие у А. Камю.)
В театре Арто видит инструмент пророчества об «истине бытия». Он должен обращаться к глубинной сущности каждого, роднящей его со всеми: «Отвергая психологического человека – с его хорошо расчлененным характером и чувствами – и социального человека, подчиненного законам и изуродованного религиями и предписаниями, театр жестокости будет обращен только к тотальному человеку».[10]10
Ibid. Р. 147. (Кстати, этот пассаж из второго манифеста «Театр жестокости» совершенно неправильно, как говорится «с точностью до наоборот» переведен в русском издании Арто 1993 г. – примечание 2012 г.)
[Закрыть]
«Тотальный человек» – это свободный от индивидуальных наслоений носитель юнговского «коллективного бессознательного», объективно выражающегося в мифах и ритуалах. Очень характерна эта близость к Юнгу: фрейдовская концепция личности слишком индивидуалистична для романтических критиков буржуазной культуры. Темный миф, кровавый ритуал призваны воплотить враждебность и непознаваемость космического хаоса, которому принадлежат инстинкты, прорывающиеся в ритуальном экстазе.
Арто полагал, что спектакль, подобно массовому сеансу психоанализа, будет освобождать людей от темных инстинктов, как бы выводя их наружу.
Поэтому он сравнивает действие театрального спектакля с эпидемией чумы, открывающей в людях скрытые страсти: «Если истинный театр похож на чуму, то это не потому, что он заразителен, но потому, что он, подобно чуме, служит раскрытию, выявлению, обнародованию глубин изначальной жестокости, в которую выливаются все необычные возможности сознания, будь то отдельный человек или народ».[11]11
Ibid. Р. 37.
[Закрыть]
Этот интерес к затаенному, невыявленному, которое и объявляется истинной сущностью, характерен не только для психоанализа, но и для экзистенциализма. Возможность – одна из важнейших категорий у Хайдеггера. Понять предмет – значит увидеть его невыявленные возможности. А творчество – это противопоставленный рациональному познанию иррациональный акт, при котором человек реализует самого себя как скрытую возможность.
Для «театра жестокости», как и для экспрессионистского искусства, таким выявлением скрытых возможностей оказывается экзальтация. Экстаз (эк-стаз – выход из статического состояния), которым в конце концов оказывается экзистенция Хайдеггера, противопоставлен «неистинному существованию» (man), протекающему в сетке социального, психологического и прочего детерминизма. Эту сетку начал разрушать экспрессионизм, используя всевозможную эксцентрику и внешнюю необычность. Как писал Луначарский, «современному пророку надо начать с того, чтобы перекувырнуться в шутовском костюме на площади или взреветь в тромбон, или дать кому-нибудь пощечину для того, чтобы на него обратили внимание».[12]12
Предисловие к кн.: Г, Кайзер. Драмы. М. – Пг., 1923.
[Закрыть] Да и вещает большинство пророков о том, что, как правило, далеко от повседневных забот их слушателей. Еще у романтиков сквозь прозу должна была прорваться поэзия, призванная разрушить привычные связи, установившиеся в умах, и сообщить людям новое видение. Подобного рода поэзию Арто желает ввести в театр: «Поэзия анархична постольку, поскольку она делает предметом игры все взаимосвязи предметов, а также связи формы и значения».[13]13
А. Artaud. Oeuvres complètes, t. I V. Р. 52.
[Закрыть] В отличие от нигилистически настроенных дадаистов, стремившихся разнести и разрушить все и вся, видевших смысл в разрушении как таковом, Арто полагает, что такая анархическая позиция окажется ближе к мировому первобытному хаосу, ощущение которого призван передать «театр жестокости».
Набор несообразностей, рожденных хаосом, издавна применялся как средство юмора (особенно в цирке и мюзик-холле). Из этой сферы берет свой пример и Арто: герой одного из фильмов известных комиков братьев Маркс думает, что он обнимет женщину, но вдруг в его объятьях оказывается лошадь. В театр этот прием нанизывания несообразностей принес в конце XIX в. французский богемный бунтарь Альфред Жарри, предвосхитив современный «театр абсурда» пьесой «Король Убу». Жарри даже учредил особую науку «патафизику» и определил ее как «науку воображаемых решений, которая символически относит к очертаниям предметов свойства, характерные для их сущности».[14]14
Цит. по кн.:M. Esslin. The Theatre of the Absurd. L.1963. Р. 345.
[Закрыть] Патафизический казус усматривается, когда строгое поверхностное следование логике приводит к бессмысленному по своему содержанию заключению. Этот принцип нанизывания цепи несообразностей, внешне скрепленных логикой здравого смысла, положил в основу своих ранних пьес Эжен Ионеско: из-за своей внешней логичности несообразности перестают удивлять самих героев (герой Граучо Маркса все-таки не принимал появление лошади как должное).
Ионеско смеется над людьми, не способными даже ужаснуться безднам открывающегося хаоса, отгородившимися от мира глухой стеной мещанского здравого смысла, О непрочности этой защиты, о хаосе, всегда подспудно чувствующемся под покровом обыденности, писали, начиная с Кафки. Отсюда такое острое ощущение опасности, всегда присутствующее в пьесах молодого англичанина Гарольда Пинтера. Ее постепенное нагнетание вызывает взрыв – убийство в пьесе другого английского драматурга Д. Радкина «К ночи».
В «театре жестокости», по Арто, стихия космического хаоса должна прорываться на сцену непосредственно: «Мне кажется, что лучше всего передать на сцене эту идею можно предметной неожиданностью, не неожиданной ситуацией, а вещью, внезапным, неподготовленным переходом от умственного образа к истинному образу».[15]15
А. Artaud. Oeuvres complètes, t. IV. Р. 53 (То, что Арто постоянно говорит о космическом хаосе, ощущение которого должен передать «театр жестокости», говорит именно о метафизике, лежащей в его основе, той самой метафизике, котрую начисто отвергает у Арто Ж. Деррида и все его современные последователи. – примечание 2012 г.).
[Закрыть]
«Истинный образ» для Арто – это все, что действует непосредственно на первую сигнальную систему, что не может быть сформулировано и поэтому воспринимается интуицией. Этот урок был также усвоен Ионеско: вспом ним, какую роль играют предметы в его спектаклях – пустые стулья в «Стульях», чашки кофе в «Жертвах долга», растущий труп в «Амедее» и т. д.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?