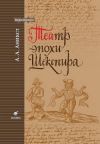Текст книги "Стиль и смысл. Кино, театр, литература"

Автор книги: Александр Дорошевич
Жанр: Учебная литература, Детские книги
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Лучше всего это положение иллюстрируется столь популярными сейчас «видеоклипами» выступлений поп-групп. Тотальность пространства обеспечивается единством исполнителя и музыки. Постоянное присутствие в нем исполнителей в некотором роде «склеивает» различные его куски. Но это склейка одних поверхностей. Исполнитель попадает из одного пространства в другое без какой-либо оглядки на их взаимную соотнесенность. Все это выглядит как некие прыжки, совершенные безотносительно к какой-либо пространственной гравитации. Принцип этот переходит и в кинематограф.
Пространство становится плоским, теряет глубину. Из трехмерного оно становится двухмерным пространством видеоигр и компьютерных программ. Таким же двухмерным становится воспроизведение человеческой личности. Она превращается в свое подобие, запрограммированное на действия, требуемые по ходу сюжета. Более всего это проявляется в научно-фантастических фильмах, а также в фильмах, где действуют фантастические персонажи из других, мистических измерений (прошлого, будущего), неподвластные законам этого мира[72]72
«Горец», реж. М. Малкахи, 1986. «Большие неприятности в маленьком Китае», реж. Д. Карпентер, 1987.
[Закрыть]. В результате уплощенное электронное пространство по контрасту оттеняет «реальность» пространства кинематографического, считают критики постмодернизма, такие, как французы Бодрийяр и Деборд.
Построение внутрикадрового пространства в постмодернистском фильме, как уже говорилось, характеризуется нагромождением самых разнообразных предметов. Если кадр картины 1960-х годов, подобно архитектурным плоскостям, выглядел максимально освобожденным от всего лишнего согласно заповедям функционализма, то картины наших дней эстетизируют мусор, свалку и распад, когда, как пишет Джеймисон, «даже останки автомобилей сияют какой-то галлюцинаторной красотой»[73]73
Op. cit. P. 76.
[Закрыть]. На смену светлому экстерьеру пришел полумрак, что, как полагает Джеймисон, говорит о «затмении самой Природы», место которой занимают вторичные продукты производства. Если открытое пространство появляется, то, как правило, ностальгически, по контрасту с захламленным клаустрофобичным интерьером.
Джеймисон трактует постмодернистское пространство как «поле стилистической и дискурсивной гетерогенности», которое способно трансформировать поток времени и действия во множество цельных, законченных и изолированных точечных «объектов-событий»[74]74
Ibid. Pp. 65, 70.
[Закрыть]. Однако здесь, как нам кажется, теоретик постмодернизма более общие закономерности во всем объеме приписывает более частному случаю. Говоря о переводе временного поля в пространственное как о процедуре, характерной для постмодернизма, Джеймисон забывает, что перевод этот вообще характерен для кино, что отмечали многочисленные исследователи[75]75
См., напр, Э. Панофски. Стиль и средства выражения в кино.//Киновед. зап. С. 1988, № 3. A. Hauser. The Social History of Art. N.Y. 1951.
[Закрыть], не говоря уже о том, что явление ремифологизации в современной культуре определяется именно этим процессом[76]76
См. Д. Франк, Пространственная форма в литературе.(в сб. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – ХХ вв. М. 1987).
[Закрыть]. Вообще же единство пространственно-временных характеристик в искусстве – вещь универсальная, вспомним понятие «хронотоп», введенное М. Бахтиным: «Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп»[77]77
М. Бахтин. Цит. соч. С. 235.
[Закрыть].
Вопрос, следовательно, заключается в том, насколько глубоко и художественно убедительно осуществляется взаимодействие пространственного и временного рядов. Во многих случаях, действительно, передача характеристик времени через внешние пространственные приметы происходит, главным образом, с помощью «подобий» и «имиджей», что и отмечает Джеймисон: «Мы обречены на то, чтобы видеть Историю с помощью наших собственных поп-имиджей и подобий этой истории, которая, как таковая, остается вне нашей досягаемости»[78]78
F. Jameson. Op, cit. P. 71.
[Закрыть]. В этой перспективе он видит фильмы «ретро» как «отчаянную попытку присвоить недостающее прошлое»[79]79
Ibid. Pp. 66, 67.
[Закрыть] и считает, что предпочтение по отношению к фильмам, использующим цитаты (предыдущих версий или других римейков, романов, лежащих в основе и т. д.), представляет собой попытку выстроить некую «интертекстуальность», которая помогла бы выстроить «псевдоисторическую глубину, в которой история эстетических стилей заменила бы «реальную» историю» (стр. 67). Замечание это может быть справедливо по отношению к одним и несправедливо по отношению к другим фильмам, здесь дело индивидуального подхода. Однако, можно проследить некоторую эволюцию за время сравнительно долгой истории фильмов «ретро». Начались они как реконструкции реальных событий, особенно при документировано переданной канве событий. Это было в самом начале 1970-х годов. Далее, акцент стал переноситься с самих событий на воспроизведение атмосферы времени с помощью тщательно подобранных деталей и любовно воспроизведенных реалий. (Переломным в этом отношении стал «Великий Гэтсби» Д. Клейтона, 1974). Тогда же стал разрабатываться еще один вариант: воспроизведение прошлого в жанровых формах своего времени («Китайский квартал», Р. Поланский, 1974). Это уже был вполне постмодернистский прием: воспроизводилась не столько сама история, сколько представления прошлого о себе самом, его «имиджи» и «подобия», мифологически организованные. Следующим шагом было спуститься в сферу поп-культуры, в результате чего на свет появились уже упоминавшиеся «Исследователи».
Описанная выше разновидность постмодернистского кино продолжает быть весьма продуктивной до сегодняшнего дня, достаточно вспомнить такие разные картины, как «Бал» Э. Сколы (1984) и «Черинг кросс роуд 84» (Д. Джонс, 1986), но построенные совершенно идентично. В первом из них – танец, пантомима, типажность персонажей и возникающие из-за этого конфликты и напряжения передают отдельные узловые моменты недавней французской истории, во второй – хронологически выстраивается диалог не столько двух персонажей, американской интеллигентки и английского книгопродавца, сколько двух социально-исторических контекстов английской и американской жизни, маркированных всем известными приметами повседневной жизни последних сорока лет и социально-психологических типов обеих стран.
В большинстве фильмов (скажем, в таком, как «Назад в будущее») маркированность обедняется и сводится лишь к стилю одежды, поп-музыке и именам телезнаменитостей. Что же касается сравниваемых контекстов, они берутся не столько из реальной истории, сколько из популярных тележанров своего времени. Здесь до сих пор продолжает сохраняться граница между американским и европейским (в частности, английским кино). Англичане, как правило, при отборе маркированных элементов для воссоздания исторических контекстов делают упор на социально-психологических и общенациональных чертах, что свидетельствует о достаточной укорененности традиционного образа жизни в стране или, по крайней мере, о ностальгическом к нему отношении как к чему-то ушедшему, но лелеемому в воспоминаниях. Так, например, построен фильм Д. Бурмена «Надежда и слава» (1987), где глазами девятилетнего мальчика показаны первые годы Второй мировой войны.
Упор на воссоздание исторического или жанрового контекста приводит к тому, что если фильм – комедия, герой как человек оказывается целиком исчерпан своим контекстом. Поэтому, как правило, комедии эпохи постмодернизма – комедии положений. Субъект сводится к своим функциям и внешним проявлениям, в результате чего его временное единство, обусловливающее характер, уступает место контекстуальным, пространственным характеристикам. Экстравертированный, он в буквальном смысле становится экстравертом, а чувства его приобретают некую безличность, почему Джеймисон и говорит о «новом типе эмоционалъного тона»: «эйфории». Подхватывая положение Джеймисона о трансформации глубинного «аффекта» в поверхностный «эффект», В. Собчак констатирует, что в кинематографическом смысле происходит то же самое, на первый план выступает экранный эффект[80]80
V. Sobchack. Screening Space. The American Science Fiction Film. N.Y. 1987, P. 252
[Закрыть]. Так объясняет она, в частности, эйфорическое чувство, создаваемое Спилбергом в фильме «Близкие контакты З-го рода» (1977) при появлении корабля инопланетян, этой эффектной карусели с играющими огнями.
Итак, от сатанинского смеха из глубины преисподни, где написано: «Нет будущего!» до эйфорического ожидания чуда, которое должны сотворить новые мессии – всемогущие инопланетяне, – такова гамма иронического перебирания всех возможных способов выражения с помощью эфемерных «имиджей и «подобий», всех мифологизированных контекстов, выдающих себя за реальные.
Могут ли в этом хоре прозвучать живые голоса, знающие себя на своем единственном и неповторимом месте в бытии, вступающие в разговор с другими такими же и не требующие, в духе Ницше, в титаническом экстазе получить «все или ничего»? «Культурная логика позднего капитализма», как ее видят критики и теоретики постмодернизма, предложить этого не может. Требуется альтернатива.
1988
Триллер против детектива[81]81
Опубликовано в сборнике НИИ киноискусства «Смех, жалость и ужас…: Жанры в зарубежном кино». М. 1994.
[Закрыть]
Определения жанров в кино всегда были в высшей степени приблизительны и в разное время базировались на разных принципах. В одних случаях доминирующим основанием деления служили тематические различия, когда классификацию диктовал объект изображения, в других – на первый план выступал характер трактовки изображаемого. Такие классификации складывались стихийно с самых ранних дней кино, и осуществлялись они не теоретиками-киноведами, а служащими кинокомпаний, составлявшими каталоги фильмов для проката и продажи. Вот, скажем, какие фильмы (даже не фильмы, а «виды», т. е. «запечатленные изображения») значились в каталоге американской фирмы «Байограф» за 1902 г.: «Комические виды; Виды спортивных состязаний и времяпрепровождения; Военные виды; Железнодорожные виды; Сценические виды; Виды известных персонажей; Разнообразные виды; Трюковые картины; Морские виды; Изображения детей; Виды пожаров и полицейских патрулей; Виды Панамериканской выставки; Водевильные виды; Изображения парадов».[82]82
Цит. по: Screen, Spring 1990. Р. 56.
[Закрыть]
Очевидно, что «документальность» съемок здесь преобладает, поэтому о трактовке изображаемого речь, в сущности, не идет. Но вот уже в 1905 году каталог «Оптической компании «Кляйна» предлагает следующие категории отснятого материала: «1. Сочиненное: а) историческое, б) драматическое, в) повествовательное. 2. Комическое. 3. Таинственное. 4. Сценическое. 5. Известные личности».[83]83
Ibid.
[Закрыть]
Здесь на первый план выступает уже характер снятого, эффект им производимый. Так с самых первых ступеней кинематографа в едином эмоциональном комплексе оказались слиты предмет изображения и эмоции, вызванные им у зрителя. Изображение Дальнего Запада в вестерне стало неразрывно связано с понятиями «приключение», «опасность». В таком же эмоциональном ключе мог восприниматься «военный фильм», «гангстерский фильм» и т. д.
Приметы жанра, таким образом, сосуществуют в разных плоскостях, объединяя как материал изображения, так и трактовку этого материала, равно как и психологический механизм его воздействия на воспринимающее сознание. В разное время, в разных исторических условиях, даже у разных режиссеров это соотношение строится по-разному. Скажем, интерес к предмету изображения может характеризовать более документальный стиль, без определенной психологической доминанты, упор же на стилистику, на психологию может (хотя и не обязательно) отодвинуть проблему достоверности на второй план.
В результате жанровые границы в кино оказываются весьма подвижны, одни и те же характеристики могут переходить из одного жанра в другой, да и сами жанры, как показывает история кино, трансформируются от десятилетия к десятилетию.
Такой трансформации и взаимоперетеканию подвергались, в частности, такие жанры, как детектив и триллер.
Их близость обусловлена тем, что и в одном и в другом предметом изображения служит, как правило, преступление; однако перспектива, в которой преступление изображается, весьма различается. В детективе (от лат. detego – раскрываю, разоблачаю) упор делается на раскрытие тайны, главным образом преступления, в триллере (от англ. thrill – прохватывать, волновать) – на переживание самого преступления или процесса его раскрытия.
Как отметил в своем капитальном исследовании В. Михалкович, «триллер противопоставляет стремлению к финальной разгадке, ради которой приносится в жертву и психология и обстоятельное изображение человеческого действия (может быть, полемически), именно сопереживание самому действию».[84]84
Михалкович В. «Что такое триллер?» в сб. Мифы и реальность. М. 1976.
[Закрыть] Основание для такого перехода автор вполне обоснованно усматривает в усилении в 50–60-е гг. социального пессимизма в обществе и, соответственно, в кинематографе. Тревожное ожидание, беспокойство, страх, т. е. чувства, преобладающие в триллере, соответствуют, по мнению В. Михалковича, угасанию в обществе надежд на «эффективность индивидуального действия». Одновременно возрастает степень демонизации общества, противостоящего герою, таинственной мафиозной «Организации», в схватке с которой герой, как правило, терпит поражение.
Тем не менее, если посмотреть на проблему взаимоотношения детектива и триллера в более широкой перспективе, то можно прийти к выводу, что противопоставление «разгадки преступления» «переживанию преступления» носит более общий характер.
Эжен Ионеско однажды заметил, что детектив как раскрытие тайны вообще лежит у истоков литературы, и привел в качестве примера историю Эдипа. Действительно, сюжет трагедии Софокла заключается в том, что Эдип, царь Фив, пытается выяснить причину постигшей город мировой язвы. В результате расследования выясняется, что виной всему оказался сам ничего не подозревающий Эдип, выросший в чужой семье и совершивший два преступления, нарушающих предустановленный космический порядок: отцеубийство (убитый в давней случайной ссоре старик оказался отцом) и кровосмешение (царица Фив, на которой в качестве спасителя города женился в свое время Эдип, была его матерью). Расследование, таким образом, ведет к восстановлению закона и порядка, царствующего, по представлениям древних, не только в обществе, но и в самом мироздании. Нарушителем его может оказаться и, на первый взгляд, совершенно ни в чем не повинный человек, что, тем не менее, совершенно не избавляет его от ответственности и кары (каковой и является самоослепление Эдипа).
Если целостное единство мира осуществлялось, по представлениям древних греков, силою Рока, превзойти которую не может даже воля капризных богов, то в условиях рационалистической веры в науку (ее пик пришелся на конец XIX века) единство мира, как представлялось, может отразить его научная картина, где в стройной системе находятся, словно в собранной головоломке, все его элементы.
Не беда, что некоторых элементов еще нет, они должны со временем быть найдены с помощью того, что уже известно, индуктивным, научным методом. В мире, где господствует научный детерминизм, задача эта вполне осуществима. Не случайно именно на конец XIX века приходится возникновение детектива как самостоятельного зрелого жанра и появление таких классических образов сыщиков, как Шерлок Холмс. Сыщик путем логической дедукции восполняет недостающие звенья (т. е. личность преступника и обстоятельства преступления) и восстанавливает целостную картину действительности. Детектив, таким образом, использует метод ретроспекции, тщательное изучение прошлого. В этом смысле детектив ближе к литературе, где речь, как правило, идет о событиях, уже прошедших, с точки зрения настоящего. Там же, где процесс продвижения к раскрытию тайны драматизируется, на первый план выступают события, мешающие расследованию, тормозящие его (то, что в литературоведении называется приемом ретардации).
Коль скоро цельная картина рано или поздно восстанавливается, мир в глазах зрителя приобретает устойчивость, которой был до этого лишен, ибо подозрение, падающее поочередно на самых разных персонажей, лишает сопереживателя расследования четкой нравственной ориентации. Добро и зло оказываются поставлены на свои места благодаря какой-нибудь мелкой детали, которая, как ключ, все должна объяснить. Такого рода прием может использовать не только чисто детективный жанр. Наиболее ярким примером может здесь служить «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса. На поиске смысла предсмертных слов Кейна «розовый бутон» строится сюжетная канва фильма-расследования истинной природы личности героя, противоречивые стороны которой журналисту-расследователю так и не удается свести вместе из-за утраты детских санок с написанными на них словами-шифром. «Гражданин Кейн» демонстрирует, что расставить все по своим местам не так-то уж просто. Противоречивая человеческая душа не укладывается в плоскую логику поступка.
«Широк человек, надо бы сузить», – вздыхал один из героев Достоевского. Сам же Достоевский в «Братьях Карамазовых» продемонстрировал, что чисто детективный подход сопоставления улик и мотивов не приводит к торжеству истины. По всем логическим выкладкам такого рода именно Митя Карамазов должен был бы оказаться убийцей своего отца Федора Павловича, однако это не так. Механическое совмещение деталей еще не дает картины целого. Для проникноевния в ситуацию требуется не знание формальных обстоятельств, а проникновение в так называемой «человеческий фактор».
Этот «человеческий фактор», – мотивы преступления не только формальные, но и психологические, переживание его, эмоциональный климат его подготовки, совершения и того, что за ним следует, – составляет основу авторского повествования в «Преступлении и наказании». Преступление Раскольникова переживается читателем по мере его подготовки и совершения. На первом месте стоит именно это эмоциональное сопереживание герою, оно прямо пропорционально эффектности (в смысле необычности и накала) события.
Однако, как бы ни было сильно эмоциональное напряжение, которое вызывает повествование у Достоевского, оно не является самоцелью для автора. В каких бы жестоких и страшных обстоятельствах ни оказался герой, автор всегда помнит о личной ответственности человека за свои поступки. «Царь Эдип», например, потому является трагедией, что герой, субъективно не виновный, принимает вину на себя и себя наказывает. Само по себе раскрытие тайны (как в детективе) ничего не решает, а чисто эмоциональное переживание несчастий, обрушившихся на человека, не снимает вопроса о трагической вине. То же обстоит и с романом Достоевского. Потому его и называют «романом-трагедией».
Если же убрать мотив ответственности (причем не чисто юридической, как в детективе, то мы окажемся на территории мелодрамы, где герои претерпевают перемены судьбы и жизненные несчастья совершенно безвинно, поскольку имеет она, как это в свое время сформулировали литературоведы русской «формальной школы», лишь одну эстетическую цель: вызвать «чистую», «живую» эмоцию у читателя.
Таким образом, и детектив, и мелодрама, по сравнению с трагедией, переносят акценты, так как уходят от поиска сущностной причинности. Если в трагедии причиной «перехода от счастья к несчастью» (как гласит аристотелевская формула) является объективная «трагическая вина» героя, пусть даже субъективно не виноватого, но чем-то нарушившего предустановленный порядок жизни, то в детективе и мелодраме наблюдается отход от метафизики, от желания связать настоящее с прошлым в единой картине мира. В детективе связь элементов этого мира видится чисто логической, если в нем и остается понятие ответственности, то только юридической, не затрагивающей оснований мироздания.
Что же касается мелодрамы, то все, что в ней происходит, есть результат игры случая, судьбы, враждебной или благоволящей героям, действующим в данной ситуации, в данных обстоятельствах. Неожиданное наследство или выяснение собственного происхождения демонстрирует не столько глубинную укорененность настоящего в прошлом, сколько эффектный ход, способствующий более острому восприятию настоящего.
При перенесении в кинематограф мелодрама благодаря своей эффектности становится своего рода «аттракционом» в эйзенштейновском понимании этого термина. В аттракционе же, где на первом месте находится его воздействие на воспринимающее сознание, причины, это воздействие вызвавшие, отступают на второй план. Поэтому детективное расследование прошлого интересно в кино не столько с точки зрения выяснения скрытого, пока неизвестного звена всей ситуации, сколько как переживание трудностей, с которыми расследователь встречается на своем пути.
Не случайно из наследия Агаты Кристи экранизировался чаще всего роман «Десять негритят» (в 1945, 1968, 1975, 1989, а также версия С. Говорухина, 1990). Дело в том, что в нем речь идет о раскрытии не одного преступления, а серии убийств, так что на протяжении повествования зритель все время находится в напряженном ожидании, что кто-то может оказаться очередной жертвой.
Был, впрочем, один момент в недавней истории кино, когда классический принцип построения детективного произведения – тесная увязка всех деталей (включая недостающую) в одну картину действительности – оказался аналогичным по философии формы господствующему принципу подхода к реальности как таковой. Это произошло в начале 70-х гг., когда в кинематографе заявил о себе стиль «ретро».
Прошлое в рамках этого стиля воспринимается как законченная система, завершившая какой-то этап своего развития во времени. Поэтому детали воспроизводимой действительности оказываются удивительно плотно состыкованы друг с другом, составляют единую структуру, где все взаимосвязано, обладает определенностью, несет в себе характерные внешние признаки.
Это ощущение строгой взаимоопределенности отдельных деталей, открывающееся при созерцании картины прошлого, тонко прочувствовал Лев Толстой, рассуждая в «Войне и мире» о нашем понимании свободы и необходимости в историческом процессе. «Представление наше о свободе и необходимости, – пишет Толстой, – постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или меньшей связи с нынешним миром, по большему или меньшему отдалению времени и большей или меньшей зависимости от причин, в которых мы рассматриваем явление жизни человека.
Так что, если мы рассматриваем такое положение человека, в котором связь его с нынешним миром наиболее известна, период времени суждения от времени совершения поступка наибольший и причины совершения поступка наидоступнейшие, то мы получаем представление о наибольшей необходимости и наименьшей свободе. Если же мы рассматриваем человека в наименьшей зависимости от внешних условий, если действие его совершено в ближайший момент к настоящему и причины его действия нам недоступны, то мы получим представление о наименьшей необходимости и наибольшей свободе».[85]85
Толстой Л. Н. Собр соч. в 22-х т. М., 1963. Т. 6. С. 372.
[Закрыть]
Из этого рассуждения можно сделать много выводов касательно самых разнообразных характеристик стиля «ретро», однако нас интересует здесь один: роль и вес ощущения общей необходимости, обусловленности и взаимосвязи деталей для функционирования детективного жанра. Не интересно ли, что один из наиболее успешных кинодетективов 70-х гг. «Убийство в Восточном экспрессе» С. Люмета (1974) – типичный «ретрофильм», тщательно воспроизводящий атмосферу времени действия.
Дальнейшие экранизации романов А. Кристи выполнялись в последующие годы по тому же рецепту, но успеха фильма Люмета не повторили. Это «Смерть на Ниле» Д. Гиллермина (1978), «Зеркало треснуло» (1980) и «Зло под солнцем» (1982) Г. Гамильтона. Как показала эволюция «ретрофильма», тщательно подобранных деталей и любовно воспроизведенных реалий оказалось недостаточно; на первый план вышло изображение прошлого в жанровых формах своего времени, когда воспроизводится не столько история, сколько представления прошлого о себе самом так и в тех формах, как это в свое время подавалось.
Так или иначе, кинодетектив как жанр постоянно приобретал дополнительные краски для того, чтобы больше соответствовать кинематографическому принципу возбуждения интереса и эмоциональной вовлеченности зрителя в каждый момент развертывания действия. Главным становится не разрешение загадки прошлого, а напряженное ожидание того, что случится в ближайшем будущем. Прием этот, соответствующий «ретардации» в литературе, в кино называется «саспенс» (если брать английское звучание слова, происходящего от латинского suspendere – подвешивать). Сопереживая действию, зритель должен все время находиться как бы в «подвешенном состоянии». Лишенному эмоций любопытству по отношению к разгадке тайны детектива оказывается противопоставлено эмоционально окрашенное тревожное ожидание: чем разрешится очередной шаг персонажа. Таким образом, «саспенс», как говорил Ф. Трюффо, – это «драматизация повествовательного материала».
Представим себе такую последовательность кадров: человек садится в такси и едет по улице. Никакого особого драматизма в этой ситуации зри тель усмотреть не может. Однако стоит человеку, садясь в такси, взглянуть на часы и воскликнуть: «Боже, я опаздываю на поезд!» – как все приобретает совершенно другую окраску. Каждая остановка на светофоре, каждое замедление движения в гуще транспортных заторов будет восприниматься эмоционально, и зритель будет в постоянной тревоге, успеет ли человек, едущий в машине, вовремя на вокзал.
Этот простой принцип поставил в основу своего подхода к кинематографу Альфред Хичкок, став, таким образом, классиком жанра триллера, который, в конце концов, возобладал над детективом в кино. В фильмах Хичкока, чисто формально построенных как детектив, раскрытие конечной тайны мало что добавляет к восприятию произведения в его целостности. Стремление раскрыть некую загадку является лишь начальным импульсом к целой серии ситуаций, большинство из которых строится на принципе «саспенса», тревожного ожидания, что произойдет дальше.
Хичкок даже придумал специальный термин для обозначения такой запускающей пружину действия тайны. Она называется у него словом «Макгаффин», напоминающим какую-то шотландскую фамилию. Сам Хичкок признавался, что взял это слово из Киплинга, у которого в одном из произведений, где речь идет о краже секретных документов, в купе поезда происходит следующий диалог: «Что это за пакет? – Это Макгаффин. – А что такое Макгаффин? – Приспособление для ловли львов в шотландских горах. – Но там нет львов. – Значит, это не Макгаффин». Диалог состоялся, хотя предмет разговора так и остался невыясненным.
Таким «Макгаффином» становится, например, непонятное словосочетание «39 ступеней» в одноименном фильме 1935 г., смысл которого пытается разгадать герой Роберта Доната, попадающий из одного переплета в другой. Зрителю в конечном итоге гораздо интереснее переживать, выберется ли персонаж из очередной затруднительной ситуации, чем узнать в конце, что «39 ступеней» – это название какой-то таинственной шпионской организации. «Макгаффином» в дальнейшем стали вообще называть всякую мотивацию сюжета, носящую в основном чисто формальный характер. Поэтому так, в общем, не интересна развязка большинства фильмов Хичкока, когда под поведение персонажей подкладывается какая-нибудь элементарная фрейдистская схема, как, скажем, в «Марни» (1964). Гораздо более психологически насыщенным представляется отдельный эпизод, вроде того, когда героиня Типпи Хедрен, подверженная приступам клептомании, пытается унести краденое из конторы, где работает. Она выбирается из помещения, бесшумно ступая босыми ногами, а в это время из кармана ее плаща высовывается снятая предварительно туфелька. Туфелька, выделенная крупным планом, все более и более зависает из кармана, грозя вывалиться и удариться об пол. Этот повторяющийся крупный план то и дело перебивается общим планом офиса, в дальнем углу которого маячит сторож, атмосферу нагнетает тревожная музыка постоянного композитора большинства хичкоковских картин Бернарда Херрмана, и эта готовящаяся выпасть из кармана туфелька по эффектности воздействия ничуть не уступает каким-нибудь более сложно организованным кадрам.
Хичкока у нас одно время совершенно неверно называли автором «фильмов ужасов». Никаких особых ужасов в его картинах нет. Но вот мастером «саспенса» он, безусловно, является, ибо может драматизировать даже самую банальную ситуацию. О таком подходе мастер сам недвусмысленно заявил в своих разговорах с Ф. Трюффо: «Я не хочу снимать «кусок жизни», потому что его можно получить дома, на улице, перед кинотеатром… И я не хочу снимать чистую фантазию, потому что люди должны индентифицировать себя с персонажами. Сделать фильм – это прежде всего рассказать историю. История может быть невероятной, но ни в коем случае не банальной. Она должна быть драматичной и человечной. Ведь что такое драма, как не жизнь, из которой убраны скучные места».[86]86
Truffault F. Hitchcock, N 4, 1997. Р. 76.
[Закрыть]
«Саспенс», как и «аттракцион», завладевает вниманием в момент восприятия и провоцирует на ожидание следующего события. Таким образом, если в единстве причины и следствия детектив ищет причину, то триллер, исходя из неважно какой причины («Макгаффин»), концентрирует внимание на ожидаемом и предвкушаемом следствии. В этом рациональном расчете на реакцию воспринимающих людей триллер оказывается внутренне созвучен по своей логической структуре типу социального поведения, называемому в социологии «целенаправленным действием», который, по М. Веберу, вытесняет «традиционный» и «ценностно-рациональный» типы. Не исходя из чего-то, не в соотношении с чем-то, а в стремлении к чему-то осуществляется в идеале такое действие. Это Вебер считает одним из проявлений общей тенденции исторического процесса, связанной с развитием капиталистической экономики в сторону формальной рациональности, проникающей во все сферы жизни.
В русле той же формальной рациональности, предполагающей наивысшую эффективность, трансформируются в хичкоковском триллере и структурные компоненты мелодрамы. Основополагающий ее признак: что герой не несет в себе трагической вины, нравственно сопрягающей его с превратностями судьбы, – становится одним из главных элементов сюжетной схемы многих фильмов Хичкока. Начиная с «Жильца» (1926) и до «К северу через северо-запад» (1959) излюбленный герой режиссера – человек, попадающий в ситуацию, для него изначально не предназначенную. То его обвиняют в преступлении, в котором он неповинен, то его в результате случайных совпадений принимают за кого-то другого. Уже упоминавшийся герой из «39 ступеней», равно как и персонаж Кэри Гранта из фильма «К северу через северо-запад», проявляют чудеса изворотливости и храбрости, чтобы избежать гибели в результате непрекращающихся, непонятных для них покушений на жизнь. Таким образом, в необыкновенную ситуацию попадает самый обыкновенный человек, что позволяет публике легче идентифицироваться с ним и острее переживать грозящую ему опасность.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?