Текст книги "Могикане Парижа"
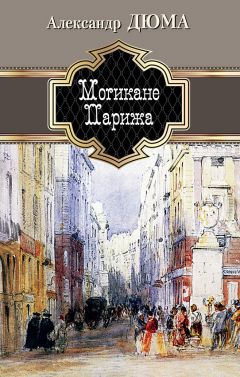
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
IX. Жемчужина Парижа
Камилл вскоре в точности исполнил все, что задумал и обещал Коломбо.
Кармелита, просмотрев счета молодого щеголя, не от казалась принять плату, которую он ей предлагал за рубашки своего заатлантического друга, и с этого дня в ее квартире появились некоторые признаки достатка. Относительно же инструмента она сдалась не так легко, но по настояниям Коломбо, к которому чувствовала дружеское уважение, наконец согласилась.
Она пошла даже еще дальше и стала по очереди брать уроки пения то у Коломбо, то у Камилла.
Кармелита легко и бегло разбирала ноты с первого взгляда; туше[2]2
Туше – свойственная каждому пианисту манера удара по фортепьянному клавишу, придающая оттенок извлекаемому звуку.
[Закрыть] у нее был правильный, приятный; но ее невежество в музыке почти равнялось ее невежеству в любви.
Она играла, вовсе не понимая ни смысла, ни достоинства исполняемой вещи, что вообще составляет громадный недостаток музыкального образования наших молодых девушек, учившихся в пансионах.
Несмотря на все свои музыкальные способности, Кармелита знала только музыку третьестепенную, а о прелестях музыки настоящей, серьезной не имела ни малейшего представления. Зато с первого же объяснения своих учителей по этому поводу она принялась за исправление этого пробела с горячим увлечением. Для нее это казалось целым откровением.
Но между ее учителями скоро завязалась борьба.
Коломбо, серьезный и вдумчивый, как немец, да еще сверх того и ученик Мюллера, находил осуществление всех своих идей и мыслей в музыке немецкой.
Но Камилл, живой и легкомысленный, как неаполитанец, признавал музыку только итальянскую.
В их музыкальных вкусах сказывалась та же разница, которая существовала и в их характерах.
Вследствие этого относительно музыкального образования Кармелиты между ними возникали частые споры.
– Немецкая музыка заставляет все человеческие страсти перелиться в звуки, – говорил Коломбо.
– А музыка итальянская – это мечта, принявшая осязательные формы, – кричал Камилл.
– Немецкая музыка глубока и печальна, как Рейн, текущий между сумрачными елями и скалами, – говорил Коломбо.
– А музыка итальянская весела и эфирна, как Средиземное море, ласкающееся к берегу, поросшему розами, миртами и лаврами, – противопоставлял ему Камилл.
Такого рода стычки, вероятно, продолжались бы до бесконечности, если бы благоразумный бретонец не предложил некоторого рода сделку.
Он устроил так, что Кармелита изучала попеременно то Бетховена, то Чимарозу, то Моцарта, то Россини, то Вебера, то Беллини.
Эти два пути были, разумеется, различны, но, в конце концов, вели к одной и той же цели.
Через три месяца Кармелита уже с замечательным мастерством пела со своими учителями трио.
С этого дня в дом ее вступило счастье, как три месяца тому назад в нем появилось благосостояние.
Почти каждый вечер молодые люди сходились в гостиной Кармелиты, в которой находчивый Камилл велел однажды во время ее отсутствия переменить обои, чтобы хоть несколько отогнать от нее воспоминание о том, что здесь умерла ее мать. Обыкновенно они приходили часов в семь и засиживались до двенадцати, и надивиться не могли, как скоро проходит время.
Коломбо, у которого был прекрасный баритон, с замечательным пониманием пел вещи то Моцарта или Вебера, то Мегюля или Грэтри.
У Камилла был тенор – чистый, звонкий, нежный и свежий, как у серафима, когда он пел арию Иосифа:
«Поля родные! Хеврона мирная долина»! —
в выражении его было столько глубокой нежности, что ни Коломбо, ни Кармелита не могли слушать его без слез.
До сих пор Кармелита никак не решалась петь одна и даже дуэты пела застенчиво.
Голос у нее был поразительно сильный. В некоторых минорных пассажах из этого почти детского рта выходи ли звуки, подобные трубе в оркестре, играющем похорон ный марш. В других местах этот голос звучал, как переливы виолончели. По временам же он доходил до нежности флейты и мечтательной тоскливости эоловой арфы.
Друзья слушали ее всегда с восторгом, и Камилл, который прежде не пропускал ни одного представления в опере, перестал там бывать с тех самых пор, как в пер вый раз услышал свою ученицу, которую прозвал «La gemma di Pargi», т. е. жемчужиной Парижа.
Обоих учителей удивляли поразительные быстрые успехи, которые делала Кармелита с каждым днем.
В один вечер она вдруг пропела им всю партитуру Дон Жуана, которую они принесли ей только накануне. Память ее была поистине уникальная! Стоило ей прослу шать вещь только один-единственный раз, и, четверть часа спустя, она повторяла ее целиком с безукоризнен ной точностью.
У Коломбо была целая библиотека немецких композиторов, но через несколько месяцев Кармелита знала ее всю наизусть. Тогда Камилл взялся быть поставщиком нот для юного филармонического общества и перерыл все магазины, разыскивая своих любимых авторов, творения которых Коломбо презрительно называл латинской стряпней.
Кармелита с жадностью изучала все, что попадалось под руку, и так как пение всегда связывалось у ней с игрой, то скоро из нее вышла не только прекрасная певица, но еще и замечательно талантливая пианистка.
В течение всего вечера они поочередно пели или слушали друг друга. Но после каждой вещи Камилл делал свои замечания, и выходки его были, по большей части, так забавны, что вызывали неудержимый хохот. Иногда он принимался рассказывать какое-нибудь приключение из своих путешествий, но передавал свои похождения в самой скромной и целомудренной форме.
Коломбо чрезвычайно поражало то обстоятельство, что этот легкомысленный человек, который в разговорах с ним ясно доказывал, что побывал в Италии, Греции, Малой Азии и в Египте, как перелетная птица, ничего не видя, не понимая и не помня, рассказывая о тех же странах Кармелите, оказывался и ученым, и художником, и поэтом. Он говорил то о своих розысках среди руин, то о прогулках по берегам озер в светлые лунные ночи, то о бивуаках среди безбрежных пустынь или среди девственных лесов. В эти минуты он становился совершенно другим человеком. В нем вдруг появлялись и увлечение, и страсть, и красноречие, и откровенность.
Коломбо был буквально ослеплен этой переменой. Приятель, которого он знал столько лет, вдруг являлся перед ним в совершенно ином свете. Это был вовсе не легкомысленный и ветреный мальчишка, а чрезвычайно обаятельный и окончательно сложившийся мужчина, в котором с поразительным изяществом сочетался лоск светского человека с капризным авантюризмом худож ника.
Кто же совершил это чудо? Коломбо этого не знал, да и никогда не задавал себе этого вопроса.
А, между тем, причина этой перемены была почти очевидна.
Случалось ли вам видеть павлина, когда он одиноко расхаживает по гребню крыши? Он, бесспорно, красив и тогда, но сколько апатии и уныния во всей его фигуре! Но стоит ему хотя бы издали завидеть паву, он мгновенно преображается и красиво распускает свой цветистый хвост.
Точно так же сверкал цветами своих знаний, красноречия и поэзии и Камилл перед Кармелитой.
Проживи он с Коломбо хоть сотню лет, то ради од ной дружбы никогда не дал бы себе труда развернуть все свои способности и достоинства сразу.
Но тому незримому божку, который парит над голо вой каждой молодой девушки, Камилл был готов приносить всевозможные жертвы из сокровищниц своей памяти, воображения и находчивости.
С двумя старыми друзьями случается то же, что с мужем и женою. Они вовсе не находят нужным стараться нравиться друг другу. Но стоит появиться между ними третьему лицу, – и разговор оживляется, точно между двумя немыми, к которым вдруг возвратилась способность говорить.
Но честный Коломбо приписывал странность перемены, произошедшей в Камилле, единственно капризному и не ровному характеру своего юного любимца.
Что касается Кармелиты, которая провела детство и юность в строгом институте Сен-Дени, потом сделалась сиделкой больной матери и, наконец, пережила ее потерю, то тоска и скука были безысходным гнетом ее жизни, а серьезный бретонец, сам того не замечая, да незаметно и для молодой девушки, только продолжал те серьезные уроки, которые она заучивала в институте.
И если бы теперь кто-нибудь задал ее сердцу откровенный вопрос, кто из этих двоих молодых людей нравится ей больше, она, наверно, инстинктивно, по естественному влечению, не задумываясь, указала бы на Коломбо.
Его серьезный характер не только не отталкивал, но, напротив, привлекал ее, а суждения их о предметах были всегда почти одинаковы.
Личность же Камилла была яркой противоположностью ее собственной. Его живость тревожила ее; его легкомыслие ее возмущало; она была способна бранить его, как бранит младшего школьника, брата, старшая сестра; потому, что ее твердый, решительный характер позволял ей оказывать на Камилла то же влияние, какое имел на него еще со школьной скамьи Коломбо. Она относилась к нему скорее со снисходительностью, которую испытывают к детям, чем с нежностью, которую способен внушить молодой человек.
Если она сидела и работала или просто хотела быть одна, а в это время входил Камилл, она, нисколько не стесняясь, говорила ему:
– Ступайте, Камилл, вы мне мешаете.
Никогда не позволила бы она себе сказать что-нибудь подобное Коломбо.
Впрочем, он никогда и не стеснял ее.
Но, в конце концов, вышло то, что Кармелита стала сама сбиваться в своих собственных чувствах, – стала принимать фамильярность, установившуюся между нею и Камиллом, за привязанность, а почтительную и серьезную любовь, которая жила в ее сердце к Коломбо, за страх.
Казалось, что Коломбо удерживает ее, а Камилл увлекает.
Коломбо любил ее, а Камилл соблазнял.
Ребенок понимает жизнь не иначе, как бесконечную гирлянду цветов, среди которых самый яркий и есть самый лучший. Молодой же девушке любовь представляется землей обетованной, среди которой она будет обрывать цветки венка своих девических мечтаний.
Жизнь с Коломбо была бы ежедневным разумным трудом, жизнь же с Камиллом непрерывным странствованием в странах, изукрашенных всеми творениями фантазии.
Если Кармелите хотелось разучить какую-нибудь арию, о которой говорили вечером, Коломбо говорил ей:
– Хорошо, я доставлю вам ноты завтра же.
Но Камилл, любивший исполнять чужие желания с такой же живостью, как и свои собственные, тотчас же вскакивал и, хотя бы была полночь, хотя бы шел дождь, магазины были заперты, а книгопродавцы спали, летел к магазину, стучал до тех пор, пока ему не отопрут, платил за беспокойство тройные деньги и возвращался с нотами.
Один раз, когда они втроем гуляли в Люксембургском саду, Кармелита как-то совершенно вскользь выразила желание иметь несколько цветков розового каштанника.
– У меня есть один знакомый садовник. Когда вернемся домой, я схожу к нему и принесу вам их хоть целую охапку, – сказал Коломбо.
Но Камилл, ловкий и легкий, как мотылек, не обращая внимания на замечание Коломбо, что они в общественном саду, в несколько секунд очутился на дереве, отломил целую ветку, усыпанную цветами, и с торжеством возвратился на дорожку так, что его не заметил ни один из сторожей.
Вообще, если бы на руку Камилла взглянул хиромант, то, вероятно, был бы поражен прямизной и чистотой линии счастья на его ладони. Это было, действительно, поразительное сочетание везения и смелости.
Эта и ей подобные выходки очень располагали Кармелиту в пользу Камилла и даже заставляли ее восхищаться им.
Даже Коломбо заметил, наконец, ту симпатию, которую креол вызывал у Кармелиты.
– Что ж? Это очень естественно, – думал он, сначала совершенно спокойно, – он хорош собой, изящен, блестящ, а я… Что во мне? Одна тоска да сила.
Но мало-помалу лицо его начинало омрачаться, в сердце зародилась боль.
– Господи, – думал он, – зачем сделал ты меня в двадцать лет серьезным и строгим, подобно старику? Что за скучным супругом буду я для семнадцатилетней девушки, все вкусы которой будут крайней противоположностью с моими! А между тем, все доказывает мне, что я мог бы составить счастье Кармелиты и что у меня хватило бы на это и воли, и силы, и уменья.
Он смотрел на эту веселую пару, и ему начинало казаться, что окружавшие их ореолы счастья и молодости начинают сливаться в один ореол любви.
Он грустно покачивал головою, бледнел и держался в тени, а Камилл и Кармелита, залитые светом, продолжали свою веселую и беспечную болтовню.
– Напрасно обманываешь себя, – продолжал размышлять бретонец, – они любят друг друга! Да, это и естественно, – они точно созданы именно один для другого… А я мечтал о совсем другой будущности для этой девушки!.. Милая Кармелита!.. Я сделал бы из нее знатную и гордую графиню, а Камилл устроит ее лучше, чем я, – он сделает ее счастливой женщиной…
С этого времени Коломбо, несмотря на все терзания тоски и ревности, решил устраниться и уступить Камиллу сокровище, которое берег для себя с такой тайной любовью.
В один вечер Камилл и Кармелита с особенным увлечением пели страстные дуэты, низко наклоняясь друг к другу. Когда пение окончилось и молодые люди пошли к себе, Коломбо положил руку на плечо Камилла.
– Камилл, ты любишь Кармелиту? – проговорил он.
На глазах его стояли слезы, грудь бурно вздымалась.
– Я? – вскричал Камилл и вспыхнул. – Да клянусь тебе…
– Не клянись и выслушай меня, – продолжал Коломбо. – Может быть, ты еще и сам не сознаешь своей любви, но она уже есть в тебе.
– Но Кармелита?.. – проговорил Камилл.
– Я ее об этом не спрашивал, – перебил его Коломбо. – Да и к чему это? Я ведь и так вижу ее сердце. Отношу к вашей чести, что боролись вы оба долго, но влекло вас друг к другу против вашей собственной воли… Ну, так вот что я предлагаю…
– Нет, нет, Коломбо! – вскричал Камилл, – лучше дай мне сначала высказать мой проект. Уж слишком давно я только все получаю от тебя, ничего тебе не давая, пользуясь твоей преданностью безвозмездно! Может быть, ты и прав. Да, я признаюсь, что способен полюбить Кармелиту и изменить нашей дружбе с тобой. Но, клянусь тебе, Коломбо, до сих пор я не говорил ей об этой любви ни одного слова, и до этой минуты, когда ты сам заговорил о ней, я не признавался в ней даже самому себе… Это первая вина, которую я сделал в отношении тебя. Но, повторяю тебе, я сам не замечал этого, не сознавал, как, спускаясь по склону дружбы, дошел до страстной любви. Ты заметил это раньше меня, и – благодарю тебя – ты сам сказал мне об этом, – тем лучше! Время еще не ушло! Да, да, мой честный Коломбо, я был готов полюбить Кармелиту, но теперь эта любовь наводит на меня такой ужас, будто Кармелита жена моего родного брата. Слушая тебя, я заглянул в мое собственное сердце, увидел разверзающуюся там пропасть и решил завтра же уехать.
– Камилл!
– Да, я уеду! Я поставлю между собою и своей страстью непреодолимую преграду, уеду за море и поселюсь в Шотландии или в Англии, оставлю и Париж, и Кармелиту, и даже тебя самого.
Он зарыдал и бросился на диван.
Коломбо стоял перед ним молчаливый и твердый, как скалы его родины, о которые уже шесть тысяч лет бесплодно хлещут морские волны.
– Благодарю тебя за твое великодушное намерение, – заговорил он наконец. – Я нахожу это величайшей жертвой, какую ты только мог мне принести. Но теперь это уже слишком поздно, Камилл.
– Как поздно? – с удивлением спросил креол, поднимая свое залитое слезами лицо.
– Да, слишком поздно! – повторил Коломбо. – Если бы у меня даже и хватило эгоизма воспользоваться твоей жертвой, то разве возможно теперь вырвать из сердца Кармелиты любовь к тебе?
– Так и Кармелита любит меня? Ты в этом уверен? – вскричал Камилл, мгновенно вскакивая на ноги.
Коломбо пристально смотрел ему в лицо, которое вдруг высохло, как под лучами тропического солнца.
– Да, она любит тебя! – проговорил он.
Камилл только теперь понял, сколько эгоизма было в этом взрыве радости, который вспыхнул в его душе и показался в глазах.
– Я уеду! – решительно повторил он. – С глаз долой – из сердца вон.
– Нет, вы не расстанетесь, – ответил Коломбо, – или, вернее, я не разлучу вас. Пойми, что я был бы просто подлецом, если бы не смог победить в себе любовь, которая могла бы сделать несчастными моего брата и мою сестру.
– Коломбо! Коломбо! – почти кричал креол, видя муку, которую старался скрыть бретонец, и пытаясь прекратить ее.
– Не волнуйся обо мне, Камилл. Скоро наступят каникулы, я и уеду.
– Никогда!
– Я уеду, и это так же верно, как и то, что я теперь говорю с тобою. Но обещай мне только одно, Камилл, – прибавил он заметно дрогнувшим голосом.
– Что же именно?
– Обещай, что сделаешь Кармелиту счастливой.
– Коломбо! – вскричал креол и горячо обнял его.
– Поклянись, что станешь уважать ее невинность до самой вашей свадьбы.
– Клянусь тебе в этом перед самим Богом! – торжественно произнес Камилл.
– Ну, вот и хорошо! – сказал Коломбо, утирая глаза.
– Я могу теперь уехать несколькими днями раньше… Пойми, Камилл, – продолжал он заметно глуше, – как бы ни был я силен, но ведь я отрекся от своих надежд еще слишком недавно, и вид вашего счастья все еще составляет для меня нестерпимую муку. Да и, наконец, одно мое присутствие было бы и для вас самих и оскорблением, и помехой… Оно казалось бы вам живым упреком… Так лучше – я уеду завтра, а горе, которое меня гонит, будет иметь хоть ту хорошую сторону, что доставит моему отцу хоть несколько лишних дней счастья.
– Ах, Коломбо! – страстно проговорил креол, снова бросаясь в объятия благородного бретонца. – Ах, Коломбо, какой я жалкий и ничтожный человек по сравнению с тобой! Прости, прости меня за то, что ради меня ты должен отречься от своего величайшего счастья! Но, вот видишь, мой чудный, мой почтенный друг, когда я говорил тебе, что собираюсь уехать, то я лгал тебе. Я ни за что не уехал бы, а просто хотел застрелиться.
– Несчастный! Сумасшедший! – вздохнул Коломбо. – А вот я так уеду – без малейшей мысли о само убийстве. Мне даже думать об этом нельзя: у меня есть отец.
Он помолчал и несколько успокоился.
– А между тем, – проговорил он задумчиво, – ты сам поймешь, что за женщину, которую любишь, умереть ведь можно.
– Да. Я даже не понимаю, как можно жить без нее.
– И это совершенно верно. Мне самому приходили в голову такие мысли.
– Тебе, Коломбо? – переспросил Камилл не без ужаса, потому что знал, что для мрачного бретонца слова эти имели совсем иной смысл, чем для него, легкомысленного сына юга.
– Да, мне, мне, Камилл! – ответил Коломбо. – Только ты не беспокойся, не волнуйся…
– Ах, да! Ты ведь сам сказал: у тебя есть отец.
– Да. Но, кроме отца, у меня есть еще вы двое. Вы мои друзья, а мне было бы страшно, что тень моя будет для вас упреком. Ну, а теперь с богом иди спать. Ты видишь – я спокоен. Теперь мне больше всего на свете хочется поскорее увидеть отца.
Камилл с видимым удовольствием прислушался к этим словам и скоро ушел, оставляя в полном одиночестве Коломбо, который был молчалив, как дерево, лишившееся листвы весною.
– Отец! – проговорил Коломбо в раздумьи. – Кажется, было бы гораздо лучше, если бы я никогда с ним не расставался.
X. Отъезд
Коломбо решил, что уедет на следующий день вечером.
Объяснение с Кармелитой было чрезвычайно тягостно.
Она сидела у себя и работала, когда к ней вошли Коломбо с Камиллом.
Все трое как-то странно молчали. Молодые люди с усилием переводили дыхание, но девушка дышала ровно и была спокойна.
Кармелита была удивлена этим странным молчанием и только что собралась спросить, что оно выражает, как Коломбо грустно проговорил:
– Я уезжаю, Кармелита.
Она вздрогнула и быстро подняла голову.
– Как уезжаете?
– Да, нужно ехать.
– Куда же?
– В Бретань.
– В Бретань? Это почему же? Ведь каникулы начнутся только через месяц.
– Так нужно, Кармелита.
Девушка пристально посмотрела ему в лицо.
– Нужно? – повторила она.
Коломбо собрал все свои силы, чтобы произнести ложь, которую задумал еще накануне.
– Этого желает мой отец, – ответил он.
Но губы честного бретонца так не привыкли ко лжи, что он скорее пробормотал, чем проговорил эти слова.
– Так вы уезжаете!.. А что же будет со мною!? – сказала девушка грустно и с прелестным эгоизмом.
У Коломбо замерло сердце. Он побледнел, как мертвец.
Камилл, напротив, вспыхнул.
– Ведь вы знаете, Кармелита, – сказал Коломбо – в человеческом языке есть слово, о которое разбиваются все наши надежды и желания, и слово это: надо.
Он произнес эти слова с такой твердостью, будто их проговорила сама судьба.
Кармелита опустила голову.
Оба молодых человека видели, как на работу, бывшую у нее в руках, потекли слезы.
Тогда в душе бретонца поднялась тяжелая борьба. Камилл по лицу его видел, как сильно он страдал. Может быть, он даже не выдержал бы, упал перед Кармелитой на колени и признался ей во всем. Но в это время Камилл положил ему руку на плечо и проговорил:
– Коломбо, милейший друг, ради бога, не уезжай!
Эти слова вернули Коломбо всю его твердость.
Камилл знал, что делал и какое влияние произведут его слова на сердце друга.
Большего он не сказал потому, что то, чего он хотел, было достигнуто и этими немногими словами.
Вечер прошел грустно.
Только в самую минуту расставания молодые люди заглянули каждый в свое сердце.
Коломбо понял, что любит Кармелиту непреодолимой, страстной любовью. Вырвать эту любовь из своего сердца значило для него все равно, что вырвать и сердце из груди.
Кармелита тоже поняла, как серьезно и сильно любит она Коломбо. Но когда ночью, среди своих девичьих раздумий она стала размышлять о браке, которым, по ее мнению, должны увенчаться все такие отношения, ей вдруг представился вопрос: позволит ли старый гордый граф, чтобы его сын женился на скромной девушке без гром кого имени.
Отец ее действительно погиб на поле битвы в чине капитана. Но эпоха Реставрации положила между людьми, служившими Наполеону, и теми, кто служил Людовику XVIII, такую непроходимую пропасть, что даже Кармелите было ясно, что граф де Пеноель едва ли согласится на брак сына с дочерью капитана Жерве.
Прежде всего ей пришло в голову, что отец Коломбо узнал о том, в какой дружбе они живут, и вызвал сына, чтобы положить этому конец. Мысль эта возмутила гордость девушки, и она решила больше ни о чем не спрашивать.
Последние часы перед разлукой прошли еще грустнее. У каждого из троих друзей не раз замирали слова на гу бах, а на глаза набегали слезы.
Но даже и в эти мучительные часы бретонец ни одним взглядом не выдал душившей его страсти. Он, как молодой спартанец, не переставал улыбаться. Правда только, что улыбка эта была грустная.
Наконец, настал и самый час отъезда. Коломбо дружески поцеловал Кармелиту в побледневшие и влажные губы и ушел вместе с торопившим его Камиллом.
Креол хотел проводить друга до дилижанса.
В зале для пассажиров Коломбо еще раз отвел Камилла в сторону и заставил поклясться, что он станет уважать девушку, которой предстоит быть его женой, до самой их свадьбы.
Камилл с жаром повторил свою клятву, вернулся на улицу Св. Якова и застал Кармелиту в слезах.
Коломбо, уезжая, не сказал, когда вернется и даже вернется ли когда-нибудь. А между тем она так привыкла к его покровительству, так боялась остаться совершенно одна в мире, так мало доверяла рассудительности легкомысленного Камилла, что отъезд серьезного бретонца привел ее в истинное отчаяние.
Когда к ней вошел Камилл, она горько плакала.
При звуке его шагов она подняла голову, но только затем, чтобы взглянуть, не вернулся ли Коломбо.
Увидев, что он один, она снова зарыдала.
Камилл несколько минут стоял в дверях молча. Он понял, что был для девушки гораздо менее дорог, чем рассчитывал. Следовательно, нужно говорить с нею теперь не о себе, а о друге, сообразил он.
– Коломбо поручил мне передать вам уверение в его неизменной дружбе, – проговорил он вслух.
– Что это за дружба! – сумрачно возразила она. – Хороша дружба, которую можно и завязывать, и разрывать, как вздумается! Если бы мне пришлось уезжать, я сказала бы об этом своим друзьям заранее, а не от правилась бы так, вдруг, без предупреждения.
Она забыла или делала вид, что забывает слова Коломбо о письме старого графа.
Камилл понял, что происходит в сердце девушки, осознал все выгоды, которые представляет ему такое ее настроение, если он им воспользуется. Но Коломбо мог написать Кармелите, и тогда ложь его обнаружится, а он знал, что девушка эта простит ему все, только не ложь.
На этом основании он решил, что лучше держаться как можно ближе к правде.
– Поверьте, что его могли заставить уехать только чрезвычайно важные причины, – сказал он.
– Да что же это за причины, наконец!? Если он не сказал мне их, так, значит, они для меня оскорбительны.
Камилл промолчал.
– Послушайте, скажите мне, ведь вы знаете? – проговорила Кармелита с заметным нетерпением.
– Не могу, Кармелита.
– Вы должны, Камилл! Вы сделаете это, если хотите, чтобы моя дружба с Коломбо оставалась по-прежнему сильной и искренней. Вы даже не имеете права допускать меня до того, что я стану подозревать вашего друга. Я обвиняю его, и вы должны стать его защитником.
– Я сам все это знаю!.. Но вы все-таки не спрашивайте меня, почему он уехал… Не спрашивайте ради него, вас самих, меня, да ради всех нас.
– А я, напротив, именно и настаиваю на том, чтобы вы сказали, – вскричала девушка. – Если вы хотите этим молчанием избавить меня от какого-нибудь горя, то все-таки лучше говорите, потому что для меня нет и быть не может горя больше, чем измена друга. Говорите же, хоть во имя честности!
– Вы этого непременно хотите, Кармелита? – спросил Камилл, как бы сдаваясь.
– Я этого требую!
– Хорошо. Он уехал, потому что…
Он остановился, точно был не в силах владеть языком.
– Ну, говорите же, говорите!
– Коломбо уехал, потому что…
– Почему же?
– Ах, как это тяжело сказать! – вскричал Камилл.
– Значит, вы хотите сказать неправду?
– Нет, истинную, чистую правду!
– Так ее всегда можно сказать скоро и смело.
– Коломбо уехал потому, что… я люблю вас! – выговорил он, наконец.
Он имел полное основание остановиться перед словом «я». Он знал, что Кармелита поймет всю силу его эгоизма.
На нее эти слова произвели впечатление неожиданного удара грома. Она посмотрела на него так пристально, что он невольно вспыхнул.
– Камилл, вы лжете, – проговорила девушка. – Коломбо уехал не из-за вас.
Креол поднял голову.
Его обвинили не в том, чего он опасался.
– Нет, единственно из-за меня! – повторил он.
– Но какая связь между Коломбо и вашей любовью ко мне? – спросила она.
– Он боялся, что сам полюбит вас.
– Добрый, чудный человек! – прошептала Кармелита.
Несколько минут она сидела молча, задумавшись, потом обратилась к Камиллу и сказала:
– Оставьте меня одну, друг. Мне хочется плакать и молиться.
Креол почтительно поцеловал ее руку и уронил на нее слезу.
Что вызвало эту слезу? Боль душевная, стыд или раскаяние?
Кармелита этим вопросом не задавалась. Для нее слеза была слезой, жемчужиной, которую горе извлекает из недр безбрежного океана, называемого сердцем челове ческим.
Возвратись к себе, Камилл с удивлением увидел, что у него светло.
Еще больше удивился он увидев в комнате женщину. То была княгиня де Ванвр. Она услышала, что Коломбо уезжает, и пришла сдать его белье. Но бедняжка опоздала на целую четверть часа. Нести белье обратно домой ей не хотелось, потому она и осталась ждать Камилла. Но тот, вернувшись с проводов друга, пробыл некоторое время у Кармелиты и вошел к себе только в половине одиннадцатого.
Очевидно, возвращаться в такую пору одной было неудобно и даже опасно.
Камилл предложил княгине комнату Коломбо. Она сначала воспротивилась, но, сообразив, что дверь в соседнюю комнату запирается на задвижку, решила остаться.
Осталась ли соседняя дверь заперта или нет – не известно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































