Текст книги "Сальватор"
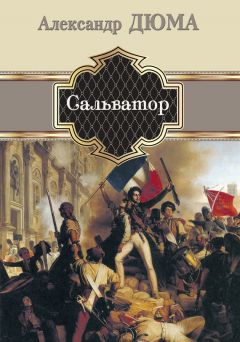
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 89 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава XXVI
Отсрочка
В тот день король был не в самом веселом настроении.
Роспуск национальной гвардии, о котором лаконично сообщил утром «Монитер», вызвал брожение в умах парижских торговцев. Господа лавочники, как их называли господа придворные, вечно всем были недовольны: как мы уже сказали, они ворчали, когда их заставляли заступить на службу, точно так же, как и когда им запретили ее нести.
Так чего же им было нужно?
Июльская революция, – вот чего они хотели.
Добавим к этому, что такая мгновенно разнесшаяся по городу зловещая новость, как вынесение смертного приговора господину Сарранти, только способствовала брожению умов уважаемой части граждан.
И теперь, несмотря на то, что Его Величество отстоял мессу вместе с Их Высочествами господином дофином и мадам герцогиней Беррийской, несмотря на то, что Его Величество уже принял Его Высокопревосходительство канцлера, Их Превосходительств министров, государственных советников, кардиналов, князя де Талейрана, маршалов, папского нунция, посла Сардинии, посла Неаполя, великого референдария палаты пэров, многочисленных депутатов и генералов, несмотря на то, что Его Величество подписал брачный контракт господина Тассена де Лавальера, генерального сборщика налогов департамента Верхние Пиренеи и мадемуазель Шарле, – все эти дела не смогли разгладить морщин на королевском челе. И, повторяем, Его Величество в интервале от часа до двух пополудни 30 апреля 1827 года был далеко не в самом веселом настроении.
Скорее наоборот, лоб его выражал глубокое беспокойство, что вообще-то ему было несвойственно. В этом старом, добром и простодушном венценосце была какая-то детская беззаботность. Он был уверен в том, что идет по правильному пути. Этот последний из рода тех, кто жил под белым стягом, взял для себя девизом девиз своих предков: Делаю, что должен, и будь, что будет!
По своему обыкновению, он был одет в тот самый синий с серебром мундир, в котором Верне изобразил его на параде. На груди у короля висел тот же самый шнур и тот же самый орден Святого Духа, с которым он год спустя примет Виктора Гюго и запретит ему ставить «Марион Делорм». Стихи поэта, написанные по поводу этой встречи, еще пока живы, а «Марион Делорм» будет жить вечно. А где теперь вы, добрый король Карл X, не позволявший поэтам ставить их пьесы?
Услышав, как дежурный дворецкий объявил имя человека, принять которого попросила невестка, король поднял голову.
– Аббат Доминик Сарранти? – машинально переспросил он. – А, ну да!
Но прежде чем дать разрешение войти, он взял лежавшую на столе бумагу и быстро пробежал по ней глазами. И только потом сказал:
– Введите мсье аббата Доминика.
В дверях зала для аудиенции показался аббат Доминик. Остановившись на пороге, он, сложив руки у груди, глубоко поклонился.
Король тоже поклонился. Но не человеку, а священнику.
– Войдите, мсье, – сказал он.
Аббат сделал несколько шагов и остановился.
– Мсье аббат, – снова сказал король, – срочность, с которой я дал вам аудиенцию, должна показать вам, что я особо уважаю служителей Бога.
– Это делает честь Вашему Величеству, – ответил аббат, – и является причиной любви, которую испытывают к вам ваши подданные.
– Я слушаю вас, мсье аббат, – произнес король, приняв ту особую осанку, которая свойственна принцам, дающим аудиенцию.
– Государь, – сказал Доминик, – мой отец был приговорен сегодня ночью к смертной казни.
– Я знаю об этом, мсье. И мне глубоко вас жаль.
– Мой отец был невиновен в тех преступлениях, за которые он осужден…
– Простите меня, мсье аббат, – прервал его Карл X. – Но это мнение не разделили господа присяжные заседатели.
– Сир, присяжные – тоже люди. И, как люди, они могут быть введены в заблуждение внешней стороной дела.
– Согласен с вами, мсье аббат. Это не только утешение сыновьих чувств, но и аксиома человеческого права. Но поскольку правосудие все же отправляется людьми, оно было решено в отношении вашего отца господами присяжными заседателями.
– Сир, у меня есть доказательство невиновности моего отца!
– У вас есть доказательство невиновности вашего отца? – удивленно переспросил Карл X.
– Есть, сир!
– Так почему же вы не предъявили его до сих пор?
– Я не мог.
– Ну, тогда, мсье, пока еще не поздно, дайте это доказательство мне.
– Дать его вам, сир? – сказал аббат Доминик, тряхнув головой. – К несчастью, это невозможно.
– Невозможно?
– Увы! Это так, сир!
– Да что же может помешать человеку снять обвинение с невиновного человека. Особенно, когда этим человеком является сын, а обвиняется его отец?
– Сир, я не могу ответить Вашему Величеству. Но король знает, может ли и захочет ли обманывать тот, кто борется с ложью в других, кто всю свою жизнь проводит в поисках истины, где бы она ни находилась, тот, кто является одним из служителей Бога. И посему, сир, я клянусь дланью Господа нашего, который сейчас видит меня и слышит, Господа, которого я молю наказать меня, если я лгу, я клянусь и заявляю у ног Вашего Величества о том, что отец мой невиновен. Я заявляю это в полном здравии ума и совести и клянусь Вашему Величеству, что настанет день и я дам вам доказательство его невиновности!
– Мсье аббат, – ответил король с величавой мягкостью в голосе. – Вы говорите как сын, и я уважаю чувства, которые подсказывают вам эти слова. Но позвольте мне сказать как королю.
– О, сир, я смиренно слушаю вас!
– Если бы преступление, в совершении которого был обвинен ваш отец и за которое он был осужден, касалось только меня лично, если бы это было слово, политическое деяние, попытка нарушить общественный порядок, оскорбление моей особы или же покушением на мою жизнь и будь я в результате этого ранен или же сражен насмерть, как это сделал Лувель с моим сыном, я поступил бы точно так же, как и мой умиравший сын. Я бы отдал дань вашим одеяниям и вашей набожности и последним моим деянием пощадил бы вашего отца.
– О, сир, вы так добры!
– Но здесь дело совсем в другом: королевский прокурор отвел обвинение в политическом преступлении, а обвинение в краже, в похищении детей, в убийстве…
– Сир! Сир!
– О, я знаю, вам тяжко это слушать. Но, поскольку я отказываю вам в снисхождении, я должен по крайней мере изложить вам причины отказа… Так вот обвинение в краже, похищении и убийстве не было опровергнуто. А это обвинение представляет угрозу уже не королю и не государству, оно направлено не против личности или власти короля. Оно направлено против общества. Отмщения требует сама мораль.
– О! Если бы я имел право говорить, сир! – вскричал Доминик, заламывая руки.
– Эти три преступления, в которых ваш отец не просто обвинен, он в них повинен, поскольку так решили присяжные заседатели, а их решение, согласно данной французам Хартии, сомнению не подлежит, так вот эти три преступления – самые гнусные и мерзкие и заслуживают самого примерного наказания. За самое меньшее из них людей ссылают на галеры.
– Сир! Сир! Пощадите, не произносите этого ужасного слова!
– И вы хотите… Ведь вы пришли молить меня помиловать вашего отца, не так ли?..
Аббат Доминик опустился на колени.
– Вы хотите, – продолжал король, – чтобы в том случае, когда речь идет об этих трех ужасных преступлениях, я, как отец моих подданных, дал повод всем преступникам обращаться ко мне с просьбой о помиловании и чтобы я воспользовался при этом правом – к счастью, оно мне не дано – отменить смертную казнь?.. Послушайте, мсье аббат, ведь вы же – проповедник покаяния! Спросите самого себя, сможете ли вы сказать такому опасному преступнику, каковым является ваш отец, другие слова, чем те, которые говорю вам я, которые подсказывает мне сердце. Я желаю убитому все божественное милосердие, но я должен свершить правосудие, наказав живого.
– Сир! – воскликнул аббат, позабыв обо всех почтительных оборотах речи официального этикета, за соблюдением которого так строго следил этот потомок Людовика XIV. – Сир! Вы совершаете ошибку: с вами говорит не сын, не сын вас умоляет, не сын рыдает у ваших ног. Это говорит вам честный человек, который знает о том, что другой человек невиновен. Людское правосудие уже не в первый раз ошибается, сир! Вспомните Каласа, вспомните Лабарра, вспомните, сир, Лезюркеса! Ваш высокочтимый предок Людовик XV сказал, что отдал бы одну из своих провинций за то, чтобы Калас не был казнен во время его правления. Сир, сами того не ведая, вы позволяете топору упасть на шею человека честного. Сир, именем бессмертного Бога я говорю вам, что виновный останется цел и невредим, а невинный умрет!
– Но в таком случае, мсье, – сказал король взволнованно, – говорите! Говорите же! Если вы знаете, кто настоящий преступник, назовите мне его имя. В противном случае вы будете палачом своего отца! Вы понесете ответственность за его невинную смерть!.. Ну же, мсье, говорите! Это не только ваше право, но и ваш долг!
– Сир, мой долг заставляет меня молчать, – ответил аббат, глаза которого – впервые в жизни – наполнились слезами.
– Коли дело обстоит именно так, мсье аббат, – снова заговорил король, который, видя результат, но не понимая причины, начал сердиться на упрямство монаха, – коли дело обстоит именно так, позвольте мне согласиться с решением присяжных заседателей.
И он кивнул аббату в знак того, что аудиенция закончена.
Но, несмотря на всю величественность этого жеста, Доминик не подчинился. Встав с колен, он почтительно, но твердо произнес:
– Государь! Ваше Величество неправильно меня поняли: я не прошу, или, вернее, больше уже не прошу вас помиловать моего отца.
– Тогда чего же вы просите?
– Сир, я прошу Ваше Величество об отсрочке казни.
– Об отсрочке?
– Да, сир.
– На сколько дней?
Доминик прикинул в уме и сказал:
– На пятьдесят дней.
– Но, – произнес король, – закон дает приговоренному право в три дня подать кассационную жалобу. Она должна быть рассмотрена в течение сорока дней.
– Это обычно так и бывает, сир. Но кассационный суд, если его поторопят, может вынести свой приговор за два дня и даже за один, не ожидая, пока пройдут сорок дней… Да к тому же…
Доминик замялся.
– Так что к тому же?.. – спросил король. – Закончите же вашу мысль!
– К тому же, сир, мой отец не станет подавать кассационной жалобы.
– Как это не станет?
Доминик покачал головой.
– Но в таком случае, – воскликнул король, – ваш отец хочет умереть?
– Он ничего не станет предпринимать, во всяком случае, ничего, чтобы избежать смерти.
– В таком случае, мсье, правосудие будет совершено в установленном порядке.
– Сир, – сказал Доминик. – Бога ради, окажите одному из его служителей милость, о которой он вас попросил!
– Хорошо, мсье, я, возможно, окажу такую милость, но при одном условии: пусть осужденный не относится пренебрежительно к правосудию. Пусть ваш отец подаст кассационную жалобу, а уж я посмотрю, стоит ли ему давать помимо трех дней, положенных по закону, отсрочку в сорок дней, на которую толкнет меня мое милосердие!
– Но сорока трех дней будет недостаточно, сир, – решительно произнес Доминик. – Мне нужны пятьдесят дней.
– Пятьдесят, мсье! Для чего же?
– Для того, чтобы совершить долгое и утомительное путешествие, сир. Для того, чтобы добиться аудиенции, получить которую, возможно, будет непросто. Наконец, для того, чтобы убедить человека, который, как и вы, сир, не захочет, вероятно, чтобы его убедили.
– Так вы отправляетесь в длительное путешествие?
– Да, длиною в триста пятьдесят лье, сир.
– И вы пойдете пешком?
– Пешком, сир.
– Но почему же пешком?
– Потому что именно так путешествуют странники, которые хотят попросить Бога о высшей милости.
– Но если я оплачу дорогу, дам вам денег, сколько будет нужно?..
– Сир, пусть Ваше Величество раздаст эти деньги нищим. Я должен идти туда пешим и босым, и я пойду пеший и босый.
– И вы беретесь через пятьдесят дней доказать невиновность вашего отца?
– Нет, сир, я ни за что не берусь и клянусь королю, что никто другой не взял бы на себя такое обязательство. Но я утверждаю, что после моего путешествия, если я не получу возможности объявить о невиновности моего отца, я смирюсь с людским приговором и стану повторять приговоренному к смерти слова короля: «Взываю к вам милосердие Господне!»
Карла X снова охватило волнение. Он посмотрел в открытое честное лицо аббата Доминика, и в сердце у него зародилось что-то вроде полууверенности.
Но, независимо от его воли – мы ведь знаем, что король Карл X не всегда принадлежал себе, – несмотря на непреодолимую симпатию, которую внушало лицо благородного монаха, являвшееся отражением его сердца, Карл X, как бы для того, чтобы набраться плохого настроения в борьбе с добрым чувством, которое грозило завоевать его сердце, опять взял лежавший на столе листок бумаги, который он прочитал перед появлением аббата Доминика. Король снова быстро пробежал листок глазами, и этого моментального взгляда хватило для того, чтобы подавить в нем доброе настроение, которое было еще неясным. Теперь же смягчившееся от рассказа аббата Доминика лицо короля стало опять холодным, замкнутым, недовольным.
И ему было от чего стать недовольным, замкнутым и холодным: на лежавшем перед королем листке бумаги была изложена краткая история жизни господина Сарранти и аббата Доминика. Это были два портрета, набросанных рукою мастера, как это умела делать конгрегация. Это были два портрета закоренелых революционеров.
Первым было жизнеописание господина Сарранти. Оно начиналось с его отъезда из Парижа. Затем были описаны его похождения в Индии при дворе Рундже-Сингха, его связи с генералом Лебатаром де Премоном, о котором он сам отзывался, как о человеке необычайно опасном. Затем описывался путь его из Индии, который лежал через замок Шенбрун, давались подробности заговора, раскрытого благодаря усилиям господина Жакаля, описывалось падение генерала Лебатара в реку с Венского моста, рассказывалось о путешествии господина Сарранти в Париж и о действиях его вплоть до самого ареста. На полях стояли следующие слова: «Обвинен и признан виновным, кроме того, в краже, похищении детей и убийстве, за что и приговорен к смертной казни».
Что же касается аббата Доминика, то и его биография была изложена не менее подробно. Начиналась она с момента окончания им семинарии. Его называли учеником и последователем аббата Ламеннэ, который уже начал вести свою диссидентскую деятельность. Затем Доминик был изображен посетителем мансард, несущим людям не слово Божье, а революционную пропаганду, была упомянута одна из его проповедей, за которую он подвергся бы критике со стороны вышестоящего церковного начальства, если бы во Франции не был возрожден испанский духовный орден. В конце концов в записке предлагалось отправить его за границу, поскольку его дальнейшее пребывание в Париже представляло собой, по мнению конгрегации, угрозу общественному спокойствию.
В общем и целом из докладной записки, которую бедный король держал перед глазами, выходило, что отец и сын Сарранти были кровопийцами, у которых в руках было страшное оружие: у отца – шпага, с помощью которой он мог свергнуть трон, а у сына – факел, которым он хотел поджечь Церковь.
И поэтому человеку, пропитанному иезуитским ядом, достаточно было только посмотреть еще раз на этот листок, чтобы вновь проникнуться политической ненавистью, которая могла на секунду затихнуть, чтобы потом вновь начать рисовать себе призраки революции.
Король вздрогнул и посмотрел на аббата Доминика недобрым взглядом.
Аббат угадал значение этого взгляда, который коснулся его, словно раскаленное железо. Он гордо поднял голова, поклонился, не сгибая спины, сделал два шага назад и приготовился уйти.
То высочайшее презрение к королю, который не желал прислушаться к велению своего сердца, подчиняясь ненависти кого-то третьего, то уничижительное презрение сильного по отношению к слабому отразилось помимо воли Доминика в его прощальном взгляде, брошенном на короля.
Карл X, в свою очередь, увидел, как это чувство вспыхнуло, словно пламя, во взгляде аббата. Он был все-таки Бурбоном, то есть способным на пощаду, и в душе его зародилось одно из тех угрызений совести, которые испытывал, должно быть, глядя на Агриппу д'Обинье, его предок Генрих IV.
В подсознании у него зародилась истина, или по крайней мере сомнение. Он не посмел отказать в том, что обещал этому честному человеку. Поэтому он окликнул собравшегося уже удалиться аббата Доминика.
– Мсье аббат, – сказал он, – я еще не сказал ни «да», ни «нет» на вашу просьбу. Но не сделал я этого только лишь потому, что перед моими глазами, а вернее, в моем мозгу проносились в это время образы несправедливо казненных людей.
– Сир! – воскликнул аббат, сделав два шага вперед. – Еще есть время, и королю стоит только сказать слово.
– Я даю вам два месяца, мсье аббат, – сказал король со своим обычным высокомерием, словно раскаивался и краснел за то, что допустил появление на своем лице признака малейшего волнения. – Но запомните: ваш отец должен подать кассационную жалобу! Я иногда прощаю непокорность режиму, но никогда не прощу непокорности правосудию!
– Сир, не можете ли вы дать мне разрешение прийти к вам в любое время дня и ночи после моего возвращения?
– Охотно, – ответил король.
Он позвонил.
– Посмотрите на этого господина, – сказал Карл X появившемуся на вызов привратнику. – Запомните его. И когда он придет сюда в любое время дня или ночи, проводите его ко мне. И предупредите об этом стражу.
Аббат поклонился и вышел. Сердце его было наполнено радостью, а возможно, и признательностью.
Глава XXVII
Отец и сын
Все цветы надежды, медленно вызревающие в душе человека и приносящие плоды только в надлежащее время, расцветали в сердце аббата Доминика по мере того, как он с каждой ступенькой удалялся от королевского величества и приближался к согражданам.
Вспоминая о минутах слабости несчастного монарха, он представлял невозможным, чтобы этот человек, согнутый под бременем годов, добрый сердцем, но вялый умом, явился серьезным препятствием на пути великого божества по имени Свобода, которое продвигается вперед с тех пор, как человеческий гений зажег его факел.
И тут, странное дело, – это подтверждало, что план его на будущее был превосходен – перед ним пронеслась вся его прошлая жизнь. Он вспомнил о мельчайших подробностях своей жизни священника, о нерешительности перед принятием обета и о душевной борьбе в момент посвящения в сан священника. Но все эти колебания и сомнения были побеждены разумом, который, подобно огненному столбу Моисея, указал ему путь в обществе и подсказал, что наибольшую пользу людям он сможет принести в качестве священнослужителя.
Подобно волшебным звездам его сознание освещало и указывало ему верный путь. Было всего одно мгновение затмения, когда он чуть было не сбился со своей дороги, но он сумел разобраться в темноте и продолжил свой путь если не укрепившись в вере, то, во всяком случае, с окрепшей решимостью.
По последним ступеням дворца он спускался с улыбкой на губах.
Какая же тайная мысль соответствовала в данной ситуации этой улыбке?
Едва он оказался во дворе дворца Тюильри, как увидел симпатичное лицо Сальватора, который, охваченный беспокойством за исход этого странного поступка аббата Доминика, немного нервничая, поджидал его у выхода.
Но едва увидев лицо бедного монаха, Сальватор понял, что аббат получил то, что хотел.
– Итак, – сказал Сальватор, – я вижу, что король пообещал вам предоставить отсрочку, о которой вы его попросили.
– Да, – ответил аббат Доминик. – В душе он прекрасный человек.
– Вот и хорошо, – сказал Сальватор, – это меня с ним несколько примиряет, и я начинаю чуть более снисходительно относиться к Его Величеству Карлу X. Я прощаю ему его слабости, памятуя о его врожденной доброте. Следует быть терпимым к тем, кто ни разу не слышал правдивых слов.
Затем он внезапно сменил тему разговора.
– А теперь мы поедем в тюрьму «Консьержери», не так ли? – спросил он у аббата.
– Да, – ответил тот просто и пожал руку своему другу.
На набережной они остановили проезжавший мимо свободный фиакр и скоро прибыли туда, куда хотели.
У ворот этой мрачной тюрьмы Сальватор протянул Доминику руку и спросил, что тот рассчитывал делать после свидания с отцом.
– Я немедленно покину Париж.
– Могу ли я быть вам полезным в той стране, куда вы направляетесь?
– Не могли бы вы ускорить выполнение формальностей, которые связаны с получением паспорта?
– Я могу помочь вам получить паспорт без всяких проволочек.
– Тогда ждите меня у себя дома: я зайду за паспортом.
– Нет, лучше я буду ждать вас через час на углу набережной. Вы не сможете оставаться в тюрьме позже четырех часов, а сейчас уже три.
– Хорошо, значит, через час, – сказал аббат Доминик, еще раз пожав руку молодого человека.
И вошел во мрак пропускной будки.
Узник был помещен в ту же самую камеру, где до этого сидел Лувель, а потом будет сидеть Фьеши. Доминика без лишних слов провели к отцу.
Сидевший на табурете господин Сарранти встал и пошел навстречу сыну. Тот поклонился отцу с почтением, с каким обычно приветствуют мучеников.
– Я ждал вас, сын, – сказал господин Сарранти.
В его голосе едва уловимо слышался упрек.
– Отец, – произнес аббат, – если я не пришел пораньше, то в этом нет моей вины.
– Я вам верю, – сказал узник, пожимая обе руки сына.
– Я только что из Тюильри, – продолжил Доминик.
– Вы были в Тюильри?
– Да, я только что виделся с королем.
– Вы разговаривали с королем, Доминик? – удивленно переспросил господин Сарранти, пристально глядя на сына.
– Да, отец.
– Зачем же вы ходили к королю? Надеюсь, не для того, чтобы просить его о моем помиловании!
– Нет, отец, – поспешил заверить его аббат.
– Так о чем же вы его в таком случае просили?
– Об отсрочке.
– Об отсрочке? Но зачем же?
– Закон предоставляет вам три дня для подачи кассационной жалобы. Когда дело неспешное, суд рассматривает кассацию в течение сорока двух дней.
– И что же?
– То, что я попросил два месяца.
– У короля?
– У короля.
– Но почему именно два месяца?
– Потому что эти два месяца нужны мне для того, чтобы раздобыть свидетельство вашей невиновности.
– Я не стану подавать кассационную жалобу, Доминик, – решительно произнес господин Сарранти.
– Отец!
– Я не стану подавать кассации… Это решено. Я запретил Эммунуэлю подавать кассацию от моего имени.
– Что вы такое говорите, отец?!
– Я говорю, что отказываюсь от любой отсрочки казни. Меня приговорили к смерти, и я желаю быть казненным. Я не признаю тех, кто меня осудил, но не палача.
– Отец, выслушайте же меня!
– Я хочу, чтобы меня казнили… Мне не терпится покончить с муками жизни и людской несправедливостью.
– Ах, отец, – грустно прошептал аббат.
– Доминик, я знаю все, что вы хотите мне сказать по этому поводу, знаю, в чем вы хотите и имеете полное право меня упрекнуть.
– О, высокочтимый отец! – сказал на это аббат Доминик, покраснев. – А если я стану умолять вас, стоя на коленях…
– Доминик!
– Если я скажу вам, что доказательство вашей невиновности я смогу показать людям и доказать им, что вы так же чисты, как и свет Божий, проникающий через решетки этой тюрьмы…
– Тогда, сын, после моей смерти это доказательство невиновности станет еще более поразительным и ярким. Отсрочки я просить не буду, а от помилования откажусь!
– Отец! Отец! – в отчаянии воскликнул Доминик. – Не упорствуйте в этом решении, оно грозит вам смертью и станет терзать меня всю мою жизнь. И, возможно, приведет к погибели моей души.
– Довольно! – сказал Сарранти.
– Нет, не довольно, отец!.. – снова заговорил Доминик, опускаясь на колени, сжимая ладони отца, покрывая их поцелуями и орошая слезами.
Господин Сарранти попытался отвести в сторону взгляд и отдернул руки.
– Отец, – продолжал Доминик. – Вы отказываетесь потому, что не верите моим словам. Вы отказываетесь потому, что в голове у вас засела нехорошая мысль о том, что я прибегаю к уловкам для того, чтобы вырвать вас из рук смерти, и хочу продлить вашу благородную и полную добрых деяний жизнь на эти два месяца. Потому что вы чувствуете, что можете умереть в любое время и в любом возрасте и что умрете чистым перед высшим судией, сохранив свою честь.
На губах господина Сарранти появилась грустная улыбка, доказывавшая, что слова Доминика попали точно в цель.
– Так вот, отец, – продолжал Доминик. – Я клянусь вам в том, что ваш сын говорит не пустые слова. Я клянусь вам в том, что здесь у меня, – и Доминик указал рукой на грудь, – есть доказательства вашей невиновности!
– И ты не предъявил их на суде?! – вскричал господин Сарранти, отступив на шаг и глядя на сына с удивлением, смешанным с недоверием. – Ты позволил, чтобы меня судили, ты дал суду возможность приговорить твоего отца к позорной смерти, имея здесь, – и господин Сарранти указал пальцем на грудь монаха, – доказательства невиновности твоего отца?!.
Доминик протянул вперед руку.
– Отец, вы ведь человек чести. И я в этом похож на вас. Если бы я предъявил суду эти доказательства, я спас бы вам жизнь, спас бы вашу честь, но после этого вы были бы первым, отец, кто стал бы меня презирать. И это было бы для вас гораздо более жестокой смертью, нежели смерть от руки палача.
– Но если ты не можешь предъявить эти доказательства сегодня, как ты сможешь предъявить их в будущем?
– Отец, это – еще одна тайна, о которой я пока не стану вам говорить. Эта тайна касается только меня и Бога.
– Сын, – несколько резким тоном сказал осужденный к смерти, – во всем этом есть что-то слишком для меня непонятное. А я никогда не соглашаюсь с тем, чего не могу понять. В этом деле я ничего не понимаю и, следовательно, отказываюсь.
И, отступив на шаг, сделал монаху знак подняться с колен.
– Довольно, Доминик! – сказал он. – Избавьте меня от ненужных споров. Пусть последние часы, которые мы можем провести вместе на этой земле, пройдут в мире и согласии.
Монах тяжело вздохнул. Он знал, что после этих слов отца надеяться ему было уже не на что.
И все же, встав с колен, он продолжал думать, каким еще путем он сможет заставить этого несгибаемого человека, как он звал своего отца, изменить свое решение.
Господин Сарранти, указав аббату Доминику рукой на табурет, сделал, продолжая находиться в состоянии волнения, три или четыре шага по узкой камере. Затем, пододвинув другой табурет к сыну, сел, собрался с мыслями и сказал бедному монаху, слушавшему его с опущенной головой и с болью в сердце:
– Сын, испытывая сожаление от того, что нам суждено расстаться, я должен накануне смерти раскаяться, или скорее поделиться с вами опасениями о том, что я плохо провел свою жизнь.
– О, отец! – вскричал Доминик, поднимая голову и пытаясь взять в свои руки ладони отца, которые тот отдернул, но не по причине холодности, а из опасения снова дать сыну возможность магнетически на него воздействовать.
Сарранти продолжил:
– Да, Доминик, это так. Выслушайте меня и судите об этом сами.
– Отец!
– Повторяю, посудите об этом сами… Как по-вашему, мне нравится говорить это вам, сын, поскольку я считаю вас человеком высокой морали, правильно ли я употребил тот ум, которым наградил меня Господь для того, чтобы я мог принести пользу другим людям?.. Иногда меня охватывают сомнения… выслушайте меня… Мне кажется, что этот ум не принес никому никакой пользы. А ведь мог бы, поскольку является продуктом нашей цивилизации, принести пользу прогрессу общества. А я посвятил свою жизнь служению одной только идее, скорее одному человеку, хотя и великому.
– О, отец! – простонал монах, глядя на господина Сарранти горящим взором.
– Слушайте, сын, – продолжал узник. – Так вот я и говорю, что у меня есть сомнения и я опасаюсь, что шел по жизни неправильной дорогой. И теперь, готовясь покинуть этот мир, я спрашиваю об этом у своей совести и счастлив, что делаю это в вашем присутствии. Не считаете ли вы, что я мог бы лучше употребить ту энергию, которая была скрыта во мне? Правильно ли я использовал те способности, которыми наградил меня Господь? И, поставив перед собой одну цель, сумел ли я достичь ее? Ответьте мне, Доминик.
Доминик снова опустился на колени перед отцом.
– Мой благородный отец, – сказал он, – я не знаю, есть ли под этим небом человек, который более доброжелательно и щедро, чем вы, отдал свои силы на службу делу, которое казалось ему справедливым и правым. Я не знаю человека более честного, чем вы, человека, более преданного и менее корыстного. Да, мой благородный отец, вы выполнили вашу миссию в той мере, в какой ее себе поставили. И камера, в которой мы сейчас находимся, является материальным свидетельством величия вашей души и вашего высшего самопожертвования.
– Спасибо, Доминик, – ответил господин Сарранти. – Если что-то и утешает меня перед смертью, то это мысль о том, что сын мой может гордиться тем, как я прожил мою жизнь. А поэтому, мой единственный отпрыск, я покидаю этот мир без угрызений совести и без сожаления. И все-таки я признаюсь, что у меня еще есть силы, которые могли бы послужить родине. Я выполнил – как мне кажется сегодня – едва ли половину того, что хотел выполнить, того, что виделось мне в далеком и туманном будущем. Но теперь я уже вижу луч лучшей жизни, нечто вроде освобождения моей отчизны, а за этим – как знать – освобождение всех народов!
– Ах, отец! – воскликнул аббат. – Не теряйте из виду, умоляю вас, этот луч надежды. Именно он, как огненный столб, должен вывести народ Франции к земле обетованной. Выслушайте же меня, отец, и пусть Господь вложит убедительность в слова своего ничтожного служителя.
Господин Сарранти провел рукой по взмокшему лбу как бы для того, чтобы разогнать облака, которые могли затмить его мысль и помешать словам сына достичь его разума.
– Теперь пришла пора и вам выслушать меня, отец. Вы только что одним словом осветили социальный вопрос, служению которому благородные люди посвящали всю свою жизнь. Вы сказали: Человек и идея.
Господин Сарранти, пристально глядя на сына, кивнул, подтверждая его слова.
– Человек и идея, именно так, отец! Человек в своей гордыне полагает, что является властелином идеи, в то время как, напротив, идея владеет человеком. Идея, отец, это – дочь Бога, ее дает Бог для того, чтобы выполнить свою огромную работу, используя людей, как орудия своего труда… Послушайте меня внимательно, отец. Иногда я выражаюсь очень туманно…
По прошествии определенных периодов времени идея, подобно солнцу, светит, ослепляя людей, делающих из нее Божество. Она появляется там, где зарождается день. Там, где есть идея, есть и свет. Без идеи везде царит мрак.
Когда идея появилась над Гангом, поднялась над Гималайскими горами, осветила эту примитивную цивилизацию, от которой в память нам остались только традиции, эти доисторические города, которые мы можем видеть только в руинах, вокруг идеи сверкали вспышки света, озаряя, одновременно с Индией, все соседние народы и страны. Но самый яркий свет был только там, где была идея. Египет, Арабия и Персия остались в полутьме. А остальной мир был окутан мраком: Афины, Рим, Карфаген, Кордова, Флоренция и Париж – все эти будущие очаги цивилизации, эти будущие маяки еще не появились из-под земли и никто не знал даже их названий.









































