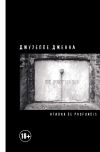Текст книги "Исповедь фаворитки"

Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
XI
Уверившись, что неизвестный действительно проник в сад, мне следовало закрыть окно, опустить занавеску, поспешить в глубь комнаты и запереть дверь на два оборота ключа; разумеется, я поступила бы именно так, если бы находилась в те минуты в ином расположении духа. Но, должно быть, тот, о ком в Писании сказано, что он крадется, яко тать в нощи, уже наметил меня как свою будущую жертву[106]106
Это ссылка на Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам (5:2). Здесь героиня Дюма имеет в виду дьявола, хотя в Писании эта метафора подчеркивает неожиданность явления Всевышнего.
[Закрыть] и не желал давать мне передышку, стремительно увлекая все дальше в бездну.
Вместо того чтобы закрыть окно и спастись бегством, я приклонила ухо к щели, образованной приоткрытыми ставнями, и прислушалась.
Тогда незнакомец, к моему величайшему удивлению, стал нежным, выразительным голосом декламировать шекспировские строки, как если бы мы с ним были призваны сыграть каждый свою роль перед невидимой публикой или, скорее даже, как будто я действительно была Джульеттой, а он настоящим Ромео.
Я внимала затаив дыхание:
Как известно, древние приписывали пению сирен[108]108
Сирены – в древнегреческой мифологии сказочные существа: полуптицы-полуженщины, заманивавшие своим пением мореходов на опасные места и губившие их; в переносном смысле сирена – коварная обольстительница.
[Закрыть] магическое очарование, власти которого Улисс смог избежать только потому, что привязал своих спутников к мачтам корабля, а себе залепил уши воском[109]109
Улисс (рим. именование Одиссея) – центральный персонаж «Одиссеи» Гомера; проплывая мимо острова сирен, привязал себя к мачте, а остальным своим спутникам велел залепить уши воском («Одиссея», XII, 166–200).
[Закрыть]. Увы! Я не была связана никакими путами. Увы, мой слух был открыт и жадно впивал сладостные мелодии любви! Этот голос привлекал меня с неотразимой силой, и я ступила на балкон с трепещущим сердцем и дрожащими губами.
А голос, казалось проникший в тайну моего сердца, продолжал:
Стоит, сама не зная, кто она.
Губами шевелит, но слов не слышно.
Пустое, существует взглядов речь!
О, как я глуп! С ней говорят другие.
Две самых ярких звездочки, спеша
По делу с неба отлучиться, просят
Ее глаза покамест посверкать.
Ах, если бы глаза ее на деле
Переместились на небесный свод!
При их сиянье птицы бы запели,
Принявши ночь за солнечный восход.
Увлеченная чудной поэзией этих строк, я стала входить в роль: припомнила миссис Сиддонс и так же подперла голову рукой. Мой неизвестный Ромео, который, видно, только и ждал момента, когда я освоюсь с мизансценой, продолжал:
Стоит одна, прижав ладонь к щеке.
О чем она задумалась украдкой?
О, быть бы на ее руке перчаткой,
Перчаткой на руке!
Тут уж не оставалось ничего другого, как ответить словами поэта.
О, горе мне!
– вздохнула я.
Голос отозвался со страстью, заставившей затрепетать все фибры моего существа:
Проговорила что-то! Светлый ангел,
Во мраке над моею головой
Ты реешь, как крылатый вестник неба
Вверху, на недоступной высоте,
Над изумленною толпой народа,
Которая следит за ним с земли.
Далее шла моя реплика. Я прижала руки к груди и с выражением, которое должно было осчастливить моего Скрытого в потемках собеседника, отвечала:
Ромео, как мне жаль, что ты Ромео!
Отринь отца да имя измени.
А если нет, меня женою сделай,
Чтоб Капулетти больше мне не быть.
Голос прошептал:
Прислушиваться дальше иль ответить?
Увлеченная своей ролью, я заговорила вновь, придав своему голосу самое ласкающее звучание:
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как-нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
Должна признаться, что я с трепетом ожидала ответа, ведь то была реплика, с которой должен был начаться прямой диалог между мною и моим собеседником. И она не заставила себя ждать: Ромео отвечал с нежностью, которая ни в чем не уступала моей:
О, по рукам! Теперь я твой избранник!
Я новое крещение приму,
Чтоб только называться по-другому.
Читателю нетрудно вообразить нас – меня на моем балконе и моего Ромео, скрытого в темноте, но отделенного от меня столь малым пространством, что, если бы мы оба протянули руки, наши пальцы могли бы соприкоснуться. Мне остается лишь повторить здесь всю шекспировскую сцену до конца, предоставив читательской фантазии самой дорисовать декорации, а заодно и чувства, которые в эти мгновения зарождались в сердце пятнадцатилетней девушки, дебютирующей, если можно так выразиться, сразу в двух областях – пьянящей поэзии и таинственной любви. Итак, далее я обойдусь без комментариев, сосредоточив все внимание на самой шекспировской сцене.
Я
Кто это проникает в темноте
В мои мечты заветные?
Ромео
Не смею
Назвать себя по имени. Оно
Благодаря тебе мне ненавистно.
Когда б оно попалось мне в письме,
Я б разорвал бумагу с ним на клочья.
Я
Десятка слов не сказано у нас,
А как уже знаком мне этот голос!
Ты не Ромео? Не Монтекки ты?
Ромео
Ни тот, ни этот: имена запретны.
Я
Как ты сюда пробрался? Для чего?
Ограда высока и неприступна.
Тебе здесь неминуемая смерть,
Когда тебя найдут мои родные.
Ромео
Меня перенесла сюда любовь,
Ее не останавливают стены.
В нужде она решается на все,
И потому – что мне твои родные?
Я
Они тебя увидят и убьют.
Ромео
Твой взгляд опасней двадцати кинжалов.
Взгляни с балкона дружелюбней вниз,
И это будет мне от них кольчугой.
Я
Не попадись им только на глаза!
Ромео
Меня плащом укроет ночь. Была бы
Лишь ты тепла со мною. Если ж нет,
Предпочитаю смерть от их ударов,
Чем долгий век без нежности твоей.
Я
Кто показал тебе сюда дорогу?
Ромео
Ее нашла любовь. Я не моряк,
Но если б ты была на крае света,
Не медля мига, я бы, не страшась,
Пустился в море за таким товаром.
Последние слова в его устах прозвучали так пылко, что мне уже не потребовалось разыгрывать волнение – с искренним жаром я отвечала:
Мое лицо спасает темнота,
А то б я, знаешь, со стыда сгорела,
Что ты узнал так много обо мне.
Хотела б я восстановить приличье,
Да поздно, притворяться ни к чему.
Ты любишь ли меня? Я знаю, верю,
Что скажешь «да». Но ты не торопись.
Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер
Пренебрегает клятвами любви.
Не лги, Ромео. Это ведь не шутка.
Я легковерной, может быть, кажусь?
Ну ладно, я исправлю впечатленье
И откажу тебе в своей руке,
Чего не сделала бы добровольно.
Конечно, я так сильно влюблена,
Что глупою должна тебе казаться.
Но я честнее многих недотрог,
Которые разыгрывают скромниц.
Мне б следовало сдержаннее быть,
Но я не знала, что меня услышат.
Прости за пылкость и не принимай
Прямых речей за легкость и доступность.
Ромео
Мой друг, клянусь сияющей луной,
Посеребрившей кончики деревьев…
Я
О, не клянись луною, в месяц раз
Меняющейся, – это путь к изменам.
Ромео
Так чем мне клясться?
Я
Не клянись ничем
Или клянись собой как высшим благом,
Которого достаточно для клятв.
Ромео
Клянусь, мой друг, когда бы это сердце…
Я
Не надо, верю. Как ты мне ни мил,
Мне страшно, как мы скоро сговорились.
Все слишком второпях и сгоряча,
Как блеск зарниц, который потухает,
Едва сказать успеешь «блеск зарниц».
Спокойной ночи! Эта почка счастья
Готова к цвету в следующий раз.
Спокойной ночи! Я тебе желаю
Такого же пленительного сна,
Как светлый мир, которым я полна.
Ромео
Но как оставить мне тебя так скоро?
Я
А что прибавить к нашему сговору?
Ромео
Я клятву дал. Теперь клянись и ты.
Я
Я первая клялась и сожалею,
Что дело в прошлом, а не впереди.
Ромео
Ты б эту клятву взять назад хотела?
Я
Да, для того, чтоб дать ее опять.
Мне не подвластно то, чем я владею,
Моя любовь без дна, а доброта —
Как ширь морская. Чем я больше трачу,
Тем становлюсь безбрежней и богаче.
Здесь нам требовался третий персонаж: по ходу действия в этом месте кормилица должна позвать Джульетту. И что же? По воле случая, который, видимо, желал сделать эту иллюзию реальности как можно более полной, в то мгновение, когда пора было прозвучать голосу кормилицы, из глубины комнаты и в самом деле донесся зов. Меня – Эмму на этот раз, а не Джульетту – окликнул какой-то женский голос, и я увидела, как кто-то приблизился к окну.
Уже не имея времени, чтобы изъясняться стихами, я прозой шепнула моему Ромео:
– Подождите, я вернусь.
Войдя в свою комнату, я лицом к лицу столкнулась с Эми Стронг. Мы не видались с самого дня моего прибытия в Лондон, с той минуты, когда я покинула постоялый двор на Вильерс-стрит. Бедняжка была вся в слезах.
Хотя ее появление пришлось не совсем кстати, я бросилась ей на шею со всем жаром юного сердца, что полно до краев и внезапно, изнемогая в жажде излиться, обретает долгожданного друга.
С первых же слов, произнесенных моей подругой по путешествию, я поняла, что история, которую она хочет мне поведать, весьма длинна и Эми не собирается, придя в столь поздний час, покинуть меня ранее завтрашнего утра.
Мне надо было проститься с Ромео; я провела Эми в мою спальню и, вернувшись на балкон, перегнулась через перила, протянув руку. Тотчас две ладони поймали ее, я ощутила прикосновение пылающих губ, и оба наших голоса одновременно шепнули:
– До завтра!
Я возвратилась к себе с бьющимся сердцем: все мои чувства были в страшном волнении, потрясенные тем новым и неизведанным, что проникло в мою кровь с помощью таинственных чар поэзии и любви.
XII
Эми Стронг без труда сообразила бы, что в моей жизни происходит нечто из ряда вон выходящее, но она была так поглощена тем делом, которое привело ее ко мне, что, видимо, ничего не заметила. Едва мы остались вдвоем, она тотчас приступила к своему рассказу.
Речь шла о ее брате Дике, том самом молодом парне, что когда-то занял мое место, взявшись пасти овец миссис Дэвидсон, потом сделался контрабандистом, а недавно вместе с нами отправился из Честера в Лондон. Так вот, этот самый Дик угодил в лапы вербовщиков, занятых очередным принудительным набором матросов для флота его королевского величества. Его уже успели приписать к команде коммодора[110]110
Коммодор – первый адмиральский чин в британском и некоторых других флотах.
[Закрыть] Джона Пейна[111]111
Пейн, Джон Уиллет (1752–1803) – английский контр-адмирал, друг и доверенное лицо принца Георга Уэльского, с 1788 г. – член парламента.
[Закрыть].
Моя задача состояла в том, чтобы умолить этого офицера возвратить юноше свободу. Эми Стронг слышала, что галантный коммодор ни в чем не может отказать хорошенькой куколке: итак, она тотчас подумала, что с моей помощью можно будет добиться желанной милости.
Она осведомилась обо мне у мистера Хоардена, тот послал ее к мистеру Плоудену, последний дал ей адрес мисс Арабеллы, прибавив, что я исчезла, но, возможно, искать меня надлежит именно там.
В тот вечер она заходила дважды. Ей сказали, что меня нет дома – и действительно, я ведь была в Друри-Лейн. Но, полная решимости повидаться со мною в какой бы то ни было час, Эми и в третий раз пришла, причем проявила такую настойчивость, что ее пропустили ко мне, хотя время уже близилось к полуночи.
Как читатель уже успел убедиться, она явилась в тот самый момент, когда, по ходу пьесы, кормилица должна была позвать Джульетту. Ее появление произвело двойной эффект: во-первых, окликнув меня по имени, она как бы вновь превратила меня из Джульетты в Эмму, во-вторых, она меня вынудила проститься с моим Ромео почти в тот же миг, когда Джульетта простилась со своим.
Я пребывала в том счастливом расположении духа, когда кажется, будто твое сердце так переполнено счастьем, что ты можешь одарить им весь род людской. Я обещала Эми Стронг завтра же заняться освобождением Дика. А поскольку она не могла возвратиться к себе в столь поздний час, мы постелили ей на канапе[112]112
Канапе – небольшой диван с приподнятым изголовьем.
[Закрыть], чтобы она до утра побыла у меня, а там уж мы вместе возьмемся за осуществление нашего замысла.
Насколько было известно Эми, сэр Джон Пейн находился на борту своего судна под названием «Тесей», стоящего на якоре в русле Темзы, между Гринвичем и Лондоном[113]113
Гринвич – город на Темзе в 6 км к востоку от Лондона; ныне вошел в состав Большого Лондона.
[Закрыть].
В конце концов Эми все же заметила, что я, в отличие от нее, сияю от восторга. Она рассказала мне о своей беде; что ж, и я поведала ей свою не то чтобы радость – в сущности, у меня ведь не было разумных причин считать себя счастливой, – но рассказала о том, чем было занято мое воображение, о мечтах, которые для молодой девушки составляют если не счастье, то сладкий мираж.
Само собой разумеется, что, пока мы бодрствовали, мой таинственный Ромео был предметом нашего разговора. Я уснула с его именем на устах, и тот поцелуй горел на моей руке – там, где его губы коснулись ее. Нечего и говорить, что моя ночь была исполнена самых пламенных грез.
Рано утром, открывая дверь своей комнаты, я заметила на паркете письмо; по-видимому, его просунули в щель между полом и застекленной дверью, ведущей на балкон. На конверте было написано: «Джульетте».
Распечатав его, я прежде всего взглянула на подпись: тот, кто обращался ко мне, мог назваться по фамилии, но с таким же успехом мог ограничиться лишь именем. Да, подпись гласила: «Гарри».
Потом я прочла письмо, хотя было бы вернее сказать, что я его проглотила.
Впрочем, я уже и сама мало-помалу стала догадываться обо всем. Ромео – Гарри был моим соседом; он увидел меня на балконе в тот вечер, когда я, думая, что осталась наедине с ночью и соловьем, певшим в саду, разыграла сцену из «Ромео и Джульетты»; это он приветствовал мою игру аплодисментами, заставив меня спастись бегством. Тогда ему пришла в голову идея на следующий вечер пробраться в сад, по примеру Ромео пренебрегая риском, с которым связана подобная дерзость, и выманить меня наружу, произнеся первые строки из прекрасной сцены в саду.
Читатель уже знает, что эта хитрость ему удалась.
Объяснения, которые он дал мне насчет самого себя, были кратки. Он студент университета в Кембридже[114]114
Кембридж – университетский город в Англии, а также название старинного университета (основан в 1209 г.).
[Закрыть], но, влекомый к театру, по его словам, неодолимой силой призвания, которое разделяю и я, он предлагает мне вместе попытать счастья в погоне за артистическим успехом и славой.
Он умолял меня непременно прийти на балкон, когда наступит ночь, чтобы дать ему ответ, от которого, как он уверял, зависит все счастье его будущей жизни.
Как я уже сказала, под этим посланием, отнюдь не послужившим к успокоению моего смятенного сердца, стояла подпись: «Гарри».
По-видимому, оно было написано непосредственно после конца нашей так внезапно прерванной сцены, и тот, кто его писал, забрался на мой балкон, но, убедившись, что я не одна и, вероятно, уже не останусь в одиночестве этой ночью, подсунул письмо под дверь.
Все это с полной очевидностью доказывало, что я в своих апартаментах вовсе не нахожусь в такой уж безопасности: стоит только моему соседу проявить дерзость, и мне не останется ничего иного, кроме как весьма быстро, как настоящей Джульетте, перейти от сцены в саду к сцене на балконе.
Увы! Еще одна бедственная особенность моего положения состояла в том, что моя душа так бесстрашно увлеклась историей этой любви. Если Джульетта, наследница Капулетти, то есть одного из благороднейших домов Вероны, призванная поддерживать честь семейства, которое ее обожало, заботливо взрастило в принципах высокой добродетели, следования всем суровым требованиям света, поддалась порыву юного сердца, презревшего все общественные запреты, и принесла в жертву возлюбленному свою невинность, свою честь и репутацию, как могу я, бедная безродная девчонка, обязанная своим воспитанием разве что общественной благотворительности, не знавшая своего отца и почти что не ведавшая материнского присмотра, принужденная с младенческих лет в поте лица зарабатывать свой хлеб, лишенная доброго примера – основы основ истинного воспитания; я, никому не обязанная отчитываться в своих поступках; я, не рискующая, поддавшись увлечению, опозорить свое родовое имя; я, которая, погубив себя, не погублю никого и ничего, кроме себя, – могу ли я даже помышлять о сопротивлении там, где Джульетта уступила?
Я об этом и не помышляла, да и вообще не думала ни о чем, кроме как о счастье вновь увидеть или, если быть точной, увидеть впервые моего неизвестного Ромео, ведь мне так и не удалось разглядеть его черты в ночных потемках. Только по звучанию его голоса я угадывала, что он молод, а по почерку и стилю письма могла судить о его тонком воспитании. Что касается наружности, то я была уверена: он красив, поскольку во всем этом приключении, в том, как он действовал, чувствовалась не только юношеская пылкость, но и уверенность в своей привлекательности.
Я поцеловала письмо и спрятала его на своей груди, у сердца.
Эми за это время уже успела одеться. Нам предстояло одолеть около полутора льё, чтобы добраться до того места, где расположилась английская флотилия. Но предстать перед адмиралом мы должны были не раньше полудня, таким образом, у нас было довольно времени, чтобы позавтракать и лишь после этого отправиться в путь.
Позвонив, я вызвала лакея и спросила, нельзя ли, чтобы нам подали завтрак сюда, в мою комнату. Он отвечал, что мисс Арабелла, уезжая, приказала, чтобы все в доме повиновались моим распоряжениям, как ее собственным.
Когда мы завтракали, слуга осведомился, не надо ли запрячь лошадей и подать карету к подъезду. Не желая, чтобы здесь все узнали, куда мы направляемся, я отказалась, прибавив лишь, что, по всей вероятности, вернусь не раньше вечера. Незадолго до полудня мы вышли из дому. Эми, лучше меня успевшая освоиться с лондонскими обычаями, наняла карету, условившись с кучером о плате за всю вторую половину дня, и мы покатили по направлению к Темзе. В общем, я предоставила Эми распоряжаться всем: мой ум был слишком занят вчерашними впечатлениями. То и дело я прикладывала руку к сердцу, чтобы убедиться, что письмо Гарри на месте и я не потеряла его. Единственным облачком, порой омрачавшим сладостные грезы моего сердца, была мысль о том, что, вместо богатого красавца аристократа, готового тотчас обеспечить мне славу миссис Сиддонс или роскошную жизнь мисс Арабеллы, которая разъезжает в карете, запряженной четверкой коней, судьба послала мне простого школяра, бедного артиста, предлагающего мне лишь одно: об руку с ним вступить на тернистый путь к вершинам театрального искусства.
Но ведь желанное благополучие не было навсегда потеряно, оно лишь откладывалось. Театр – это ведь своего рода храм, где культ красоты значит не меньше, чем культ таланта. И коль скоро я была уверена, что красива, – увы, мне столько раз это повторяли, начиная с бедняги Дика, впервые сказавшего мне об этом в горах Уэльса, и кончая Гарри-Ромео, в чьем письме в то утро я прочла то же, – итак, я знала, что хороша, и надеялась, что талантлива. Стало быть, достижение блистательного успеха было всего лишь вопросом времени. А время у меня было, я могла и подождать.
Таким образом, я остаюсь верна первоначальному замыслу этих записок, до самых потаенных глубин открывая свою душу и помыслы перед людьми, быть может уже успевшими со всей строгостью осудить меня, как и перед Богом, который, смею надеяться, будет более милостив ко мне в час моей кончины.
Если бы я сочиняла роман, я бы могла менять по своей прихоти последовательность и характер событий, сглаживать свои ошибки и приукрашивать грехи. Но я ведь назвала свою книгу «Моя жизнь», следовательно, я не имею права ничего изменить в событиях моей жизни и должна представлять их в истинном их значении, притом со всей возможной искренностью. Я признаю: будь моя книга романом, детищем человеческого ума, можно было бы сказать, что она плохо написана и – того хуже – дурно задумана. Ведь, являясь всего только плодом воображения, описанные в ней события не смогли бы оказать никакого влияния на жизнь окружавших меня людей. Но здесь речь идет совсем о другом. Я ничего не придумываю, а лишь переворачиваю страницу великой книги, что зовется историей человечества, книги, которую своим стальным пером пишет сама Судьба. Это она превратила меня в роковой метеор на небосводе столетия, оказавший пагубное воздействие на современников. Я обязана поведать все, как было, не скрывая даже самых низких своих помыслов, мой долг не утаить ничего, даже самые дурные мои дела, ибо одни вели за собой другие. Мое единственное оправдание в том, что я не хотела, не замышляла и не подготавливала заранее ни единого из тех событий, которые со мной случались. Напротив, я всегда лишь уступала внешним силам, решавшим мою участь независимо от моей воли, слишком слабой, чтобы им противостоять.
Впрочем, признаться ли?… Да, движимая стремлением к суровой истине, я ведь решилась высказать все, даже то, что отчасти может служить и к моему оправданию, – мои худшие поступки или, вернее, худшие события моей жизни почти всегда исходили из благих намерений и превосходных принципов. И то, о чем мне предстоит сейчас рассказать, – моя первая ошибка, послужившая началом как моих падений в глубочайшие бездны позора, так и блистательных взлетов; эта ошибка была мною допущена во имя похвальной цели, продиктована человеколюбивыми соображениями. Ведь я хотела спасти брата моей подруги от самой ужасной участи, какая может выпасть на долю вольнолюбивого британца. И однако почему я вложила в это дело столько настойчивости, такой жар души и сердца? Уж не потому ли, что Дик когда-то первым так безоговорочно признал, что я красива?
Я была так погружена в свои мысли, что не заметила, ни по какой дороге мы едем, ни сколько времени ушло у нас на дорогу. Но вот карета остановилась.
Мы были на речном берегу, а неподалеку на якоре стоял великолепный военный корабль.
Нас уже ждали? Я этого точно не знала, но с тех пор не однажды меня посещало подозрение, что между Эми и коммодором все было условлено заранее. Как бы то ни было, едва мы успели выйти из экипажа, как от «Тесея» отчалила лодка с шестью гребцами и прямо направилась к нам. Все было так ново для меня и столько разнообразных чувств теснилось в моем сердце, что в тот момент такая подробность ускользнула от моего внимания. Я припомнила ее только потом.
Итак, мы тотчас оказались на борту судна.
Первым, кого я увидела, поднявшись по трапу, был Дик, уже переодетый в матросскую форму. Бросившись мне навстречу, он проговорил душераздирающим голосом:
– Ах! Мисс Эмма, сжальтесь над бедным Диком… его судьба в ваших руках.
Я не очень-то поняла, откуда у меня могла взяться столь большая власть, но у бедного парня был такой унылый вид, что я пообещала сделать для него все, что в моих силах.
Подошедший гардемарин грубо оттолкнул его, а нас провели в каюту сэра Джона Пейна.
Эта каюта являла собой один из самых изысканных будуаров, какие мне когда-либо приходилось видеть даже в те дни, когда моя жизнь проходила в будуарах королевы. Ковер был изготовлен из великолепных тигриных шкур; занавеси из лучшего индийского кашемира спускались со стен, когда же их приподнимали, взору являлась коллекция оружия, трофеи богатейших восточных базаров. Сам коммодор восседал, а точнее, возлежал на турецком диване, расшитом золотыми цветами, какие можно было вообразить где-нибудь на берегах Ганга или Босфора; диван же, в свою очередь, покоился на двух бронзовых пушках, сверкающих, словно золото; в обычные дни эти орудия были полностью скрыты под пышными складками ткани, но в часы сражений кашемир отдергивали, оставляя оружие годным к употреблению, диванные подушки, покрывающие орудия, также убирали, и будуар светской красавицы превращался в арсенал английского коммодора.
Сэр Джон Пейн, задрапированный в халат из китайской ткани, был погружен в чтение.
Когда мы вошли, он повернулся в нашу сторону ленивым движением человека, которого побеспокоил нежданный визит. Потом, увидев перед собой двух женщин, он встал.
Я бросила на него быстрый взгляд: при всей его мгновенности этого мне хватило, чтобы увидеть все.
Перед нами был красивый офицер лет тридцати пяти, не более, по-видимому обязанный своим высоким чином не столько военным кампаниям, в которых он участвовал, сколько знатному происхождению и богатству. Одежда коммодора, так же как окружавшая его обстановка, говорила о пристрастии сэра Джона Пейна к блеску и роскоши; нож, которым он разрезал страницы книги, был серебряный с позолотой; на пальцах его сверкали перстни, а часы, лежавшие подле него, были украшены его фамильным вензелем из алмазов. Он распространял вокруг себя, если можно так выразиться, благоухание рафинированного аристократизма.
Эми, рыдая, – она владела поразительным умением проливать слезы, когда хотела, – бросилась к его ногам или, вернее, попыталась броситься, однако он удержал ее и спросил, какова причина ее прихода.
Она, делая вид, будто рыдания мешают ей говорить, дернула меня за руку и сделала мне знак, чтобы я объяснилась вместо нее.
Адмирал, казалось, только теперь заметил меня, он взглянул мне в лицо с таким видом, будто был очарован моей красотой, и предложил мне сесть рядом с ним.
Эми осталась стоять, закрывая лицо платком, и придушенным голосом сказала мне:
– Говори! Говори же! Его милость скорее тебя послушает, чем меня!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?