Текст книги "Княгиня Гришка. Особенности национального застолья"
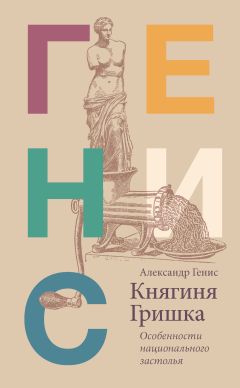
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Ода пирожку
Мы – то, что мы едим. Не только в физиологическом смысле, но и в культурном. Каждое старинное народное блюдо – аббревиатура всей национальной культуры. Поэтому так болезненна унификация гастрономических привычек. Иногда она угрожает самому существованию самобытной культуры.
Скажем, одна из наиболее необычных и по-своему утонченных культур – эскимосская – стала исчезать прямо на глазах изумленного мира всего лишь потому, что эскимосам запретили китобойный промысел. Однако именно эта охота и позволяла северным народам выжить там, где никто больше не мог. Увидев, к чему приводит эта политика, даже “зеленые” забили тревогу, и сейчас эскимосы вновь охотятся на китов, что позволяет им сохранить не только кулинарные обычаи, но и всю этнографическую структуру.
Этот пример – экзотический случай общей тенденции. Глобализация уже вторглась на нашу кухню, и нам остается понять, что она несет с собой, чем угрожает и что обещает.
Проще всего, конечно, за этими процессами проследить там, где они протекают публично – в ресторане. Душа народа скрывается в желудке и раскрывается в ресторане, особенно – в американском. Ведь именно в Новом Свете родилась концепция конвейерного питания, заразившая мир.
Европейский ресторан, привыкший обслуживать высший свет, до сих пор имитирует аристократический обиход, называя посетителей гостями. Ресторан в Старом Свете – вроде арендованного фрака: роскошь для бедных, халифом на час тут может быть каждый. С клиентами, помня о своем прошлом, европейский ресторан обращается с отеческим участием, предусматривающим кулинарный патернализм: меню здесь – прерогатива не гостей, а хозяина. Знаменитые рестораны напоминают театры, где режиссер, такой как великий лионский повар Поль Бокюз, ставит каждый обед не столько для чужого удовольствия, сколько для собственной славы.
Ко всему этому ресторан Нового Света не имеет решительно никакого отношения. Начать с того, что он открыл Америку с другой стороны – в Сан-Франциско. Золотая лихорадка, оставившая мужчин без женщин, а значит без обеда, вынудила этот город завести сеть общепита, особенности которого предопределили гастрономическую судьбу страны. На фронтире еда была скорее необходимостью, чем развлечением. До сих пор американский ресторан всё еще предпочитает деловой ланч приватному и легкомысленному ужину. Порок здесь не любят смешивать с хлебом насущным: едят, пьют и танцуют в Америке в разных местах. Та же нервная и торопливая золотая лихорадка, которая, в сущности, так и не кончилась, изобрела и самообслуживание. По-детски восхитившая Хрущёва, эта система умеет ценить время и самостоятельность клиента.
Выросший на Диком Западе американский ресторан культивирует свободу. Даже те заведения, что не обходятся без официанта, подражают демократическому кафетерию с его утрированной независимостью выбора. Заказ оборачивается долгим диалогом о нюансах салата, степени прожарки мяса и составе гарнира. И на обеде американец хочет оставить отпечаток своей личности. Зато в Старом Свете ресторан уважает вкус повара больше, чем клиента, поэтому тут даже соль не всегда ставят на стол.
Еще одна особенность американских ресторанов – их любовь к экзотике. В Старом Свете считается, что в ресторане кормят как дома, только лучше. Это и есть дом напрокат, призванный устраивать семейное, дружеское или светское застолье. Ресторан в Европе приручен и одомашнен – чуть ли не супружеские узы связывают его с завсегдатаями. Но если европеец обычно ходит в ресторан как в гости, причем – к родственникам, то американец часто отправляется в ресторан как в путешествие: заморская еда – заграничный отпуск скряги. От ресторана в Америке ждут скорее приключений духа, чем тела, удовлетворения не столько гастрономического, сколько этнографического любопытства. Поэтому в Старом Свете ресторан создается под повара, в Новом – вокруг национальной кухни. Повара же может не быть вовсе – его роль играет анонимный, принадлежащий целому народу рецепт.
При всей показной чужеродности американского ресторана есть в нем что-то от гоголевского “иностранца Фёдорова”. Слишком часто его напористая экзотичность оказывается липовой. По-настоящему успешно акклиматизируется тут та кухня, что, убирая лишнее и добавляя необходимое, готова подлогом оплатить билет в Новый Свет. Индийские рестораны уменьшают количество пряностей, японские увеличивают порции, китайские прячут от впечатлительных клиентов змей, корейские – собак, украинские – сало, французские – цены. Только в результате таких бесчисленных компромиссов получается настоящий американский ресторан – свой и чужой сразу.
Наглядным образцом такого заведения является, конечно же, пресловутый “Макдоналдс”, считающийся орудием американского кулинарного империализма. Гамбургер, которым чаще всего кормит посетителей “Макдоналдс”, – незаменимая часть американского обихода. При этом гамбургер ближе скорее американской душе, чем желудку. В этом сказались те странности любви, что соединили этого простого немецкого эмигранта с Америкой.
Гамбургеры, действительно придуманные, но и забытые в Гамбурге, появились в Новом Свете в середине XIX века. За прошедшее время гамбургер приобрел свою классическую форму: сегодня это более или менее произвольная комбинация рубленого мяса, хлеба, овощей и салфеток, мало отличающихся по вкусу друг от друга. Гамбургер не готовится, а составляется из готовых элементов-кубиков. Он – не плод элитарного искусства повара, а итог доступной каждому игры, вроде детского конструктора. И всё же Америка, а за ней и весь мир не может устоять перед незатейливым и вредным соблазном (в одном “Биг Маке” больше жиров, чем в нормальном дневном рационе). Разгадка секрета – отнюдь не в гастрономических достоинствах гамбургера, бесспорно уступающего хорошей русской котлете. Тут виновата метафизика. “Макдоналдсы” предлагают безгрешную пищу – ею можно кормить ангелов. Продукт высокой технологии, а не сельского хозяйства, обед теряет земное, плотское, животное происхождение: мясо берется из холодильника, соус – из банки, булки растут на деревьях. Такой игрушечный обед можно и нужно есть по-детски – руками. Да и сама стерильная, нежная, как бы уже прожеванная пища напоминает о сытной и безмятежной жизни в материнском чреве.
Неудивительно, что храм гамбургеров – “Макдоналдс” – служит Америке запасной семьей. Погружаясь в его знакомую утробу, американец чувствует себя у родного очага. Перемещаясь, он несет этот очаг с собой, что и называется макдональдизацией планеты.
Привычка к эволюционному мышлению вынуждает нас считать глобализацию простым продолжением колониализма – агрессией сильных против слабых, развитого общества против неразвитого, Первого мира против Третьего, Запада против Востока и Севера против Юга. На самом деле перспектива унифицированной культуры, замазывающей глобус американской краской, – призрак закомплексованного сознания. Дорог, ведущих только в одну сторону, не бывает. Рождение планетарной цивилизации – обоюдный процесс, поэтому встречная волна перемен с такой силой обрушивается на Запад, что всё стремительнее подмывает и его устои. Это отражается и на мировой кулинарии. Напав на макдоналдсы с их высокотехнологической продукцией, мы не замечаем, что сам американский общепит давно уже перестал быть собственно американским.
Скажем, самая популярная сегодня во всем мире быстрая еда – fast food – отнюдь не пресловутые гамбургеры, а пришедшая из Италии (точнее из Неаполя) пицца. Сейчас филиалы популярных в США пиццерий работают в 90 странах. Пицца успешно завоевала планету потому, что научилась к ней приспосабливаться. Сохраняя базовые ингредиенты, она использует местные традиции. В Индии добавляют карри, в Китае – моллюсков, на Карибских островах – рыбу. Примерно то же сейчас происходит в Европе с ближневосточным шашлыком-кебабом, вытесняющим традиционные сосиски. Другой пример – суши, рисовый колобок с сырой рыбой. Этот японский бутерброд давно стал незаменимой принадлежностью нью-йоркского, а теперь и московского ланча. Сегодня каждая страна вносит свой вклад во всемирный интернационал еды. Поэтому настоящий вопрос не в том, как бороться с глобализацией, а в том, как участвовать в ней.
Здесь открываются огромные перспективы и у русской кухни. До сих пор ее главный вклад в мировую кулинарию – икра и водка – был слишком тесно связан с праздниками. Пора подумать и о буднях. Первым, конечно, приходит в голову традиционный пирожок. Великий знаток и хранитель российских гастрономических традиций Вильям Васильевич Похлёбкин в своем шедевре “Национальные кухни наших народов” описывал пирожки с энтузиазмом и уважением.
“Они занимают на русском столе видное и всегда почетное место. Это одно из тех подлинно национальных изделий, которое дошло до нас из глубокой древности, избежав какого бы то ни было иностранного влияния. С расширением различных форм внедомашнего труда пироги стали брать с собой на работу, в дорогу. Именно в этот период родилась пословица «В пирог всё завернешь»”.
В этой деловитой, как всё у Похлёбкина, оде пирожкам перечислены как раз те качества, которые могут помочь русской кухне отвоевать себе законное место – хотя бы для будничного, офисного ланча. Ведь, в сущности, пирожок – это русская пицца. Удобные как раз для еды вне дома, в обеденный перерыв, дешевые, сытные и разнообразные пирожки – удачный ответ на вызов макдональдизации. Они это доказывают на практике.
Так русский пирожок вносит свой вклад в разрешение общего для всей постиндустриальной культуры парадокса: планетарная цивилизация одновременно стремится к унификации и боится ее. Чем более одинаковым становится мир, тем выше в нем ценятся локальные черты, национальное своеобразие, всякого рода традиционализм, всё что противостоит универсалистским тенденциям планетарной культуры. Это вопрос не этики, а коммерции. Быть непохожим – выгодно, местное сегодня дороже привозного. Используя локальные ресурсы своеобразия, планетарная цивилизация формулирует принципы того более гуманного жизнеустройства, которое поможет глобализации обзавестись человеческим лицом – и желудком.
Княгиня Гришка
Когда “Русскую кухню в изгнании” перевели на японский, я приехал в Токио.
Чтобы отметить событие, переводчик выбрал ресторан с непроизносимым для него названием: “Волга”. Из русского в нем были стулья (редкость в японском общепите) и негр-швейцар, умевший говорить “спасьибо”.
Осторожно отодвинув иероглифическое меню, я предоставил выбор хозяину. Как нетрудно догадаться, он заказал нам борщ.
Первым делом наряженный матрешкой официант принес хохломские палочки для еды. Заметив мое недоумение, он брезгливо кивнул и добавил к столовым приборам нож с вилкой. Ложкой и не пахло. Борщом, впрочем, тоже. Его внесли позже и по частям: на квадратной тарелке лежало мясо, на овальной – свекла, в пиале – сметана.
– Что будем пить? – спросил хозяин.
– Что скажете.
– Тогда граппу, – решил он, но мне было уже всё равно.
После третьей рюмки итальянского самогона, который в моей молодости назывался чачей, я раскрыл карты.
– Мне приходилось обедать, – оправдывал я “волжского” повара, – в непальской “Красной площади”, где черный хлеб мажут маслом яка, и в пекинской “Москве”, где стиляги разбавляли джин квасом, и в зарослях липовых “Максимов”, раскинувшихся по всё еще кулинарно диким просторам Нового Света. Всюду одно и то же: русская кухня, как славянская душа, не дается иностранцам. Их можно понять. Сродни нашим речам и газетам, она полна эвфемизмов и умолчаний, которые переводятся исключительно подмигиванием. Ну как объяснить чужеземцу, что слова официанта “селедочка, понимаю” подразумевают прежде всего запотевший графин? К тому же ни один словарь, не говоря уже о кулинарной книге, не втолкует пытливому, но чуждому уму, как “закусить мануфактурой”.
Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается “Княгиня Гришка” – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории.
Нашу кухню труднее понять, чем симулировать. Начать с того, что главный ингредиент русского блюда – время. Вы можете сэкономить на всём, кроме него. Тысячу лет Россия никуда не торопилась, а когда время стали подстегивать, выполняя пятилетку в четыре года, в стране появился студень из столярного клея. В советской кухне было много простодушия, но мало простоты. Никто не знал, что попадало в столовские котлеты, где плавал рыбный частик, из какой фауны делался “Завтрак туриста”.
Подлинно патриотическое меню рассчитано на вечность, добрую часть которой занимает приготовление холодца, в рецепте которого интригует строка: “Шесть часов спустя повторно снять пену”. Богатые щи варят два дня в трех бульонах. Кашу, как простуженную, одевают в тулуп и оставляют преть до ужина. Чтобы налепить пельмени, надо ждать зимы. Быстрее всего варится гениальная уха из живой рыбы, но для этого нужна удочка.
Неудивительно, что русской кухне не повезло за границей. Она вроде кириллицы: для своей – слишком самобытна, для чужой – недостаточно экзотична. Лучшее в ней либо украли соседи (шведский “Абсолют”), либо, как американцы – черную икру, объявили вне закона. Всё остальное заменила универсальная приправа к славянскому обеду – балалайка.
Примирившись с неизбежным, русский ресторан за рубежом обычно говорит с кавказским акцентом.
– Ну а как же Брайтон-Бич? – прервал меня поднаторевший в славистике хозяин.
– Брайтон – исключение, утрирующее правило, – отрезал я, но затуманился, вспомнив, как там всё начиналось.
Досуг с матерком, рокеры с пузиком, ударники в тапочках и знакомая одесская дива, исполнявшая частушку: “Слушай, Вайль, а где твой Генис? Разобраться не могу”. Когда демократия наконец победила в нашем отечестве, она повезла свою лебединую песню в Россию, а я стал есть борщ дома.
Вернувшись на Брайтон, как мушкетер, двадцать лет спустя, я с трудом узнал окрестности. Ресторан, честно называвшийся “Одесский”, перешел на латынь – теперь он “Millenium”. Среди гостей встречались смокинги, на эстраде пел итальянский тенор. Стол был накрыт с тонким минимализмом: сашими и суши. Правда, к сырой рыбе все-таки подавали вареную картошку.
Меня утешает лишь то, что Брайтон не исчез, а вернулся, как Солженицын, на родину, где я теперь часто узнаю его черты. Например, в замоскворецком “Трактире”, который в именительном падеже балует посетителей твердым знаком, не только крутят Вилли Токарева, но и подают солянку, исчерпывающуюся томатной пастой и теплой водопроводной водой. Заинтересовавшись рецептом, я спросил у полового, не забыл ли повар положить язык, почки, маслины и каперсы? Посмеявшись над моим невежеством, добряк объяснил, что я перепутал простую солянку с особой, которую отличает как раз отсутствие всего перечисленного. Я понял, что русская кухня в изгнании вернулась домой, и перестал привередничать, радуясь успехам глобализации.
Между тем оставшаяся без своего посольства за границей наша кухня пошла по рукам. Каждый ее трактует как хочет, а хотят немногие.
В этом грустном сюжете есть счастливый эпизод, доказывающий, что в изгнании живут не только короли и диссиденты. Я говорю о бублике.
На заре XX века его привезли в Америку бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идиш: бейгел. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, бублик сохранил если не содержание, то форму и секрет: перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему ни добавишь – лососину, джем, арахисовое масло, он упорно остается собой: удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны непостижимой середины.
Твердо храня эти национальные черты, бублик завоевал Новый Свет, как конквистадоры – не числом, а умением. Перейдя, примерно в то же время, что Набоков, на чужой язык, он втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и вредные французские круассаны.
Раздумывая о причинах этой вкрадчивой победы, я не могу не вспомнить слова Достоевского о “всемирности русского духа”. Готовый принять в себя всё иноземное, бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец, в Калифорнии посыпают сушеными помидорами, на Манхэттене подают с “Нью-Йорк Таймс”. Даже в Москву теперь бублик является инкогнито. Своими глазами видел вывеску на Тверской: “Канадские бейглы”. Так не об этой ли восприимчивости мечтал Достоевский, говоря о “всесоединяющей русской душе”?
– Об этой, – согласился начитанный хозяин, и мы заказали баранок к зеленому чаю из самовара, похожего на борца сумо.
Сырое и вареное
Опытные путешественники, в какой бы город им ни довелось попасть, первым делом отправляются на базар. Если в городе нет базара, то это и не город, но такое случается только в зажиточной Америке. Ведь чем беднее страна, тем богаче ее рынки – отсталая экономика не терпит посредников.
Когда-то базар был причиной города, теперь он часто служит ему оправданием. Посмотреть новые места можно и из самолета, но сдружиться с ними удается лишь на рынке. Желудок – родина души, и базар позволяет познакомиться с ее окрестностями. Его фамильярная бесцеремонность никого не подводит. Базар сразу берет быка за рога и ведет вас на кухню. В гостиной вы успеете побывать сами, когда откроют музеи, в столовую вас отведут корыстные рестораторы, в спальню – как повезет, но, начав день на рынке, вы проведете его своим среди чужих.
Поженив историю с географией, базар образует живой колодец в древность. Здесь продают то же, что сто лет назад, и двести, и триста. Археология съедобного связывает человека с родиной мертвым узлом кулинарных привычек и природных условий. Умный базар – триумф местного над привозным, глупый – вырождается в супермаркет.
Всякий город невозможен без базара, но только на Востоке базар бывает городом. Таков Фес, арабская столица Марокко, которую ЮНЕСКО справедливо считает последней обителью Средневековья. Здесь нельзя не заблудиться, но потеряться вам не дадут стены, надежно запирающие толпу, составленную из людей, ослов и мулов (верблюды остаются за воротами).
Попав на восточный базар, вы неизбежно становитесь его частью: торгуетесь с чеканщиком, пьете мятный чай на коврах арабской кофейни, обедаете кебабом в подозрительной обжорке, лакомитесь пятнистой халвой с лотка мальчишки-разносчика, утоляете жажду у гремящего медью водоноши, пытаете судьбу у звездочета, остерегаетесь лучших в мире карманников и толпитесь без всякого дела, потому что степенно прогуливаться тут негде.
Очень скоро рыночная круговерть укачивает до дурноты. Как в лесной чаще, пространству тут не хватает горизонта, на котором мог бы отдохнуть глаз. Не справляясь с пестротой впечатлений, мозг впадает в дрему, а оставшаяся без управы личность отдается на волю базара.
По-другому экзотичны базары в Андах. Если в Старом Свете рынок умеет заменять город, то в Новом он может предшествовать ему, являя собой единственный оплот цивилизации. Ее здесь исчерпывает взгромоздившийся на пьедестал из картонных ящиков телевизор. По воскресеньям он показывает футбол, а в будни цивилизация не работает. Вокруг голубоглазого идола нежно бурлит базарная жизнь. Тихие, как их ламы, индейцы торгуют только необходимым. Во-первых, листья коки, без которой в этих высокогорных краях не выжить, во-вторых, пятьдесят видов картошки, ни один из которых на своей родине не похож на ту, что мы любим – с укропом, в-третьих, мохнатые морские свинки на жаркое – попав на тарелку, они становятся неотличимыми от крыс, и тогда уже жалеешь не их, а себя.
Но всё-таки самым необычным базаром в моей жизни был тот, возле которого я вырос. Отделавшись от причуд нетривиальной экономики, рижский рынок теперь считается лучшим в Европе. Отчасти этот титул объясняет тусклое балтийское солнце, позволяющее плодам зреть без спешки, отчасти – латышский стол, охотно заменяющий обед копчеными деликатесами, отчасти – местные традиции, понимающие цветы – живыми, сыроежки – солеными, пиво – бочковым, а базар – нарядным; но больше всего, как водится, тут виноваты коммунисты.
Страх перед ними заставил довоенную Латвию обзавестись воздушным флотом. Не привыкнув сражаться, латышские генералы сделали наименее воинственный выбор. Авиацию независимой Латвии должны были составить дирижабли, напоминающие раздувшиеся от гордости кабачки. У тех и других, как известно, видимость больше сути: в кабачках – одна вода, в дирижаблях – воздух. Решив оснастить армию мыльными пузырями, рижане построили для них пять громадных гаражей, занявших изрядную часть городского неба. В них-то и разместился наш знаменитый рынок.
Каждый раз, когда практичный балтийский дух рядится Дон Кихотом, из него получается Санчо Панса. Они даже похожи: ангары базара тоже пузаты. Под их далекими сводами нашли приют и жирные голуби, и жадные ласточки, и дерзкие чайки, и вертлявые воробьи. Вольготно раскинувшись под сенью летучих павильонов, рижский рынок до сих пор хранит всё, что осталось от моего детства, – лесную землянику, преступно отказывающуюся пахнуть в Америке, картошку, не умеющую в Новом Свете быть молодой, и миноги, которые здесь считают сорной рыбой и уничтожают как класс.
Ассортимент родного базара складывается в мою интимную – внутриклеточную – биографию. Разложив ее ребус на прилавке, базар подробно рассказывает о том, как он стал мною, превратив свою плоть в мою.
Таинство этой метаморфозы наделяет рынок не меньшим символическим богатством, чем храм, театр или церковь. Соединив в себе перечисленное, базар разыгрывает величественную мистерию, посвященную, как все они, рождению и смерти.
С первым – проще. Очевидная связь плодов с плодородием наделяет базар той пасторальной эротикой, которую аристократы ценили в пастушках, пионерки – в Тургеневе, торговки – в говядине. Еда эротична уже потому, что один ее вид будит вожделение и заставляет пускать слюнки. Правда, мы, привыкнув к другим протезам сладострастия, утратили очаровательную двусмысленность кухонных сцен, которые заставляли хихикать бюргеров перед изображением курицы, насаженной на вертел. Разучившись видеть в снеди буйную фантазию разбушевавшейся плоти, мы утратили чутье к похабным эмблемам плодородия, хотя на базаре они те же, что в “Плейбое”: твердое и пустое, длинное и круглое, огурец и тыква.
Прозрачно намекая на обстоятельства, ведущие к рождению, базар маскирует румянцем то, что связано со смертью. Но что есть рынок как не похороны всего живого? Базар – полигон небытия, на котором учатся творить силы разрушения. Наливаясь соком, сорванный плод дозревает уже мертвым. Лежа на прилавке, он продолжает жить – то есть стареть, умирать и гнить. Как усы у покойника, на нем растут трупные пятна, которые мы справедливо принимаем за признаки зрелости. Умело дирижируя процессом умирания, базар пользуется и тем, чем все брезгуют, – разложением. Торгуя дичью, он подолгу выдерживает ее в перьях, чтобы по дороге к падали мясо становилось мягче и вкуснее. Прикосновение смерти делает кильку пряной, селедку – сладкой, яблоко – спелым.
Не помню, кстати, яблок вкуснее тех, что мы раскладывали в целях закуски на припорошенном снегом надгробье. Схваченные морозцем, они рдели, как пушкинские красавицы, и отличались особой сладостью. Memento mori в этом натюрморте не случайно, но и не умышленно: уютнее всего в Риге было выпивать на старых кладбищах, под ганзейскими дубами, у нетвердых железных крестов, на которых с трудом читались готические имена и римские цифры.
Танец жизни со смертью сделал гармоничной рыночную палитру. Базар справился с тем, от чего отступились модельеры, – с пестротой. Тошнотворное мелькание цветов вынудило моду сосредоточиться на аскетическом черно-белом варианте, оставив многоцветье природе. Мученье для глаза, пестрота, впрочем, раздражает нас не только в дешевых универмагах, но и в дорогих галереях. Чем больше цветов, тем труднее им ужиться друг с другом. Компрометируя разнообразие, пестрота маскирует серость. Зато радуга не бывает пестрой, как осенний лес, весенний луг – и обильный базар. Дерзкая смесь его урожайных цветов сливается в полнозвучный аккорд, счастливо избегая безвкусного диссонанса.
Разгадка этой гармонии в том, что базарный экспонат, в отличие от художественного, способен умереть, а значит, жить. Цвет бродит в теле продукта, заряжаясь от него той энергией, что продлевает жизнь соленому груздю и квашеной капусте. Попав на картину, благородная рыночная пестрота убивается стерильностью, как маринованный огурец уксусом. Вот почему музей не заменит базара, хотя и старается.
Пасясь на тучных нивах рынка, натюрморт учился жить у мертвой природы. Цветущее разнообразие базара являло полноту существования в его самых аппетитных формах. Впрочем, базар вызывал у художника не только кулинарные, но и обыкновенные восторги. Так, охотничьи трофеи у Снейдерса предназначены для чучела, а не для того скромного застолья, которое так любили изображать его голландские преемники.
Разница красноречива, ибо она указывает на границу двух эпох, школ и культур. Фламандский натюрморт изображает сырые продукты, голландский – приготовленные. Первый крутится на рынке, второй – на кухне.
Если базар – перекресток живого с мертвым, то натюрморт – перекличка сырого с вареным. Перейдя от прилавка к плите, натюрморт перебрался к магическому интерьеру. На место крестьянского двора и базарной площади пришла кухонная мистика, в которой таинство смерти сменила мистерия труда.
Прообраз социального метаболизма, кухня сделала первый шаг по той дороге от базара к фабрике, что привела нас к супермаркету.
Супермаркет – американское изобретение, давно завоевавшее ту часть мира, которая может себе его позволить, – появился на свет не из богатства, а из бедности.
Обстоятельства его рождения убоги: Великая депрессия, городские задворки. Майкл Куллен, открывший первый супермаркет в 1930 году, использовал под магазин заброшенные индустриальные помещения на окраинах. Считалось, и справедливо, что здесь всё дешевле. Но в основе лежала не экономика, а психология.
Супермаркет, сделав из нужды добродетель, охотно демонстрировал всем свою бедность: чтобы лишний раз не раздражать разоренную кризисом Америку, он убрал с ее глаз посредника – продавца.
Супермаркет – эмбрион торговли: товар здесь только отпочковался от производителя и поэтому не успел обрасти жирком прибавочной стоимости. Покупатель приходил не в магазин, а прямо на склад, на оптовую базу, где ему не возбранялось шарить по полкам. Тут он вел себя хозяином, во всяком случае – хозяином положения.
В первых супермаркетах с их казарменной чистотой и армейской дисциплиной еще чувствовалась индустриальная поэтика. Продукты здесь имели отчетливый промышленный, а не аграрный привкус. Штабеля банок и поленницы пакетов казались плодами того бесперебойного конвейерного труда, по которому тосковала страна, где каждый четвертый рабочий стал безработным. Супермаркет тщился если не заменить, то хотя бы напомнить Америке фабрику. Поэтому он так решительно предпочитал штучному до бесконечности размноженный серийный товар, создающий эффект безграничного и вечного изобилия: супермаркет, как природа, не терпит пустоты.
Что касается натюрморта, то, попав в супермаркет, он стал дизайном. Беда в том, что органику нельзя переделать, только – изуродовать, скажем вырастив прямоугольные помидоры, лучше влезающие в ящик. Однако кто станет обедать квадратным? Разве что космонавты. Ироническим комментарием к этим нелепым опытам стали натюрморты поп-арта. Так, одна из ранних картин Энди Уорхола, хотя и называется “Персики”, изображает не фрукты, а консервную банку с ними. Не способный украсить продукт супермаркет прячет товар под паранджой упаковки.
Сегодняшний супермаркет не похож на вчерашний. Постоянно увеличиваясь в размерах, он достиг критической массы и раскололся на множество мелких магазинчиков, собранных под одной крышей: от пекарни и кулинарии до рыбной и зеленной лавки. Его функциональная геометрия расчленилась уютными закоулками. Прямые, как палки, полки дополнились ящиками и бочками. Продукты завернулись в прозрачные одежды, чтобы показать себя, а не рекламную этикетку. И даже продавец – приветливый, но солидный, в фартуке, но и в бабочке – возвращается на свое место. Фабричный ландшафт супермаркета стал вновь напоминать натюрморты. Круг завершился – и супермаркет стал базаром.
Строго говоря, рынок эстетически самодостаточен: он – пейзаж съестного. Живописный от природы, базар дал художнику бесценный урок натюрморта, который помог живописи развести форму с содержанием. Натюрморту свойственна тавтология породившей его вывески – “я есть то, что есть”: селедка, изображающая селедку. Избавив картину от повествовательности, он заменил ее, как говорил Мандельштам, “мудрой физиологией кисти”. Увлекшись исследованиями фактуры и приключениями света, натюрморт освободил искусство от смысла, идеи и темы. Перестав рассказывать истории, он давал высказаться изображенным предметам, превращая полотно в театр вещей.
Заразившись на базаре фундаментальной простотой, натюрморт обновлял искусство, обучая его вещной азбуке.
Никто не владел ею лучше Заболоцкого. Пророк натюрморта, придавший ему космическое значение, он умел “глядеть на предмет голыми глазами”. Подчиняясь этому колдовскому взгляду, мертвая натура разыгрывала трагикомическую мистерию базара.
В поэтических натюрмортах Заболоцкого секс и голод правят миром, сидя за балыком:
Хочу тебя! Отдайся мне!
Дай жрать тебя до самой глотки!
Мой рот трепещет, весь в огне,
Кишки дрожат, как готтентотки.
Желудок, в страсти напряжен,
Голодный сок струями точит,
То вытянется, как дракон,
То вновь сожмется что есть мочи,
Слюна, клубясь, во рту бормочет,
И сжаты челюсти вдвойне…
Хочу тебя! Отдайся мне!
Трактуя пищеварение как совокупление, Заболоцкий – вслед за природой – соединяет зачатие со смертью.
Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею проклинает детство
Цыпленок, синий от мытья.
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик.
Так, увязывая сырое с вареным, как мертвое с живым, поэтика базара не только подражает мирозданию, но и исчерпывает его.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































