Текст книги "Дао путника. Травелоги"
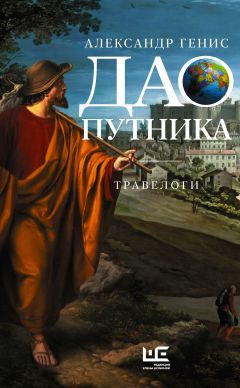
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Короли и капуста
Наслаждаясь вниманием, маляр позировал веренице туристов, снимавших его по пути к Трафальгарской площади. Измазанный и веселый, он гримасничал в камеру, успевая крыть свежим слоем краски телефонную будку. К очередному юбилею Елизаветы Лондон наводил блеск, украшая себя по нашему вкусу. Будка выходила нарядной и старомодной, как елочная игрушка. Она напоминала все, что я люблю в Англии: Диккенса, Холмса, чай и империю, которая на старых картах была окрашена примерно тем же цветом. Не выдержав, я пристал к маляру.
– Скажите, сэр, у этого оттенка есть особое название?
– Бесспорно.
– Как же называется эта краска?
– Красной, – ответил он на радость угодливо рассмеявшимся окружающим.
Но и это меня не отучило задавать вопросы. Тем же вечером, сидя за типичной для этого острова бараниной, я допрашивал хозяев, объединивших браком две антагонистические культуры. Полагая свою империю антиподом российской, британцы считали себя архипелагом закона в океане самовластия.
– Вы, – говорили местные еще Герцену, – так привыкли путать царя с правом, что не умеете отличить раболепия от законопослушания.
Помня об этом, в Лондоне я переходил улицу на красный свет только тогда, когда никто не видел, кроме своих, разумеется.
– Наша любимая на Западе столица, – сказал мне за обедом соотечественник и тут же себя вычел: – их тут уже четыреста тысяч.
Но меня больше интересовали местные, и я объяснился в любви его английской жене:
– Британцы – нация моей мечты.
– И зря, – срезала она, – ибо таких нет вовсе. Британский народ – выдумка. У англичан столь мало общего с остальными, что к северу от Эдинбурга я не понимаю ни слова. Шотландцы и на вид другие: dour.
– С кислой рожей, – с готовностью перевел муж.
– А валлийцы?
– Эти – загадка, они всегда поют, как ирландцы, только те еще и пьют. Англичане хотя бы вменяемые.
– Не на футболе.
– Но это святое.
– Что же вас сплотило в империю?
– История: королей без счета.
– А где короли, – вновь перевел муж, – там и капуста.
Монархия приносит прибыль, Лондон переполняют туристы, и каждый находит себе короля по вкусу. Одних интригует Эдуард Исповедник, альбинос с прозрачными пальцами, которыми он исцелял чуму. Других – соблазнительный злодей Ричард Третий, которому Шекспир приделал горб. Третьих – Генрих Восьмой, который любил женщин и казнил их. С королевами англичанам везло еще больше: две Елизаветы плюс Виктория.
Английская монархия стала главной достопримечательностью. Обойдясь (после Кромвеля) без революций, Англия сумела сохранить свою аристократию и найти ей дело. Раньше они творили историю, теперь ее хранят – на зависть тем, кто не сумел распорядиться прошлым с умом и выгодой.
С тех пор как Великобритания перестала быть такой уж великой, она сосредоточилась на экспорте наиболее привлекательных ценностей – традиций и футбола. Болельщиков английских клубов в десять раз больше, чем самих англичан. Остальной мир следит за королевскими свадьбами, не говоря уже о разводах. Расшитая золотом и украшенная мундирами Англия сдает напрокат средневековую легенду Старого Света, ставшую в Новом сказкой и Диснейлендом.
В Тауэре, однако, играют всерьез, и никто не видит в церемонии маскарада. Рассматривая священные атрибуты коронации – от тысячелетней ложки для помазания до потертой мантии, – я заметил, что корона почти новая, 1937 года.
– А что случилось со старой? – спросил я у охранника.
– Сносилась, – ответил он с таким лаконичным высокомерием, что я сразу понял: революции не предвидится.
Даже с учетом британской нефти монархия остается самым полезным ископаемым. К тому же содержать Букингемский дворец несравненно дешевле, чем Белый дом. Другое дело, что королей было больше, чем президентов. Чтобы зря не мучить школьников, монархов им отпускают в нагрузку к анекдоту.
– Кто была женой Генриха Седьмого? – спрашивает экскурсантов викарий, показавшийся мне цитатой из английского детектива.
Дождавшись унылого молчания, он сам ответил:
– Елизавета Йоркская. Запомните, что в карточной колоде именно ее изображает дама червей.
История оживилась, подростки тоже, и я позавидовал их школе, ибо моя обходилась цепью исторической необходимости, сковавшей Ленина со Стенькой Разиным.
Несмотря на веселую науку, лучше английских школьников островную хронику знают американские пенсионеры. Во всяком случае, те старушки с голубыми буклями, что сравнивали надгробия Вестминстерского аббатства с привезенным из дома генеалогическим деревом.
В Америке это бывает: недостаток своей истории компенсируют избытком чужой, что позволяет процветать геральдическому рэкету. От него я узнал, что принадлежу к славному роду ирландских пивоваров, но Гиннесс, не признав во мне родича, отказал в скидке, и я перешел на светлый эль.
Английский паб – аристократ народа. Обходя родословную нынешней династии, он не выносит нуворишей и гордится прошлым, навязывая его прохожим. Вывески пабов – самая живописная деталь лондонской улицы, которая, в отличие от парижской, часто бывает безликой. Зато паб не бывает скучным.
– Экзотическим может быть только заурядное, – утверждал Честертон, – английский собор не слишком отличается от континентального, но неповторим абрис лондонского кэба.
Сегодня кэбы превратились в такси, сохранив ту же горбатость, а пабы не изменились с тех пор, когда король приказал хозяевам заменить универсальную зеленую ветку индивидуальной вывеской. Поскольку тогда почти никто не умел читать, названия придумали такие, которые мог изобразить столяр и художник. Нарядные, как “Белый лев”, фантастические, как “Единорог”, или нелепые, как упомянутый Джеромом “Свинья и свиток”, все пабы хороши. Неудивительно, что в Лондоне пьют пиво, как в Риме – кофе: не когда хочется, а когда можно.
Лучшая часть британского меню, английское пиво (теплое, без пузырьков, накачанное ручным насосом) отличается от европейского тем, что его пьют стоя. Поэтому не так просто вклиниться в веселую толпу, клубящуюся вдоль стойки. Это особое искусство, требующее смеси интуиции и такта. Англичане с ней рождаются, нам надо учиться. Как обмасленная игла на воде, ты протискиваешься, никого не задев локтем и взглядом. Но и достигнув цели, не торопись ею завладеть, окликнув бармена. Это как у Булгакова: не просите, сами дадут и сами нальют, когда подойдет невидимая чужеземцу, но бесспорная для своих очередь, без которой в Англии вообще ничего не происходит. Паб – недорогой урок цивилизации, и я практиковался, начиная с завтрака, радуясь, что Англия предпочитает некрепкий эль безжалостному, как я знаю по старому опыту, виски Шотландии.
После пивных и королей мне больше всего понравились в Лондоне дети, особенно те, которых я встретил в окопах Военного музея империи. Сюда привозят молодежь Евросоюза, надеясь превратить его в одну страну, чтобы навсегда покончить с мировыми, а в сущности междоусобными, войнами. О Первой рассказывают мемориальные окопы. Тесные, с восковыми трупами и кислой вонью пороха. Славой здесь не пахло, подвигами тоже.
Зато героизма хватало в бомбоубежище эпохи блица. Как только я уселся рядом с примолкшими ребятами, свет погас и начались взрывы. В темноте звучали голоса военных лет. Подбадривающие и ворчащие, они смогли заглушить бомбежку лишь тогда, когда все запели хором. Тогда так делали всюду, кроме метро. По ночам в подземке хранили тишину, чтобы люди выспались перед работой. Ведь и в блиц затемненный Лондон жил хоть и на ощупь, но как всегда – в пабах, театрах, даже в нетопленой Национальной галерее, где среди пустых рам (картины спрятали в шахту) лучшая пианистка Англии давала концерты, не снимая пальто.
В 1940-м, встречая Рождество среди взрывов, в столицу завезли карликовые, чтобы влезли в бомбоубежища, елки.
В Лондоне любят вспоминать о блице, хотя он и уничтожил изрядную часть города. Героем его сделала даже не война, а ее будни. Король делил их со всей столицей.
– Теперь, – сказал он после налета, разрушившего часть дворца, – я могу смотреть в глаза жителям разбомбленного Ист-Энда.
Всю войну в Букингемском парке выращивали капусту.
По следам Шерлока Холмса
Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции, поэтому всякое детство отчасти викторианское.
Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно. Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченный латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел охотничьими рассказами: “С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену крааля”. О, это заикающееся эстонское “а”, экзотический трофей – от щедрот. Так Аврам стал Авраамом и Сара – Саррой. Но лучше всего были сочные, почти переводные картинки. Они прикрывались доверчиво льнущей папиросной бумагой.
Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервилей в холмах Девоншира. Болота мне там увидеть не довелось – мешал туман, плотный, как девонширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги, и уже все равно куда идти. Чтобы вернуться к машине, мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели.
В глухом тумане слышен лишь звериный вой, в слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть. Трудно не заблудиться в девонширских пустошах. Особенно – овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойла.
Его считали певцом Лондона, но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь. Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности.
Преступление – мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится зрячей. Ей есть что рассказать. Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую.
– Я ничего не читаю, – признавался Холмс, – кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников.
Этот короткий перечень неплохо описывает “Илиаду” и “Одиссею”.
Главное свойство гомеровского мира – фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все одинаково важно: и щит, и Ахилл, и прялка. В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь – часть организма, субстанциальная, как сердце.
Гомер не умел отделять частное от общего, Холмс – не хотел. Подробности наделяли его гомеровским – пророческим – зрением: он видел изнанку вещей, знал прошлое и предвидел будущее.
Жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивей других. Детектив напоминает сон. Те, кто толкует его по Фрейду, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни – правдивые окраины текста.
Постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это не наблюдения за жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они – бесспорная улика действительности.
Велик удельный вес случайного на полях детективного сюжета. Самое интересное тут происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способны удержать силовые линии преступления – радиация трупа.
Мы читаем рассказы о Холмсе, выуживая не относящиеся к делу подробности. В них – вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойла.
Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойла помимо сюжета все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих – проговаривается. У XIX века не было свидетеля лучше Холмса – мы чуем, что за ним стоит время.
Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. Пытаясь расшифровать эту скоропись, мы следим за Холмсом с той пристальностью, которой он сам же нас и научил.
Самые истовые из его читателей – как новые масоны. Они назначили деталь реликвией, сюжет – ритуалом, чтение – обрядом, экскурсию – паломничеством. Так уже целый век идет игра в “священное писание”, соединяющая экзегезу с клубным азартом.
В этой аналогии меньше вызова, чем смысла: Шерлок Холмс – библия позитивизма. Западная цивилизация, которая ненароком отразилась в сочинениях Конан Дойла, достигла зенита своего самоуверенного могущества. Ее сила как всемирное тяготение – велика, привычна и незаметна.
О совершенстве этой социальной машины свидетельствует ее бесперебойность. Здесь все работает так, как нам хотелось бы. Отправленное утром письмо к вечеру находит своего адресата с той же неизбежностью, с какой следствие настигает причину, Холмс – Мориарти, разгадка – загадку.
Эпоха Холмса – редкий триумф детерминизма, исторический антракт и счастливый эпизод. Если преступление – перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Читая Конан Дойла, мы подглядываем за жизнью в тот исключительный момент, который кажется нам нормой.
Криминальная проза – куриный бульон словесности.
Детектив – социальный румянец, признак цветущего здоровья. Он кормится следствием, но живет причиной. Он последователен, как сказка о репке. В его жизнерадостной системе координат жертва и преступник скованы каузальной цепью мотива: кому выгодно, тот и виноват.
Если есть злоумышленник, значит зло умышленно. Что уже не зло, а добро, ибо всякий умысел приближает к Богу и укрывает от пустоты.
В мире, где жертву выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление – норма, литературе больше удаются абсурдные, а не детективные романы.
Цивилизованный мир Британской империи – главный, но тайный герой Конан Дойла, о котором он сам не догадывался. Да и мы узна́ем о нем только тогда, когда, собрав рассыпанные по тексту приметы, поразимся настойчивости их намека.
Конан Дойл торопился захватить все, что нас связывает: телеграф, почту, вокзалы, мосты, но прежде всего – железную дорогу. Холмс никогда не отходит далеко от станции, Уотсон не расстается с расписанием.
Возможно, в авторе говорил цеховой интерес. Рассказы о Холмсе – первая классика вагонной литературы. Они, мерные, как гири, рассчитаны на недолгие пригородные поездки. Единица текста – один перегон. Сочетая стремительность фабулы с уютом повествования, они идеально дополняют меблировку купе.
Детектив – дом на колесах. И лучше всего читать его на ходу, ибо всякая дорога потворствует приключениям. Нанизывая на себя авантюры, она выпускает случай на волю. У Конан Дойла, однако, железная дорога не нуждается в оправдании. Она помогает не сюжету, а героям: в купе они набираются сил.
Железная дорога – кровеносная система цивилизации. Делая перемещение бесперебойным, а остановки предсказуемыми, она покоряет пространство и время, укладывая стихию в колею прогресса. Здесь не может случиться ничего непредвиденного. Сюда запрещен вход случаю, ибо он угрожает главной ценности XIX века – размеренности движения.
Английская железная дорога – перенесенное из истории в географию наглядное пособие по эволюции, страстную любовь к которой Конан Дойл разделял со своим временем.
Холмс – живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения. Педантично прослеживая путь от мелкой подробности к судьбоносной улике, сыщик подражает природе, превратившей амебу в венец творения. Как Дарвин, Конан Дойл демонстрирует скрытые от непосвященных ходы эволюции. Он устанавливает связь между низшим и высшим – фактом и выводом.
Самому Холмсу важен не результат, а метод.
– Всякая жизнь, – настаивает он, – это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену.
Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста. Его скрытая цель – заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса – демистифицировать мир, разоблачив попытки судьбы выдать себя за высший промысел. Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным.
Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме вселенной, случай угрожает ее отлаженному ходу. Срывая покров невозмутимости с высокомерного лица цивилизации, случайность выводит мир из себя.
Вот тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой.
Окружающее для Холмса – текст, который он предлагает читать “по ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательных пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки…”
Прочесть вселенную – старый соблазн. Новым его делает то, что Холмс читает мир не как книгу, а как газету.
Газета – волшебное зеркало детектива. Склеенное из мириад осколков, оно отражает мир с угловатой достоверностью снимков.
Газета – любимица Конан Дойла. Он на газетах экономит – они заменяют автору рассказчика. Излагая обстоятельства преступления, газета дает всегда подробную, обычно ясную и неизбежно ложную версию событий. Газета отличается поверхностным взглядом, самоуверенным голосом и нездравым смыслом. Принимая очевидное за действительное, она предлагает вульгарное и единственно правдоподобное объяснение происшедшего.
Газета – шарж на Ватсона. На ее фоне и он блестит, но не больше, чем слюда.
Холмса газеты окружают, как воздух, и нужны ему не меньше. Оказавшись в тупике, он часто обращается к газете, чтобы найти там разгадку. Печатая ее черным по белому, Конан Дойл открывает секрет своего мастерства: ключ к преступлению у всех на виду и никому не виден. Кроме Холмса, назвавшего своей профессией “видеть то, что другие не замечают”.
Прошлому веку газеты заменяли интернет – они были средством публичной связи. Газетные объявления позволяли вести интимную переписку тем, кто не мог воспользоваться почтой. От чужого глаза приватный диалог укрывала ссылка на понятные только своим обстоятельства.
Разбирая птичий язык объявлений, Холмс замыкает преступную цепь на себе. Дальний отпрыск Фауста, он унаследовал от предка дар чернокнижника: Холмс читает газету как каббалист – Тору.
Если Холмс – критик гениальный, то Ватсон – добросовестный, как Белинский. В окружающем Холмс ценит вещное, штучное, конкретное. Для Ватсона частное – полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Ватсон защищается от него штампами.
– Вошел джентльмен, – пишет он, – с приятными тонкими чертами лица.
Ватсон – жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету.
Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойл обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в видоискатель Ватсона. Он крупнее той фигуры, которую может изобразить его биограф, но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но неискусному рисунку.
В Ватсоне Холмс ценит не писателя, а болельщика. Характерно, что спортивные достижения Ватсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойл не устает напоминать, что Ватсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано.
Спорт – кровная родня закону. У них общий предок – общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Ватсон относится к Холмсу.
Спортивность Ватсона противостоит артистизму Холмса.
Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора.
– Счастье лондонцев, – зловеще цедит Холмс, – что я не преступник.
Ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки. Холмс – отвязавшаяся пушка на корабле. Он – беззаконная комета. Ему закон не писан.
Ватсон – дело другое: он – источник закона.
Ватсону свойственна основательность английского дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Ватсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев.
Ватсон сам похож на английский закон: не слишком проницателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени.
Если Холмс стоит выше закона, то Ватсон – вровень с ним. Ценя это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя “лучшим присяжным Англии”. Ватсон – посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие – гарантия законности.
Холмс – отмычка правосудия. Ватсон – его армия: он годится на все роли, вплоть до палача.
Холмсу Конан Дойл не доверяет огнестрельного оружия – тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Ватсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан Дойла стреляют редко, обычно – американцы.
Парные как конечности, устойчивые как пирамиды и долговечные как мумии, Шерлок Холмс и доктор Ватсон караулят могилу того прекрасного мира, за остатками которого мы приезжаем в Англию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































