Текст книги "Дао путника. Травелоги"
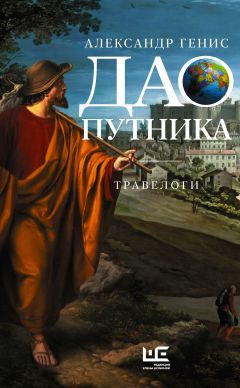
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Английская соль
У нас дома смотрят только один канал: тот, по которому показывают британское телевидение. Мы слушаем их суховатые новости, которые читают такие же сухопарые дикторши, следим за их сыщиками, каждый из которых говорит на своем диалекте, и, конечно, смеемся их шуткам. Скажем, таким: грубиян Фолти, долговязый владелец отеля, довел строптивого постояльца до инфаркта. Чтобы избежать скандала, труп пришлось сунуть в корзину с грязным бельем, но не успели ее вынести за двери, как за гостем пришли родственники.
– Где он? – спрашивают они хозяина.
– Тут, – говорит Фолти, показывая на корзину.
– Что он там делает?! – с ужасом восклицают близкие покойника.
– Not much, – честно отвечает хозяин.
Как же перевести эту короткую реплику? “Ничего” – верно, но не смешно. “Немного” – и не верно, и не смешно. Средний вариант – “Ничего особенного” – втягивает в метафизические спекуляции на тему некротических явлений: значит, что-то все же покойник делает.
Трудность в том, что за этой репризой стоит вся английская культура с ее заботливо культивированной недосказанностью. Расплывчатая неуверенность грамматики умышленно размывает всякую грубую определенность, ибо на этом цивилизованном острове говорить просто, ясно и категорично считается невежливым. Избегая всякой категоричности, британская речь предусматривает особую конструкцию “хвостовых вопросов” (не так ли. Единственная функция этого социального, а не лингвистического механизма состоит в том, чтобы избежать прямого утверждения, заменив каждую точку вопросительным знаком.
На этом принципе строится не только виртуозный диалог английской драмы, но и фундамент жизни, прошитой юмором, иронией и скептическим отношением к себе и мирозданию. Все это называется одним, опять-таки непереводимым словом – understatement: искусство сводить важное к пустяковому, страшное к смешному, пафос – на нет.
По пути вниз рождается юмор. Впрочем, по дороге вверх – тоже. Как показал Свифт, заурядный мир становится смешным, если мы изменим масштаб в любую сторону. Направление вектора определяет различие в характере двух атлантических народов: англичан и американцев.
Марк Твен начал свою карьеру с преувеличений. Рассказывая на платных лекциях в Нью-Йорке о Диком Западе, будущий писатель-гуманист предлагал тут же проиллюстрировать царящие там нравы, сожрав какого-нибудь ребенка на глазах зрителей.
Чтобы заполнить Новый Свет, юмора должно быть больше. Особенно в Техасе, где, как писал О.Генри, девять апельсинов составляют дюжину. Американская экспансия смешного не знает исключений. Даже герой Вуди Аллена – такой утрированный ипохондрик, что его космический невроз требует не психиатра, а теолога.
Другими словами, Америку смешат гиперболы, Англию – литоты. Что и демонстрирует упрямство британского юмора, не поддающегося перевозке и в ту страну, с которой, по выражению Уайльда, у Англии общее все, кроме языка. Каждый раз, когда американцы, купив лицензию успешного британского сериала, педантично пересаживают его (вместе с сюжетом и диалогом!) на свою почву, скажем, из Манчестера в Чикаго, дело кончается провалом. Это как фальшивые елочные украшения: игрушки те же, а радости нет.
В чем же секрет англичан?
Смех универсален, юмор национален. Первый принадлежит цивилизации, второй укоренен в культуре.
Немого Чаплина понимают все, чужому юмору надо учиться как иностранному языку. При этом “избирательное сродство” культур иногда облегчает задачу, а иногда делает ее невыполнимой. Дорожа, например, всем японским, я так и не понял, что может быть смешного в харакири, которым часто заканчиваются классические тут анекдоты. Зато мне удалось настолько полюбить дидактичный и пресный китайский юмор, что изречения его великого мастера Чжуан-цзы я, как школьница, выписываю в тетрадку и привожу при каждом удобном случае. Скажем – так: “Человечность – это ходить хромая”. Или так: “Самого усердного пса первым сажают на цепь”. Или – этак: “У быков и коней по четыре ноги – это зовется небесным. Узда на коне и кольцо в носу быка – это зовется человеческим”.
Русский юмор лучше всего там, где он сталкивает маленького человека с его Старшим братом.
– Знали они, что бунтуют, – писал Щедрин, – но не стоять на коленях не могли.
Понятно, почему мы выучили наизусть Швейка, которого мало знают западные народы, кроме немцев, первыми признавших Гашека.
Тем не менее юмор Германии витает в плотных облаках. Томас Манн считал комическим романом не только свою “Волшебную гору”, но и “Замок”. С последним соглашались современники, покатывавшиеся от хохота, когда Кафка читал им вслух первые главы этого беспримерного опыта трагикомического богословия.
На фоне чужих смеховых традиций английский юмор отличает не столько стиль или жанр, сколько экстравагантность. Я не говорю, что британский юмор лучше любого другого, я говорю, что он уникален. Английская соль – совсем не то же самое, что обыкновенная.
Наиболее обаятельная черта британского юмора – чопорность. Она позволяет жонглировать сервизом на канате, не поднимая бровей. Комизм – прямое следствие непреодолимой неуместности. Об этом писал Беккет: его персонаж чувствует себя как больной раком на приеме у дантиста.
Смерть ставит жизнь в ироничные кавычки. Вблизи смерти все становится неважным, несерьезным, а значит – еще и смешным.
Смерть – наименьший знаменатель комического. На нее все делится, ибо она останавливает поток метаморфоз, комических переодеваний, из которых состоит любая комедия – от Аристофана до Бенни Хилла. Добравшись до последнего берега, смешное, как морская волна, тащит нас обратно в житейское море. На память о смерти нам остается юмор, позволяющий преодолеть ужас встречи с ней.
Жестокий сувенир такого рода можно найти у Льюиса Кэрролла. В “Стране чудес” Алиса ведет диалог с Шалтаем-Болтаем. Сперва он невинно спрашивает девочку, сколько ей лет.
– Семь лет и шесть месяцев, – отвечает та.
Неудобный возраст, говорит Шалтай, уж лучше бы ей остановиться на семи.
– Все растут, – возмущается Алиса. – Не могу же я одна не расти!
– Одна – нет, – сказал Шалтай. – Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь – и прикончила б все это к семи годам.
Британцы, впрочем, не владеют монополией на могильный юмор. Ведь есть еще евреи.
Во время погрома Хаима прибили к дверям собственного дома.
– Тебе больно? – спрашивает сосед.
– Только когда смеюсь, – отвечает распятый Хаим.
Еврейский юмор – оружие возмездия судьбе и миру, но англичане, живя на острове, привыкли к безопасности. Хозяева морей, британцы и на суше чувствовали себя уверенно. Однако, победив внешних врагов, на которых можно свалить всю ответственность, они остались наедине с врагом внутренним – роком, непобедимым, как старость.
Английский юмор – удел победителей, обнаруживших, что все победы – пирровы. Упершись в общую для всех стенку, англичане нашли национальный компромисс: обложили ее ватой уюта и украсили смехом абсурда. Я бы и сам хотел так жить и так шутить.
Восток
Переложения из Лао-Цзы
Восток, во всяком случае, Дальний, для меня начинается и кончается даосами. Они писали просто, но глубоко, глубоко, но просто. Это литература гениальных эссе, превзошедшая различия между стихами и прозой, между субъективным опытом и безличной природой, между своим временем и нашим. Их тексты годятся любой эпохе. Вместо логики, абстрактности и системности такой Восток предлагает эмоциональность, конкретность и бессвязность. Фрагмент вместо целого, наблюдение вместо вывода, метафору вместо определения и “как” вместо “что”. Поэтому старых китайцев можно перекладывать на любой язык, пока их изречения не появятся на майках и бамперах машин.
⁂
Неназванное вечно,
имена рождают вещи.
Тот, кто свободен от желаний, знает о тайне,
Тот, кто погряз в них, видит лишь ее проявления.
(Гл. 1)
⁂
Бытие и небытие создают друг друга.
Трудное и легкое поддерживают друг друга.
Длинное и короткое описывают друг друга.
Высокое и низкое зависят друг от друга.
До и после следуют друг за другом.
Поэтому Мастер
делает не делая
и учит не поучая.
Вещи появляются, и он не мешает им;
вещи исчезают, и он не задерживает их.
Он создает, но не владеет созданным,
творя, не ждет результатов.
Когда труд окончен, он забывает о сделанном.
Поэтому все достигнутое остается в нем.
(Гл. 2)
⁂
Мастер учит,
опустошая ум и наполняя нутро,
смиряя честолюбие и укрепляя уверенность.
Он помогает людям избавиться
от всего, что они знают,
от всего, к чему они стремятся.
Он внушает сомнения тем,
кто думает, что их лишен.
Не вмешивайся,
и все само займет свое место.
(Гл. 3)
⁂
Дао черпать – не исчерпать.
Это – бездонный колодец,
пустота, полная бесконечных возможностей.
(Гл. 4)
⁂
Рождая добро и зло,
Дао по ту сторону того и другого.
Не судя,
Мастер принимает всех.
Дао как кузнечные меха:
чем больше в них пустоты, тем они сильнее,
чем чаще их сжимают, тем лучше они работают,
чем больше об этом говорят,
тем труднее это понять.
Лучше просто держаться середины.
(Гл. 5)
⁂
Дао как поле.
Пустота его подобна материнской утробе.
Оно рождает всё,
но плодородие Дао не прекращается.
Пользуйся им, и оно никогда не истощится.
(Гл. 6)
⁂
Мастер подобен воде.
Ко всем добра, она ни с кем не спорит.
Другие стремятся вверх,
вода – вниз,
и этим она похожа на Дао.
Будь как вода:
селись ближе к земле
и мысли глубже.
Не победить того, кто не спорит.
(Гл. 8)
⁂
Слишком полная чаша
переливается,
слишком острое лезвие
ломается.
Завершив, устранись.
(Гл. 9)
⁂
Рождать, не пытаясь завладеть рожденным,
творить, не рассчитывая на результат,
вести, не пытаясь давить, –
вот верх достоинств.
(Гл. 10)
⁂
Тридцать спиц в колесе,
но лишь промежутки между ними
позволяют двигаться повозке.
Из глины делают сосуды,
но лишь ее отсутствие
позволяет ими пользоваться.
Окна и двери прорубают в доме,
но лишь пустота внутри него
позволяет в нем жить.
Мы работаем с бытием,
но пользуемся небытием.
(Гл. 11)
⁂
Яркое слепит,
громкое оглушает,
острое притупляет вкус,
азарт оглупляет,
от страстей вянет сердце.
Мастер видит то, что снаружи,
но доверяет тому, что внутри.
(Гл. 12)
⁂
Провал не опаснее успеха.
Надежда не лучше страха.
И страх и надежда
рождены иллюзорным “я”.
Когда мы не отделяем себя от мира,
чего нам бояться?
на что нам надеяться?
(Гл. 13)
⁂
Мастер идет, будто по тонкому льду,
осторожен, как в тылу врага,
учтивее гостя,
уступчивей тающего снега,
причудливее корня,
открыт, как долина,
непроницаем, как болотная вода.
Хватит у тебя терпения ждать,
пока муть осядет?
пока решение придет само?
(Гл. 15)
⁂
Тот, кто стоит на цыпочках,
нетвердо держится на ногах.
Тот, кто торопится,
далеко не уходит.
Тот, кто блещет,
приглушает свой собственный свет.
Тот, кто ищет себе определения,
не узнает, кто он.
Тот, кто превозмогает себя,
лишается сил.
Тот, кто цепляется за свою работу,
не создаст ничего долговечного.
Если хочешь быть в согласии с Дао,
сделай свое дело и иди.
(Гл. 24)
Как стать китайцем
Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
– Китайцем.
– Тогда не спрашивай о Дао, пока не будет седины.
Дождавшись ее, я решил учиться на китайца, но не нашел у кого. Знатоков отталкивал азарт неофита. Слишком хорошо зная свой предмет, чтобы любить его, они презирали дилетантов, не разделяя их молодое чувство.
– Восток, – сурово объясняли они мне, – еще хуже Запада.
Но мне хватало того, что он был другим, ибо я всегда был падок на экзотику, считая ее ключом к неведомому.
– Скорее – отмычкой, – говорят эстеты, отводящие экзотике низшую, мальчишескую, ступень в эволюции культуры, которая уже поэтому заслуживает отступления.
Презирающий всякую этнографию, Набоков ненавидел фольклорное искусство, как оперный дирижер – колхозную самодеятельность.
– Я не могу представить ничего страшнее Гоголя, – напрасно пугал он читателя, – без конца сочиняющего малороссийские повести.
Вынужденный стать гражданином мира, Набоков поднимался над национальными различиями, считая художников всех стран в одинаковой степени разными. Видовую принадлежность он прощал бабочкам, но не писателям.
– На послевоенном курсе в Корнеле, – рассказывал мне его бывший студент, – Набоков охотнее всего обижал тех, кто надеялся найти у Льва Толстого объяснение победам Красной армии. “Может, вам лучше жениться?” – спрашивал он их на экзамене.
Истребляя туземную локальность у любимых авторов и добавляя ее ненавистным, Набоков тайно вел превентивную войну за надежное место в мировой, а не в русской литературе. В этой идиосинкразии чувствуется вечный страх эмигранта, который выделяется именно тем, что боится выделиться.
Господи, как это понятно! Каждый автор хочет запомниться своей формой, а не чужим содержанием. Однако, приспособив этот благородный тезис к себе, я не спешу поделиться им с другими и всегда ищу в стране, книге, блюде или зрелище невольный – и потому драгоценный – отпечаток экзотического мышления и постороннего опыта. Возможно, виной тому пионерский позитивизм, в котором нас бездумно воспитывали взрослые.
Мое детство пришлось на викторианский период советской власти, когда в самонадеянной простоте она еще верила в себя, прогресс и окружающее. Все тайны тогда казались секретами, которые стерег КГБ и раскрывал Солженицын. В том мире непознаваемое считалось неопознанным – вроде человека-амфибии. Эта оптимистическая посылка обрушилась, как переполненная книгами этажерка, когда меня осенила оскорбительно простая мысль. Ничего нельзя придумать, догадался я, ибо новому просто неоткуда взяться. Фантазия, как сон, всего лишь – ночная комбинация дневных впечатлений.
Разочаровавшись в фантастическом будущем, я принялся искать чуда в прошлом. Назначив историю метафизикой, я сделал ее своей религией. Веря в древность, я охочусь за ее пережитками, которые, собственно говоря, и являются экзотикой. Конкретная, штучная, не растворенная в смутном потоке времени, она демонстрирует нам альтернативу, освобождая из плена реальности.
Мир может быть другим, потому что он уже был другим, и ты можешь меняться вместе с ним, выбрав себе историю по вкусу, возрасту, времени дня или года.
Стать китайцем меня подбила интимная география. Живя на Востоке, я мечтал о Западе, живя на Западе – о Востоке.
Судьба долго отказывала мне в этом удовольствии. Пожилой китаец, выловленный в нью-йоркском Чайнатауне, учился в Москве и видел Хрущева. Шанхайская поэтесса с лаконичным именем Эр, которую мне удалось заманить на обед, оказалась в прошлой жизни пионеркой, а в новой – программисткой. По воскресеньям она переводила Ахмадулину по английскому подстрочнику.
В Китае было не лучше. Попав туда на заре их перестройки, я не нашел для себя ничего особо нового.
– Солзеницына читаем, – тихо сказал мне ученый славист с непечатной по-русски, но тем не менее напечатанной на визитной карточке фамилией.
Он же познакомил меня с молодежным писателем, который жаждал правды и находил ее в прозе, напоминавшей Гладилина с Хемингуэем. В его популярном романе стиляги разбавляли джин квасом, прожигая жизнь в пекинском ресторане “Красная площадь”.
В том Пекине советское посольство, как второй Запретный город, занимало огромный квартал, но свет горел в считаных окнах. Телевизор в отеле уже показывал рекламу, но еще про турбины. В кино уже шли красивые фильмы о мелкой частной собственности, но в финале еще побеждал социализм. У Мавзолея еще выстраивался длинный хвост, но иностранцев уже пускали без очереди. Покойник с бабьим лицом лежал в светлой бетонной беседке, из которой открывался вид на неоновую рекламу кентукских цыплят.
На просторных, как Садовое кольцо, проспектах шуршали шины восьми миллионов велосипедов. Машин я видел две и катался на обеих. В Национальном музее не было картин – Чан Кайши увез их на Тайвань. Вместо восточной живописи редким туристам показывали западные часы с хитроумным боем. Императрица Цы Си любила игрушки и велела построить крейсер из мрамора в натуральную величину.
Осмотрев ее потемкинский флот и почувствовав себя обманутым, я уже в одиночку отправился на поиски Китая и нашел его, как говорится, на столичных задворках, которые, собственно, ими и были.
Начиненные соседями проходные дворы хутонгов напоминали нашу коммунальную квартиру в доме без фасада. Распахнутая жизнь – с котлами, кроватью и швейной машинкой – ничуть не стеснялась своей наготы. Но это я тоже видел – в театре, – “На дне”. Как, впрочем, и то, что́ пришло на смену, когда в Пекине снесли хутонги, а Шанхай вышел по небоскребам на первое место.
С тех пор как Китай больше походит на мою “новую” родину, чем на старую, я не вижу смысла туда ездить. В Нью-Йорке глиняных Будд не меньше, чем гипсовых Мадонн. Восток стал запасным амулетом Запада, исчерпавшим собственные резервы. Агностику проще войти в чужой храм, чем в тот, что оставил.
Отчаявшись найти учителей и союзников, я решил обойтись без внешней действительности.
– У Пелевина была Внутренняя Монголия, – заносчиво объявил я, – у меня будет частный Китай: не страна, а состояние духа.
Взявшись создать себе Китай по месту жительства из подручного материала, я сперва купил пижаму в драконах, потом шелковый жакет с белыми отворотами, как у Сунь Ятсена, затем палочки для курений и восхитительно шершавую рисовую бумагу.
Освоившись с приобретенным настолько, чтобы не чувствовать себя идиотом, я натер в бледное блюдце черную плитку туши и взялся за кисть с обманчиво твердым концом. Имея дело с гигантской страной, населенной разными, часто не похожими друг на друга народами, традиция считала китайцами всех, кто знает иероглифы. С них, естественно, я и решил начать. Держа кисть, словно змею за хвост, я провел робкую линию, тут же по-хамски расплывшуюся на хищной бумаге. Китайское чистописание не прощает промедления. Это как дрова рубить – думать надо было раньше. Испортив весь альбом, я сумел нарисовать сносную точку. От нашей ее отличал характер. Профилем точка напоминала головастика – в ней были морда, хвост и стремление.
Справившись с первым из двадцати четырех элементов, необходимых для написания упрощенных иероглифов, я перевел дух на теории.
– Горизонтальные черты, – писал классик, – выгнуты, как рыбья чешуя, вертикальные прогибаются, как поводья.
– Это значит, – перевел я себе, слабо разбираясь в конской сбруе, – что китайское письмо не терпит прямого.
Тушь оживает, когда кисть, направляясь в сторону, противоположную нужной, ударяет с разбегу, оставляя на бумаге след взрыва. Это корень черты, ее свернувшаяся в клубок энергия. Иссякая, она ставит предел движению руки, но не раньше, чем сила замаха исчерпает себя до конца. Прощаясь с бумагой, кисть танцует с бытием, продлевая переход из нечто в ничто.
Удачный иероглиф требует участия каждой мышцы. Поэтому, как показывают нам китайские боевики, поднаторевший в письме ученый может увернуться от стрелы и убить беглым движением пальца. Я, конечно, не рассчитывал стать мастером, мне хотелось узнать его при встрече.
Изведя бумагу с рисовой делянки, я понял одно: чтобы подделать работу китайского писца, надо стать таким, как он. Словно непроизвольный жест, вырвавшийся возглас или получившееся стихотворение, каллиграфия передает всего человека, а не его вменяемую часть. Полностью выразить себя на бумаге, пожалуй, надежнее, чем оставить потомство, и вряд ли проще. Но о том и другом можно узнать, лишь попробовав. Не доверяя умозрительным навыкам, я учусь, чтобы нащупать и описать границы своей пригодности. Говорить можно только о том, чего сам не умеешь. Попробуйте объяснить, как мы ходим. (Футбол – дело другое.)
Понятно, что первого иероглифа мне хватило надолго. Напоминая нашу “Ф”, знак “чжун” (中) изображал Китай со всей доступной пиктограмме наглядностью. Квадратную землю пересекала черта, указывающая центральное место Поднебесной империи. За ее пределами люди становились животными. Одни теряли речь, другие не умели спать, третьи – просыпаться.
Космогонией китайские мифы не интересовались. Мир вечен, он был всегда, поэтому у него нет естественной истории – только наша, человеческая, точнее – китайская, ибо варвары не в счет.
Китай резко континентальная страна, как Россия. Но, в отличие от нее, он, владея морями, к ним не стремился. Конфуций упоминает море лишь однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море – не стихия свободы, как у нас, а приют отчаяния. И в стихах море редко вспоминают. Зато реки текут по всей классической поэзии.
– Мудрые, – говорил Конфуций, – наслаждаются водой, благородные – горами.
Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает китайский пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине ничего нельзя добавить, не исказив ее. Пределом фантазии китайский художник считал камни небывалой формы.
– Демонов, – говорил мэтр, – рисовать легче всего: их никто не видел.
Разнообразие претило их эстетике, как нам – рюши на гардинах. Минимум больше максимума, потому что он включает все, вычитая лишнее: ночью все кошки серы.
Когда одного художника спросили, почему он нарисовал бамбук красной тушью, он удивился:
– А какого же, по-вашему, цвета бамбук?
– Конечно, черного.
Чтобы так писать, надо забыть все, чему учился.
Пастернак считал стихи губкой мира, Бродский – ускорителем мысли, Хармс – вещью из языка, которой можно разбить окно. Но чтобы полюбить китайцев, нужно ценить пресную кухню. Их стих невзрачен. Их слог вторичен. Их афоризм цвета воды. Их словесность бедна, банальна, бессвязна. Но лишь потому, что она сразу темна и прозрачна. Доверяя читателю больше, чем словам, древние китайцы даже не потрудились изобрести пунктуацию. Оставшись без синтаксиса, мы сами должны связать мысли мудреца, который предпочитает системе самые простые и потому бездонные примеры.
Читать такое почти то же самое, что писать. Поэтому чаще, чем Библию, переводят книгу Лао-цзы, перекладывая его кто как на душу положит. Одни – для других, я – для себя, чтобы научиться не умничать.
– Китайцы, – пишет исследователь их древностей, – чрезвычайно высоко ценили попугаев, потому что видели в них полезный урок: слишком умную – говорящую! – птицу первой сажают в клетку.
– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
– Китайцем.
Но теперь, когда и седых-то волос осталось немного, цель моя все еще смутна, и я бреду к ней с помощью ритуалов.
Культура ведь – всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство – в зону, время – в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить.
Я видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадываясь, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков в стае.
Ритуал трудно зачать, но легко убить. Он умирает, как первомайская демонстрация, – когда его начинают рассматривать. Сила ритуала – в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. Поэтому нам проще убить человека, чем не дать ему на чай.
– Нет ничего важнее невидимого и незаметного, – говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция.
Собственно, к этому сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию, благородный всегда счастлив, низкий всегда удручен. Чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой.
Я верю в этот проект с тех пор, как научился читать, особенно китайцев. Их история и впрямь не лучше нашей, но меня в ней волнуют лишь те ритуалы, которым стоит подражать. Поэтому я часто ухожу в горы, даже зимой. Тем более зимой.
– Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, – писал Пастернак, – когда есть дрова.
В мороз природа не дает себя забыть, как это с ней случается в нежаркие летние сумерки. Зимой ты нутром ощущаешь свою уязвимость: угроза лишена лица, как старость.
И горы зимой охотнее демонстрируют свое черно-белое устройство. Непостижимо сложное, оно все-таки есть. Ты чувствуешь внутреннюю логику скалы и распадка. Камни громоздятся, подчиняясь правилу, исключающему, как закон всемирного притяжения, исключения. Этот непоколебимый порядок китайцы называли “ли” (里). Он – внутренняя организация вещей, которую нам не дано постичь, но мы все равно стараемся, ибо культура всему учится у природы, чтобы стать ее частью.
Чуть-чуть не добравшись до вершины (из уважения к ней), я усаживаюсь лицом к Гудзону. Отсюда не видно ни труб, ни заводов, только горы и реки. Природа одолжила пейзаж, завершить его – наша задача. Трудясь над ней, я однажды так долго сидел зажмурившись, что из кристального воздуха материализовался запах сухого помета, которым топили фанзы в безлесном Китае.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































