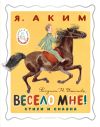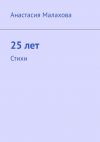Текст книги "Сочинения в трех книгах. Книга третья. Рассказы. Стихи"

Автор книги: Александр Горохов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Холодно розе в снегу
На ногах, повыше пальцев, было написано: «они устали». На безволосом животе: «оно хочет есть». На голове ничего не было написано, а на груди простер крылья орел. Орел летел и в клюве держал девицу. Девица, судя по горизонтальному положению, находилась в обмороке. В такой же обморок была готова свалиться моя сестра.
Заспанный мужичок слез со второй полки, запихнул ноги в усталые башмаки и отправился в тамбур курить.
– Говорила тебе, что надо в купе брать билеты! С проводником надо было договариваться! – зашипела сестра. – А ты – «нет мест, всего ночь переспать». Вот теперь переспишь! Этот головорез прибьет и не моргнет.
– В купе тебя зарежут, по частям выкинут в окошко и никто не увидит, а здесь всё на виду. Когда твою умную башку вместе с языком оттяпают, все сразу увидят, – объяснил я.
– Где я тут буду переодеваться? Покажи!
Я молча закинул свою сумку под лавку, сестрину, подняв крышку лежанки, поставил в сундук. Повесил на крючок куртку и потом объяснил:
– Ты, дорогая, когда начнешь переодеваться, все сами отвернутся.
– Как был хамом, так и остался!
Все это произносилось про себя, в уме, и никто в плацкартном вагоне нашей ругни не слышал. Была ночь. Вагон спал. Поезд дернулся, поехал, проводник принес белье, мы застелили матрасы, переоделись и улеглись. Сестра внизу. Я на верхней полке.
Вернулся мужик с орлом и девицей на груди. Дыхнул смесью дыма и перегара, кряхтя, забрался на полку и захрапел. Заснул и я.
Утром проводница начала собирать белье за четыре часа до Москвы. Народ ворчал, но связываться не хотел, отдавал смятое за ночь сероватое тряпье, скручивал матрасы, запихивал их на самую верхнюю полку для сумок и чемоданов, вздыхал и садился досыпать на нижние грязно-коричневые лежанки. Поезд, как и положено, стучал колесами, холодное солнце лезло в глаза, слепило.
Мужик с «усталыми ногами» после очередного перекура дыхнул сигаретным запахом, протянул руку и сказал:
– Витя.
– Гена, – ответил я.
– Обмоем знакомство. – Он неторопливо, но, как оказалось, быстро нагнулся к сумке, вытащил бутылку с третью прозрачного содержимого, влил его в два стакана, всю ночь звеневших ложечками, стукнул, чокаясь почерневшими подстаканниками. Запрокинув голову, выпил свой и удивленно увидел мой, оставшийся на столе нетронутым.
– Болеешь? – сочувственно спросил он.
– Я ему выпью, враз заболеет! – ответила сестра.
– Сочувствую, – ответил мужик мне.
Поднял второй стакан, сказал:
– За вас, мадам! – и поставил опустевшую тару на скатерку, засыпанную крошками.
Я вздохнул. Он сочувственно спросил:
– Жена?
– Сестра, – ответил я и объяснил: – С похорон едем. Батю похоронили.
– Примите мои соболезнования, – сказал Витя, нагнулся под лавку, жикнул замком и вытащил новую, запечатанную бутылку. – Надо помянуть хорошего человека.
– Я ему помяну! – снова ответила за меня сестра.
Пришла четвертая пассажирка. Она успела умыться, переоделась, сверкала губной помадой, пахла зубной пастой, фальшивыми французскими духами, прелыми железнодорожными простынями и угольным дымом.
– Витёк, сучонок, я тебе сейчас твою поганую пасть зашью вместе со стаканом!
– Жена! – похвастался мне Витёк.
– Красивая, – так же лаконично ответил я.
– Моя! – снова похвастался Витёк.
Жена была похожа на гусеницу из мультфильма. Кофточка плотно обтягивала грудь и такие же по размерам три живота под ней. Ярко-красные пухлые губы и огромные накладные ресницы дополняли сложившийся сам собой образ.
– Сучок! – снова прошипела красавица и треснула муженька косметичкой.
Витёк увернулся и пояснил:
– Бьет, значит, любит.
– Когда только успел налакаться? Отошла всего на минуточку.
Довольный похвалой Витёк счастливо улыбался.
– Моя жена! – снова объяснил он нам с сестрой.
– Вроде приличный человек. Писатель, а на деле алкаш алкашом! – говорила гусеница. – За что мне это наказанье Господне? Сейчас едем с конференции литературной. Этому козлу премию дали сто тысяч и бронзовую статуэтку. Так он третий день не просыхает. Просто кошмар какой-то. Даже билетами путевыми заниматься не захотел. Еле эти достали. Там хлебал с дружками-писателями и тут никак не остановится. Убью!
Жена снова саданула Витька косметичкой и опять промахнулась.
Потом собрала его и свои простыни, полотенца, наволочки и пошла сдавать проводникам. Витек снова нырнул в сумку и для ускорения процесса заглотнул водку из бутылки.
– А вы правда писатель? – от нечего делать спросила сестра.
– А то!
– А с виду и не скажешь, обыкновенный человек.
– А писатели и есть обыкновенные человеки, только всё, что видят, обобщают и потом записывают. А вы думали, писатели и поэты – это только те, которые «с свинцом в груди и жаждой мести, поникли гордой головой»? – оживился писатель, закинул ногу на ногу и откинулся к стенке.
– С винцом в груди! Ты ирод с винцом и водярой в груди и в брюхе, и насквозь пропитан, – снова вступила вернувшаяся жена.
– Холодно розе в снегу! Явилась не запылилась, – огрызнулся Витёк. Спохватился и продолжил роль маститого писателя и поэта: – Позвольте представить – моя супруга, так сказать, лучшая половина. Розалия Николаевна.
Роза улыбнулась, вздохнула, махнула рукой и присела рядом с муженьком.
– Это он Мандельштама так цитирует, – закокетничала она и продекламировала:
Холодно розе в снегу.
На Севане снег в пол-аршина…
– В три аршина, картонка ты вертепная, – возмутился писатель и продолжил сам:
На Севане снег в три аршина…
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани.
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.
А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.
Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад…
Он вздохнул, мы тоже замолкли. Колеса громыхали вроде в такт, да совсем не в такт только прочитанному стихотворению. Ничего было в нем непонятно, но ясно, что сказал поэт о чем-то очень главном. И очень точно.
Витёк насладился впечатлением, сказал: «Эх, жизнь наша поганая», нагнулся под лавку, вытащил водку, разлил в четыре стакана, мы молча чокнулись и выпили.
– А мы батю похоронили, – выдохнула сестра.
Глаза ее набухли, но слезы не выкатились, а блеснули, поколыхались и ушли назад.
– Меня Катя зовут, – сказала она. Вытащила сумку, достала из неё самогонку в красивой иностранной бутылке, отвинтила пробку, налила всем по трети стакана. Снова вздохнула, сказала: – Давайте помянем нашего папаню.
Молча выпили.
Витёк подержал стакан, выпил чуть позже остальных и сказал: – Пусть земля будет ему пухом.
Розалия пояснила то, что все и так знали:
– До сорока дней надо говорить «пусть земля будет пухом», а потом «Царствие Небесное».
Сестра порылась в сумке и вытащила сало, колбасу, хлеб. Порезала на большие ломти. Все закусили. Опять помолчали.
Витёк отправился покурить.
– А чего это он весь в наколках, сидел, что ли? – наконец дождалась удобного момента моя любопытная сестричка.
– Нет, не сидел, – вздохнула Розалия. – Пьяница и дурак, хотя таланта огромного. Напился по молодости в общаге в своем литинституте, а такие же дураки всё это и нарисовали, пока он дрых. Неделю они бухали, а проспался, протрезвел – всё, назад никак. Так и ходит теперь, пугает людей. Полудурок окаянный.
Сестра успокоилась. Розалия вытащила из дальней сумки две книжки в красивых переплетах:
– Возьмите, это его. Только выпустили. Хорошая книга. Прочитайте.
Возвратился писатель. Увидел книги, улыбнулся.
– Это мои последние, давайте подпишу на память. – Вытащил из кармана рубашки ручку, раскрыл книгу, подписал сначала сестре, потом мне. Я удивился, имена наши он запомнил, написал на первой странице, под углом, красиво, ровно. Мы прочитали надписи, сказали «спасибо». Что дальше делать с подарками, было непонятно. Читать, сидя напротив живого автора, вроде неприлично, спрятать – неловко, и мы уважительно замолчали, держа книги перед собой.
– А вы давно писательствуете? – спросила сестра.
– Писательствую? – ухмыльнулся Виктор. – Давно. Сперва, еще школьником, в газетах, потом на втором курсе литинститута тоненький сборничек стихотворений издали. Первая книжка поэта. Тогда так модно было издавать стихи молодых да ранних.
Витёк снова приложился к стакану и продолжил:
– Писал много, взахлеб. И читал. Чего я тогда не перечитал! Всех из серебряного века. Гумилева, Цветаеву, Ахматову, Мандельштама. И тех, кто был за ними, и новых, и старых. И забугорных. И японские трёхстишья и пятистишья, и американские и французские верлибры. Уйму всего. Интересно было. В голове мысли роились. Стихи сами рождались. Умные люди заметили. Преподаватели из литинститута помогли. Через год еще сборник издали, побольше. В Союз писателей приняли. И пошло, и поехало. Теперь стихов мало пишу. Больше прозу. Стихи – дело молодых. Проза для взрослых дядек.
– А Тютчев, а Гёте? Наконец Тарковский, – вступила, наверное, в их давний спор Розалия.
Но писатель не ответил, пожал плечами, мол, какой смысл спорить об очевидном. Потом отломил кусочек хлеба, допил, что осталось в стакане.
– А писать вообще нету никакого смысла. Ни прозы, ни стихотворений. Все это начинается от юношеской дури. От тщеславия и самовлюбленности. Потом, когда насладишься запахом и видом собственной книжки, накрасуешься с ней, думаешь: вот она, слава земная, пришла! Дождался! После четвертой, пятой печатаешься уже из-за денег. Да деньги-то оказываются небольшими. Потом утешаешь себя, думаешь, что людям польза от твоей писанины. Вроде помогаешь в жизни разобраться. Прозой – чего-то понять, стихами – утешить. И какое-то время из-за этого держишься на плаву. Вокруг хвалят: «Ах, какой ты талантливый, какой гениальный, какой умный, как это у тебя точно получилось!» Да только херня все это. Никому это на фиг не надо. Те, которые хвалят, не понимают, что в книге хорошо, а что плохо. Хвалят так, словца ради, чтобы показать свою значимость, причастность к литературе, или чего-то им от тебя надо, а сами, может, и не читали вовсе. Когда поймешь это, а понимаешь не сразу, а долго, но вдруг шандарахнет, и поймешь, тогда с тоски начинаешь пить. Вернее, начинаешь раньше, от счастья и радости, что издали, напечатали, что выступаешь, тебя слушают, задают вопросы, ну и прочая, прочая. Йьешь с друзьями, с писателями, потому что вместе, пьешь, чтобы поддержать разговор. Потом вообще по привычке, с кем встретишься. Потом, когда понимаешь, что никому это не надо, что никакого разумного, доброго и тем более вечного не сеешь, тогда уже пьешь с тоски. Оттого, что не пишется, что нету денег, а аванс проели-пропили, и надо книжку нести в издательство, а книжки-то нету. Клепаешь наспех халтуру – авось прокатит. Ну и так далее, как римляне говорили, et cetera, et cetera. A захочешь написать про то, что накопилось, наболело, а тю-тю, нету тех самых главных и единственных слов, куда-то делись, осталась эта самая халтура, профукал способности и таланты, ничегошеньки не выходит. Оказывается, «весь воздух выпила огромная гора». Это Мандельштам верно подметил, и «не приманить её окариной, ни дудкой приручить, чтоб таял снег во рту».
Как он это ловко углядел! «Снег во рту» – это же слова. Настоящие, чистые, не изгаженные и не затертые штампы. Вот эту-то чистоту, непосредственность и правду и выпила гора быта, жизни, суеты, погони за славой, которой, как оказывается, фить – и нету. Книжки есть, а стихов в них нету. Нету того, что нечаянно, а может, переболев жизнью, написал он: «Снега, снега, снега на рисовой бумаге». Нету настоящих снегов-стихов на белой, чистой рисовой бумаге. Ничегошеньки нету. Всё дерьмо. И то, что было, чем хвастался, чему радовался, что обмывал с друзьями и гордился, и то, что будет, будет таким же дерьмом. Потому что время ушло, изгажено суетой, торопливостью и погоней за этой поганой химерой-славой.
Глаза у писателя горели тоской, безысходностью и правдой. Вдруг потускнели. Он махнул рукой, разлил нам остаток самогонки, выпил. Я тоже. Мы молчали. Чего тут скажешь, когда незнакомый человек вдруг, не хорохорясь, не рисуясь, выплеснет давно наболевшее.
– Да вы не переживайте, все еще образуется, – пожалела писателя сестра.
Он ухмыльнулся. Стрельнул глазом.
– А я еще о-го-го. Это я так. Может, это я отрабатываю монолог из нового рассказа. Или еще чего такое!
Розалия вздохнула, обняла его, чмокнула в лоб:
– Давай, Витюлечка, собираться, скоро выходить, приехали, Москва.
– Москва? Как много в этом… – Взгляд писателя наткнулся на стакан. – Стакане для сердца русского… кого-чего? Сплелось и не расплескалось.
Розалия вытаскивала сумки, уговаривала Виктора одеваться, он сопротивлялся. Потом вдруг за полчаса до Москвы стал никакой. С трудом ворочал языком, острил, но смешно не было. Особенно Розалии.
Когда поезд остановился, она не знала, как быть со знаменитым муженьком. Я помог выгрузиться из вагона. Распрощался с сестрой, благо её поезд отходил через час с этого же вокзала, а вещей тяжелых не было. Подхватил писателя и под причитания Розалии потащил к такси. В такси Виктора время от времени начинало мутить. Останавливались, он выходил, издавал звуки в подворотнях, мы его втаскивали назад. Таксист матерился, Розалия извинялась, обещала много заплатить. Витёк буянил. Наконец приехали. Вошли в квартиру. Разгрузились. Писатель предлагал обмыть возвращение, шумел, читал свои стихи, хвастался, что куда до него современным неучам, что он один теперь остался в стране и поэт, и писатель.
– И швец один, и жнец, – зловеще шипела Розалия.
– Ну как, холодно розе в снегу? – куражился он.
Я попрощался, под извинения и благодарные слова жены писателя вышел.
Хитрая штука жизнь, и не приманить её ни дудкой, ни окариной – даст один талант, а отнимет два. Конечно, проще быть мордастой, усатой форелью, спокойно в тине на известковом дне нести свою службу и не горевать о словесности, о стихах, прозе, которые, может, и вправду никому теперь не нужны, и зря тащит их в расписных лазурных санях странный в этом пригламуренном мире горный рыбак.
Холодно и одиноко ему нынче, как розе в снегу.
Княжий Погост
Обивка на диване провисла, протерлась до дыр, перестала откликаться на иностранное «гобелен». Из этой тряпки выпирают круги от пружин, как нули из огромного, в несколько рядов числа. Спать на диване плохо. Пружины давят в бока, пищат. Одна пружина поломалась, и, когда поворачиваюсь, надо помнить про нее, чтобы не поцарапаться. Надо бы новый диван купить, да какие сны на новом будут, какие мысли – неизвестно. Пусть пока этот стоит.
Возле дивана на тумбочке электрические часы с цифрами. Иногда взгляд попадает на 1:11, 2:22, 3:13. Это когда не спится.
Такие цифры приводят к размышлениям о загадках чисел, их значимости и вообще о пифагорействе.
Диван скрипит, сна нету, и звон пружин опять ведет к Пифагору. К гармоническим рядам. К тому, что октава бывает, когда длины звучащих струн соотносятся – 2:1. А когда 4:3, то будет кварта. Это Пифагор в кузнице заметил, что под ударами молотков наковальни разной массы звучат по-разному. И вывел, измерив длины струн, музыкальный закон гармонических рядов. А вольная мысль его додумала, что на основе математических соотношений упорядочен весь космос, а не только звуки на струнах. И что весь мир упорядочен математически!
Вот так же Сеченов, изучая нервную деятельность на лягушачьей лапе, развил мизерные тогдашние сведения до учения о рефлексах головного мозга.
Пифагор для меня Поэт. Поэт, хотя и не писал стихи, а может, писал, только я про это не знаю. Поэт потому, что только поэту может прийти в голову, что планеты при вращении вокруг Земли издают звук. Высота звука меняется в зависимости от скорости движения планеты, а скорость зависит от расстояния до Земли. Сливаясь, небесные звуки планет образуют, как оркестр, «музыку сфер».
Он не называл себя мудрецом, а говорил, что только любит мудрость.
А еще говорят, что он придумал слово «философия» – любомудрие.
Вот так-то. А в школе – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И все про Пифагора.
Диван скрипит. На часах 3:33. Через минуту-другую проснется котишка, потянется, мяукнет и прибежит. На ощупь найдет и ткнется мне в лицо. Потом уляжется на руку, замурлычет и снова заснет. Такой у нас обычай. Обряд. Так бывает каждый день.
Не спится, смотрю на окно. Сквозь занавеску видно, как в доме напротив в одном окне зажегся свет. Кому там не спится?
Ветер из форточки колыхнул занавеску. Мама называла такие занавески тюлевыми. Нет, она их еще как-то называла. Раньше такие были из хлопка. Теперь капрон. Вспомнил. Она их называла гардинами. А мне слышалось – «гренадерами». Почему казалось так? Она всегда правильно говорила.
Что-то часто я про детство стал вспоминать.
В четвертом классе мы жили в маленьком северном поселке возле железнодорожного узла. Зимой, через день, я ходил к учительнице музыки. Заниматься на пианино. Не учиться играть, а именно «заниматься». Отбывать музыкальную повинность. Идти надо было далеко. На другой конец поселка.
За окном минус пятьдесят. В школе занятий нету. Мать надевает на меня все шерстяное, что есть. Потом пальто. Поднимает воротник. Завязывает колючий отцовский шарф. Намазывает нос и щеки вонючим жиром, чтобы не отморозился, крестит, как на войну провожает, и я иду на музыку.
На половине дороги был мостик через железную дорогу. С тех пор я знаю запах дыма вагонного угля.
На железном мостике захватывает дух. Дышать от холода нечем. Нету воздуха. И я бегу, чтобы скорее спустится вниз. Бегу по шатающимся доскам, приколоченным к железному железнодорожному мосту. С той стороны возле моста остановка. Иногда стоит автобус. Тогда я залезаю в него и еду две остановки. Я маленький. Кондукторше меня не видно. Я утыкаюсь в чью-то шубу и отогреваю нос. Еду зайцем. Не покупать же билет на две остановки. Хуже, когда кондукторша заметит. Тогда придется деньги отдавать. Да еще застыдит: «Стыдно, небось, пионер. Вот я матери расскажу».
Как давно это было.
А было, наверное, в пятьдесят седьмом или пятьдесят восьмом.
А сколько же тогда стоил автобусный билет? Не помню. Уже не узнать, сколько стоил автобусный билет в конце пятидесятых в маленьком северном поселке.
Много чего уже не узнать. Не все в книжках написано. Не все.
На музыку я ходил к двум ссыльным старушкам – Ванде Георгиевне и Еве Иосифовне. Откуда они были? С такими именами. Кажется, из Польши. Говорили с акцентом. Да, точно, из Польши. Мать рассказывала. Они были из Львова. А Львов перед войной был польским.
Старушкам повезло. Они остались живы после этой мясорубки. Судьбы им, конечно, переломали. Но жили. А может быть, и совсем не повезло? Я помню, у Ванды Георгиевны на тумбочке стояла фотография – офицер на коне. А рядом на другом коне она. Шляпка с перьями. Бельге перчатки. Длинное платье. Офицер в фуражке с квадратным верхом. Теперь-то я знаю – в конфедератке. У Евы Иосифовны на ее тумбочке тоже фотография. Она молодая, красивая, тоже с офицером. Только у нее без фуражки, но с шашкой и орденом.
Меня учили бесплатно. Просто так. Хотя мать приносила им подарки к Восьмому марта, Новому году. Они отказывались, но потом соглашались. А еще они иногда приходили к нам в гости.
Как женщины тактичные, они отвечали, когда мать спрашивала про мои успехи, что я способный. Как женщины умные, не говорили, на что способный.
4:44.
В половине седьмого я встану, а пока не спеша просыпаюсь.
Все дальше по времени мой Княжий Погост. Кажется, почти не виден, а вот он. Как у «Ежика в тумане», то голову кобылью увижу, то… что там у Норштейна?.. Кажется, заяц с капустой? Или медвежонок?
Жил в нашем поселке врач. По фамилии Мельцер. Был этот Мельцер из Австрии. Когда начался фашизм, решил молодой врач Мельцер с ним бороться. Родственники его быстро сообразили, что к чему, и укатили в Англию, звали и его. Но какая в Великобритании борьба! Мудрый Мельцер поехал в СССР. И приехал – в Коми АССР. В лагерь. Правда, вначале поработал он недолго в Москве в каком-то комитете, потом поврачевал в провинциальном городке, но путь его был с теперешних высот очевиден, и свершилось то, что и должно было случиться.
Человеком он оказался везучим. В первый год выжил, а потом повезло. Начальник лагеря мечтал стать разведчиком и долбил на манер Макара Нагульного немецкий. А тут удача – настоящий немец. Правда, если быть совсем точным, не немец, а австрийский еврей, но какая разница, немецкий-то он знал по-настоящему. И перевели Мельцера как медицинского специалиста с лесозаготовок в санитары. А в свободное время, естественно, не мельцеровское, а начлаговское, обучал он своего благодетеля премудростям разговорной и письменной немецкой словесности.
К языку начальник оказался не очень способным, зато его семилетний сын через год уже говорил на языке врага не хуже, чем на родном.
Мельцер обучал его всему, что знал. Получалось это у него здорово. В общем, когда пришла пора младшему начлагу идти в первый класс, знаний у него было на пятый.
О талантливом ребенке-самородке написали в газете. Родители были счастливы и при первой возможности, как нормальные люди, отблагодарили везучего Мельцера – определили на поселение в наш Княжий Погост. Растолковали при этом, чтобы сидел он там тихо-тихо, а не то, не дай бог, высунется и снова может в лагерь угодить. Да не к своему начлагу, а к какому-нибудь зверюге.
И оказался он в поселковой больнице санитаром. Главным врачом значилась жена прокурора, приятеля начлаговского. Она рулила, а Мельцер лечил. Случай заурядный и, наверное, типичный.
Врачом Мельцер оказался отменным, и через год у него лечилось все районное руководство, а их дети учились. Везунчик обустроился, получил однокомнатную квартиру в приличном доме поблизости от руководства, чтобы в случае, если кому занеможется, быстро мог дойти ночью. Одним словом, жизнь налаживалась. Но!
Жена прокурора, главврачиха, влюбилась в Мельцера. То ли потому что муж ее любил ездить с проверками по лагерям, особенно женским, то ли просто влюбилась, теперь не узнать. Мельцер тоже влюбился. Стали они допоздна задерживаться на работе. Это служебное рвение не осталось без внимания, да к тому же, учитывая особую любовь некоторых лиц к национальности Мельцера, мужу-прокурору, естественно, донесли. А тут еще дело врачей было в разгаре, да космополитизм. Не намечалось ничего хорошего. Особенно для санитара Мельцера.
Прокурор пришел в больницу.
И дальше самое забавное, такое, чему всегда удивлялся наш сосед, когда приходил к нам в гости. Прокурор пришел в больницу. Поговорил со своим соперником, тот не юлил, честно все рассказал.
Прокурор выкурил папироску и сказал:
– Коли любите друг друга, так женитесь. Я развод дам хоть завтра, еще тебе и спасибо скажу.
Так и произошло.
Мельцер женился, а на прокурора написали анонимку, что потакает развратным действиям космополитов-врачей, в смысле санитаров-убийц.
А тут подоспела смерть вождя, времена изменились, и через два года везунчика Мельцера амнистировали.
Амнистировать-то амнистировали, да куда подашься с женой, не имея ни квартиры, ни работы. Слава богу, австрийский диплом врача нашли в делах, и для его подтверждения, поехал Мельцер в Москву. Диплом признали действующим в СССР. Удалось Мельцеру, кроме этого, передать письма в австрийское и английское посольства с просьбой найти его родственников.
С этими ожиданиями он вернулся. Вернулся и прожил в Княжем Погосте аж до пятьдесят девятого года, не ведая ничего про родственников.
И вдруг телеграмма. Из Москвы – немедленно прибыть.
Оказывается, родственников его нашли давным-давно, а все эти годы шли переговоры с советскими лидерами о переезде Мельцера на родину. В Австрию. Родственники его из Англии перебрались в Америку, и там за время войны преуспели. Мало того что стали миллионерами, так еще один из них в советниках у президента оказался. Получив известие о давно оплаканном невезучем горемыке Мельцере, они начали биться за него. И в конце концов, когда один из высших чиновников США, подгадав удобный момент, попросил Хрущева отпустить Мельцера на родину, произошло желанное. Мельцеру и даже его жене разрешили уехать из СССР.
А уж когда согласие было дано, так госмашина закрутилась.
Американские Мельцеры прислали сто тысяч рублей на переезд. Мельцеры начали паковать чемоданы. Оказалось, что у них скопилось немало облигаций разных обязательных займов, и врач спросил у местных начальников, что с ними делать. Те запросили Москву: как быть?
Оттуда ответили – оплатить рублями все, что представит.
И тут в поселке началось! Местное начальство – к Мельцеру:
– Дорогой, купи у нас эти бумажки, мы тебя не обижали, помоги и ты!
Мельцер купил. Благо родственники прислали кучу денег.
Потом попросили соседи, потом знакомые соседей, Мельцер занялся доходным бизнесом. Покупал бумажки за пятую часть цены и превращал в рубли. Рублей получилось немало. Куда их девать? Не в Австрию же везти.
Короче, везучий мудрый и практичный Мельцер опять-таки с разрешения Москвы купил рентгеновский кабинет, стоматологический кабинет и зубопротезную мастерскую, еще множество медицинского оборудования на целую больницу. Все погрузили в вагоны и отбыли.
Потом, через год прислал он своей бывшей домработнице посылку со всякими заграничными тряпками и письмо, в котором передавал всем приветы и сообщал, что владеет больницей, но не в Австрии, а в США.
Как я, маленький мальчишка, запомнил все это из случайно услышанных обрывков рассказов взрослых, не понятно, но это помнилось все годы. Зачем?
Может быть, чтобы вспомнить сегодня, в четыре утра? Вспомнить сразу. И, покуривая, лежать на диване, додумывать, вспоминать, что еще было и было ли?
5:55
Весна в поселок приходила не с ледоходом на речке Вымь, не с грачами или с зелеными листочками на деревьях. Весна начиналась, когда сползал снег с высоток, холмиков, с любых возвышенностей. Когда подсыхали пятачки темной земли. Становились серее остальной грязи, уплотнялись от наших ног. Мы, пацаны от пяти и, наверное, до двенадцати лет, толклись на этих пятаках, на первом ярком северном солнцепеке почти весь день. Сразу после школы – сюда. А отсюда – только вечером, когда мать приходит с работы и загоняет домой делать уроки или помогать по дому.
Мы играли в ножички. Ножик был у каждого. У кого перочинный, складной, у кого самодельный из железной пластины, на манер финки. Железную пластину обдирали на наждачном круге или напильником, потом рукоятку обворачивали черной изолентой и получался приличный нож. Пацаны постарше делали ножи с усиками, приклепывали алюминиевой или медной проволокой к рукоятке пластинки из текстолита или оргстекла. Полировали. Под оргстекло подкладывали бумажные цветные картинки из журнала. Но для такого надо сверлить в рукоятке три дырки. Нужно было сверло, дрель.
Играли так. Сначала, держа за лезвие, пять раз втыкали ножик в землю. Это делали почти все. Кроме совсем малявок. Ножик красиво переворачивался в воздухе и втыкался. Потом – пять раз с коленки. Ножик острием ставился на коленку. Одним пальцем прижимался за другой конец и с переворотом втыкался в землю. Потом с пупка, потом с груди, потом с локтя, потом с губы. А в конце с носа и лба. Если не воткнешь, начинает другой, а ты потом, когда снова дойдет очередь, начинаешь все сначала.
Когда прошедших этот первый круг набиралось человек шесть, шли к угольному складу. И начиналось самое главное. Там кидали ножи в цель. Задняя стена склада из толстенных старых деревянных шпал была как будто для этого сделана. На стене мелом рисовали три круга и в центре белое пятно. Отходили метров на пять. Чертили линию на земле. Ближе нее к стене подходить нельзя. Дальше – как хочешь. Попал в центр – 10 очков. В другой круг – пять, в третий – 3, просто воткнул в стену – 1 очко. Не воткнул, брякнул ножом о стену, беги за ним и получай от остальных – «МАЗИЛА!!!». А потом жди своей очереди. Гляди, как другие смачно всаживают нож в стенку. Слушай, как ухает при этом толстенная, пахнущая железной дорогой шпала
Играли до ста. После промаха очки сохранялись. Каждый складывал и запоминал свои очки. Никто не врал и себе не прибавлял. Потому что заметят, что врешь, выгонят и больше не пустят играть.
Все это казалось мне очень важным, почти главным в жизни, потому и запомнилось, потому и теперь приходит в голову. Втемяшилось с той поры.
Ножи кидали до самой зимы. Все свободное время. Годам к двенадцати с пяти метров, а потом и с десяти попадал в центр круга почти каждый.
Мы с Борькой, дружком моим неразлучным, в свои двенадцать заимели классные ножи. Их сделал Борькин сосед, слесаривший в паровозном депо, за бутылку спирта, которую Борька вроде бы нечаянно разбил. Родители поругали и забыли, а слесарь из подшипниковой стали смастерил ножи, закалил и приклепал к ним текстолитовые рукоятки.
– ШХ-15, – сказал он, когда отдавал нам. – Гвозди перерубает.
Попробовали – перерубает. На лезвиях не оставалось даже маленьких зазубрин.
Ножами мы гордились. Заточили и отполировали. Кидали в цель точно. Не мазали. И никогда без них из дома не выходили.
Ножи выглядели как близнецы, и мы решили побрататься. Порезали указательные пальцы, потерлись выступившими каплями, кровь смешалась, Борька облизнул мой палец, я – его, и мы стали братьями.
Вокруг поселка было полно лагерей. Старшие пугали детей зэками.
Родители после побегов сначала запирали нас дома, потом не отпускали гулять дальше улицы, и только недели через две мы могли ходить в ближний лес или на речку, да и то не меньше чем втроем.
Истории про зэков были интересными. Вечером возле костра старшие пацаны рассказывали, как однажды весной сбежали десятеро. Во главе был здоровенный мужик, получивший двадцать пять лет за грабежи зубных врачей, частников.
– Он ночью тихо открывал дверь, прокрадывался в комнату, подходил к постели… – шепотом все тише и тише говорил какой-нибудь пацан, а потом все старшие орали:
– И вырывал у тебя зубы!
Младшие визжали от страха. Тогда их начинали выпроваживать, они просили оставить, уговаривали, и старшие снова продолжали.
– Получил бы он расстрел, да адвокат оказался ушлым и доказал в суде, будто врачи по доброй воле дарили ему золотишко, а потом от избытка чувств, вызванных приливом щедрости, умирали. Сам адвокат, видимо, получил немало, но и грабителю сберег жизнь.
Терять тому было нечего, и он после года отсидки подговорил к побегу еще восьмерых. Десятым был повар, который обеспечил беглецов сухарями и другой едой.
Срок у повара был такой же долгий, парень он был молодой, сидел за двойное убийство: своей возлюбленной и какого-то начальника, который был его соперником. Поэтому когда предложили, он сразу решился бежать. Авось повезет. Тем более что главарь пообещал полкило золота каждому, когда доберутся до Ленинграда.