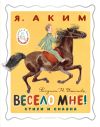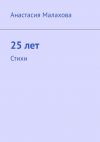Текст книги "Сочинения в трех книгах. Книга третья. Рассказы. Стихи"

Автор книги: Александр Горохов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
А еще через полгода в его мотоцикл врезался грузовик с пьяным водителем, и остались и Татьяна, и Галина вдовыми. Расставаться они уже не захотели, так и продолжали жить вместе. Только Татьяна обычно после дежурства оставалась у себя дома в Верхних. Приводила в порядок дом, поддерживала хозяйство, летом пропалывала огород, часто к ней приезжали теперь уже почти ее дети, да и Галина наведывалась.
В такт лошадиному шагу эта быль прошла в голове и Мокея, и Степана. А Васятка проскакал к поливалке, искупал и себя и своего коня в брызгах прохладной воды, потом вернулся назад и пристроил мерина на свое прежнее место.
Долго ехали молча. Потом дед затянул песню. Старинную, казацкую.
Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала-пролегала мать Камышинка-река.
Как собой она вела круты, красны берега…
Припев подхватил Степан, знавший эту любимую песню отца со своего детства:
Что по той ли быстрине, по Камышинке-реке,
Круты красны бережочки и зеленые луга,
Круты красны бережочки и зеленые луга…
Но после припева не удержался, и дальше они продолжили вместе, а Васятка стал им по-разбойничьи залихватски присвистывать.
Как плывут там, выплывают два снарядные стружка,
Два снарядные стружка из-за крута бережка.
А на стругах, а на стругах удалые молодцы,
Удалые молодцы, все тут разинцы-донцы.
Что по той ли быстрине, по Камышинке-реке,
Круты красны бережочки и зеленые луга,
Круты красны бережочки и зеленые луга.
К островочку среди Волги они веслами гребут,
Сами песенки поют, сами песенки поют
Удалые молодцы, все донские казаки.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Что по той ли быстрине, по Камышинке-реке,
Круты красны бережочки и зеленые луга,
Круты красны бережочки и зеленые луга.
К островочку среди Волги становилися,
Губернатора-то ждали-дожидалися,
Губернатора-то ждали астраханского…
Но тут, так и не допев, как за расправы над их детьми и женами казаки срубили губернатору голову и бросили ее в Волгу, дед Мокей прервался и приказал:
– Васятка, а назови-ка ты мне масти лошадей.
Дед задавал этот вопрос каждый раз, когда у него появлялось педагогическое настроение.
Василий знал, что увиливать или перечить деду бесполезно, и с ходу затараторил, называя те, которые были на виду:
– Гнедая, каурая, соловая.
– Э, нет, внучек, этот номер у тебя не пройдет! – Дед вспомнил свою кавалерийскую службу и потребовал: – Сначала одноцветные масти.
– Рыжая, бурая, вороная, соловая.
– Отставить! Отвечай, как я тебя учил. От темной к светлой масти.
– Вороная, бурая, рыжая, соловая, – уныло, как Отче наш, пробубнил внук.
– Отставить! – опять недовольно повторил Мокей. – Отвечай полностью, по всем правилам, с расшифровкой.
– Давай, давай, сынку, – весело поддержал деда отец и подмигнул, так чтобы Мокей не видел.
– Слушаюсь, товарищ старшина! – звонко проголосил Василий. – Вороная – черная. Бурая – каштановая. Рыжая, она рыжая и есть. Соловая – светло-песочный окрас, грива и хвост могут быть еще и белыми.
– Так, теперь двухцветные, – удовлетворенно кивнул дед.
– Двухцветные, – Василий задумался на секунду и бойко продолжил: – Гнедая – коричневый окрас туловища, головы, гривы и хвоста, а нижние части ног черные.
Дед недовольно хмыкнул.
– Чего? Я правильно говорю! – возмутился Васятка.
– От темного окраса надо начинать, – напомнил отец.
– А, тогда так, сперва караковая, у нее черная окраска туловища, головы и ног, как у вороной, но есть коричневые подпалины на голове у глаз и ноздрей и сзади на ягодицах. Потом гнедая, я уже про нее сказал. Потом эта, как ее, игреневая, у нее окрас рыжий, а грива и хвост светлые. И буланая – желтопесочный окрас туловища и головы, а грива, хвост и нижняя часть ног черные.
– Правильно, – похвалил дед.
– Дедуль, а откуда слова такие, караковая, игреневая?
– Игреневая, – дед покрутил ус, – игреневая, Василий, это от туркского йрень – значит, олень по-ихнему, а наши казаки приметили, что кони такой масти игривые и резвые, соединили и получилось игреневые.
– А караковая?
– Это совсем просто, – вступил Степан. – Караковый – значит, карий. Тоже от тюркского. Обозначает черно-бурый.
– Ясно, – Василий уважительно поглядел и на отца, и на деда и замолчал.
Деду тоже неохота стало спрашивать, и казаки опять замолчали.
Тихо посвистывал ветерок, и старый казак снова затянул песню. На этот раз всем известную «Степь да степь кругом». Пел он тихо, как будто не хотел потревожить ни своих, ни дремлющие под полуденным солнцем ковыли.
И вспоминалась ему эта же дорога только зимней ночью сорок шестого, первого послевоенного года. Когда радость, что остались живыми на войне, да еще и не покалечены, смешивалась с тоской об убитых друзьях. С тоской о погибших, или пропавших не ведомо в каких местах сродственниках, сестрах, дядьях и тетках, сорванных с родной земли войной. Когда вроде бы отпраздновали-перепраздновали и победу, и возвращение, помянули и перепомянули и близких, и дальних, все равно чуть что и снова собирались и поминали, и праздновали.
Возвращался Мокей в ту ночь крепко хмельной после встречи с двоюродным братом, только вернувшимся после госпиталя. Шальным снарядом разворотило ему полспины. Долго, аж с сорок третьего лечили его. Вырезали семь осколков, а последний, восьмой застрял на излете между позвонков и вроде бы и нерв не повредил, и доставать его врачи боялись. Отправили в конце концов брата в Москву, в главную военную медицинскую академию, и только там, осенью сорок пятого сам главный врач, генерал сделал операцию, и Гриня постепенно стал поправляться, потом учился снова ходить, выздоровел и вернулся домой.
Холод стоял лютый. Мокей ехал в пуховом свитере, шинели, армейских ватных стеганых штанах неспешно, как сейчас, на колхозной лошадке и клевал носом в полудреме. Темень тьмущая. Луны нет, все небо в тучах. Не то что дороги или зги, собственного локтя не видать. Только лошадь чутьем необъяснимым дорогу домой знает и идет себе, идет.
И почудилось ему, будто кто на помощь зовет. Мокей прислушался. Стал вглядываться в темноту. Нет, не видно. С минуту проехал, опять не то зов, не то плач. Стал он подумывать, может, волки? Их за военные годы без отстрела жуть сколько развелось. Не до них было – не волков, людей стреляли. Вдруг конь зафыркал, остановился, потом заржал. Мокей спрыгнул с лошади, сохранный после всех особистских проверок немецкий «вальтер» из кармана вынул, с предохранителя снял. Одной рукой лошадь за уздечку держит, в другой пистолет, вперед почти на ощупь двигается. А тут луна показалась. Дорогу осветила, и увидел он – женщина возле дороги стоит. В длинном черном до пят салопе, черном платке и улыбается. Вроде бы и красивая, только от улыбки ее у Мокея спина взмокла.
– Не бойся меня, Мокеюшка, – говорит.
– А чего мне тебя боятся, у меня пистолет имеется. Это ты меня бояться должна.
– А пистолетик-то свой выброси. У сельсовета «черный воронок» стоит. А в доме твоем злые люди тебя дожидаются. Найдут пистолетик и в острог бросят. А так гляди и обойдется.
– А откуда они про пистолет знают?
– А болтать да пить с чужими меньше надо.
И пропала.
И снова луну тучами затянуло.
Сел Мокей на лошадку. В руке пистолет крутит. Бросать жалко. А потом размахнулся и зашвырнул в овраг.
– Правильно сделал, Мокей, что послушался. Я тебе за это в следующий раз подарок подарю, – голос тот же ему на ухо чуть слышно шепнул. А может, ветер? Или приснилось? Только приехал он, домой заходит, а там четверо. Руки заломили, обыскали. На нем ничего не нашли. А в доме до того все перевернули.
– Где оружие прячешь? – старший спрашивает. – Чтобы против товарища Сталина террористический акт учинить!
Разозлился Мокей, гимнастерку на себе разорвал. Шрамы от ранений обнажились.
– Я, – говорит, – за товарища Сталина под пули на фронте шел, жизни не жалел, а вот вы где отсиживались, не знаю!
А на гимнастерке орден Боевого Красного Знамени, Солдатской Славы и две медали блестят. И чего-то екнуло у опричников.
Документы проверили.
– Извините, товарищ, – говорят. – Ложный донос. Будем разбираться.
И ушли.
А Мокей глянул на порванную гимнастерку. Обидно стало, что порвал. А потом подумал, что правильно вышло. Не порви, так везли бы сейчас эти гады его в тюрягу.
А тот же голос женский шепчет: «Не горюй, найду тебе красавицу, зашьет твою гимнастерку. А сейчас спать ложись».
Проснулся утром Мокей Пантелеевич, порядок в доме навел. На работу пошел. А про ту женщину напрочь забыл, как будто и не виделось, и не слышалось ничего.
Месяца через два снова едет по той дороге. Тоже за полночь. Только луна на этот раз, как солнце, светит. Снег под копытами хрустит. Мороз за сорок. Глядит Мокей, комочек чернеет у дороги. С коня слез. Подошел. Девчушка молоденькая скукожилась, окоченела, плачет. Снял он с себя шинель, ее закутал, на лошадь посадил. Самогона из фляжки, что на дорогу ему налили, заставил выпить. Стал спрашивать, откуда, кто такая, куда шла. Та дрожит, от холода, сказать ничего не может. Потом самогон и шинель ее согрели.
– Дуся, – говорит, – учусь на фельдшера в районе, шла домой на каникулы. Замерзла.
Оказалось, что живет она чуть ли не на соседней улице. Привез ее Мокей домой. Матери да деду с бабкой отдал. А сам простыл. Без шинели почти час на морозе был. На следующий день Дуся с бабкой проведать пришли, а у него жар. Начали лечить. Травами отпаивать, компрессы делать. Все каникулы Дуся не отходила от Мокея. Печку топила, еду готовила, отвары пить по часам заставляла. Вылечила. Каникулы закончились. Назад в райцентр уехала. Ну, уехала и уехала. А стал Мокей как-то раз рубашку из сундука доставать, глядит, а гимнастерка его с орденами аккуратненько зашита и шовчика почти не видно, так все ладно сделано. Вспомнил он про ту женщину, что спасла его. Про слова ее вспомнил. И как будто снова шепнули на ухо: «Ну, что, Мокей, нашлась тебе красавица?»
Усмехнулся Мокей и не знал что ответить.
А летом уже фельдшером Дуся приехала работать в родное село. Из малявки за полгода в красавицу превратилась. Его проведать зашла: «Как здоровье, Мокей Пантелеевич?»
Ну, Мокей говорит, мол, нормально, спасибо за заботу.
А она:
– Мокей Пантелеевич, – говорит, – я тебя люблю. Возьми меня замуж.
Мокей аж рот разинул. Был он неженатый. Но время от времени встречался с продавщицей сельпо.
– Да я же, – говорит, – тебе почти в отцы гожусь. Шагом марш отсюда.
А Евдокия ему:
– Кроме тебя мне никто не нужен. Только тебя одного люблю и всю жизнь любить буду. – Потом повернулась гордо и ушла.
И ни с кем после этого разговора он встречаться уже не стал. Неловко как-то перед Дусей, что ли, было. Хотя и ее избегал.
Все лето не виделись. А осенью поранил ногу, привезли его в медпункт. И будто другими глазами девчушку, которую зимой спас, увидел. Оторвать взгляд не может. Она рану зашила. Домой сопроводила. Каждый день приходила перевязку меняла. И ни слова ему за целый месяц не сказала.
А на Покрова они свадьбу сыграли. Сына Степана через год родили. Потом дочку. И ни разу за всю совместную жизнь Евдокия Михайловна на своего Мокея Пантелеевича голос не повысила. Ни разу не поругалась с ним.
И сейчас, подремывая на лошади, Мокей в который раз размышлял и не мог понять, кто та женщина, что в степи ему послевоенной ночью повстречалась, жизнь спасла, счастьем одарила.
А Степану думалось совсем про другое.
Вроде бы уже и целый год прошел с тех пор, а все равно, как вспомнит, так удивляется.
А было вот что.
Еще в советское время во время отпусков он с друзьями шабашил каменщиком на стройках в колхозах, клал стены коровников, клубов, гаражей, за несколько лет скопил денег и, слегка переплатив, купил вишневую «шестерку». Практически новую. Потом вместе с соседом начал продавать абрикосы. Срывали свои, скупали на ближайших дачах по дешевке и, заполнив машины, гнали всю ночь в Подмосковье и на рынке продавали раз в пять, а то и в семь дороже.
Сосед этим промышлял года три, но потом стал побаиваться ездить в одиночку и уговорил Степана. За две абрикосные недели они успевали обернуться раза четыре, а то и пять. Получались хорошие и легкие, гораздо легче, чем на стройке, деньги.
Зимой Степан на машине почти не ездил. Берег. Понемногу в выходные ремонтировал, перебирал движок, регулировал клапана, зажигание, подделывал всякие мелочи, а весной окончательно приводил в порядок. Разбирал и снова собирал ходовую и рулевое, менял тормоза, подкрашивал днище, доводил до идеального состояния, проходил техосмотр и ждал, когда поспеют абрикосы, дойдут до кондиции, когда уже сладкие, но еще не мягкие. Тогда в путь.
За восемь лет даже при таком уходе семейная кормилица поизносилась. Подоржавели короба, да и правую дверь надо было бы поменять. Надо бы, да где было взять деньги. В позапрошлом году абрикосы не уродились и приработка не получилось. В тот год дочка оканчивала школу, и чтобы подготовить ее к институту, надо было платить репетиторам. Сумма получалась приличная, да если прибавить к ней выпускное платье, туфли, прочее, что надо выпускнице, да деньги на подарок школе и выпускной вечер в ресторане, а без этого было нельзя, не позорить же девочку перед одноклассниками, то выходило ого-го сколько.
Запасы истощились, и взять на подготовку вишневой «шестерочки» к техосмотру было неоткуда.
В один из выходных дней Степан возился в гараже, регулировал зажигание, переклепывал тормозные колодки, подтягивал ручник. В общем, делал то, на что не надо было денежных трат и что мог сделать сам. Подъезжает сосед. На его «москвиче» на лобовом стекле новенький талончик техосмотра с заветными двумя цифрами. А сам «москвич» развалина из развалин. Даже Степановым «жигулям» не чета. Разговорились. Тот и рассказал, что есть мужичок, обыкновенный сторож на автостоянке, который через своих знакомых за скромную сумму может достать такой вот талон. И никуда ехать не надо. Идешь к нему, отдаешь деньги, а через неделю получаешь талон.
Подсчитал Степан все траты, и оказалось, что если по закону проходить техосмотр, если крыло новое ставить, колеса почти лысые менять, короба варить, да еще огнетушитель, аптечку, медицинский осмотр бегать проходить, а без этого никак, то раз в шесть больше денег уйдет. А так пятьсот рублей отдал, через неделю получил красивый талончик в прозрачном пластике и до следующего года спокоен. И ни тебе хлопот, ни забот. Сосед имя и фамилию того мужичка на листке написал, даже дни, когда тот дежурит, указал. Ну, Степан дождался очередного дежурства и на стоянку пришел. В будку постучал, вошел. Там двое сидят. Спрашивает, как увидеть такого-то.
– А он уволился.
– А вы адреса его не знаете, случайно?
– Нет, адреса не знаем.
Только Степан подумал, что вечно ему не везет в таких делах, что придется теперь тысячи три неизвестно где доставать на ремонт, и повернулся уходить, как один из дежурных и говорит:
– А вам зачем он? Техосмотр, что ли, пройти надо?
– Да.
– Так это мы и без него можем сделать.
– Правда?
– Деньги и квитанции об оплате техосмотра давай и через десять дней приходи сюда же.
Степан обрадовался, побежал в сберкассу, оплатил все, что положено. Назад на стоянку вернулся. В дежурке один мужичок сидит. Все взял. Телефон домашний у Степана записал. На всякий случай, вдруг раньше будет готово.
Степан как на крыльях домой летел. Такая экономия получается. А через неделю мужичок сам звонит. Говорит, что через десять дней не получится, что какая-то проверка и еще придется неделю сверх того подождать.
Степан подождал, и когда подошло время, пришел на автостоянку. Того мужичка нет. Начал узнавать про него. Оказалось, что временно подменял заболевшего сторожа. Что фамилия его Закалюкин и что таким манером он человек шесть надурил. А где сейчас никто не знает. Адрес его домашний дали, только сказали, что там он уже лет пять как не живет.
Степан все же пошел к Закалюкину домой. Дверь открыла старушка, мать этого типа. Поплакалась на судьбу свою, на сына непутевого. Ничего про Закалюкина она толком не знала.
Разозлился Степан на пройдоху. Встретил – убил бы. И не столько из-за пропавших денег, хотя и денег, конечно, жалко. А обидно было, как его, опытного мужика, какой-то хлыщ надул. И так это задело Степана, что ни о чем другом он уже и думать не мог. Спать перестал. Ночью в кровати ворочается, уснуть не может, всякие мысли дурные в голову лезут. Днем на работе то же самое. С работы каждый вечер – к дому Закалюкина. Придет. Сидит во дворе. Вдруг этот проходимец к матери заглянет? Жена уговаривает, плюнь, черт с ним. Заняла денег. Сама купила колеса. Крыло. Нашла знакомых – «жигули» подготовили к осмотру. Прошли. И все без Степана. Он и хочет отвлечься, позабыть про обиду и обман, не получается. Казалось бы, плюнь, забудь. Не выходит. Внутри у него клокочет и негодует. Как будто замкнуло. Чуть задумается, опять в мыслях к Закалюкину возвращается. Казни ему всякие придумывает. Даже говорить потихоньку, как если бы встретился с ним, стал.
Думали, свихнется. И неудачи в делах одна за другой пошли.
А тут теща в гости приехала. Глядит – в семье кувырком. У дочки своей, жены Степановой, вызнала, выбрала момент и говорит:
– Степушка, сходи в церковь, помолись Богу. Поставь свечки Христу, Деве Марии, Николаю Угоднику и Серафиму Саровскому. Да попроси у Бога прощения и сам прости этого мужичка. Прости по-настоящему. Навсегда. Отпусти ему его грех и пожалей его.
Степан взъерепенился. Мол, я этого типа прощать, да еще за него молится и жалеть? А теща спокойно, тихим голосом:
– Пойди, сыночек, помолись. Пожалей его, убогого. Подари ему эти деньги. Может, ему они нужнее, чем тебе были. Прости его.
Уговорила.
И Степан пошел. Сделал, как научила теща. Свечки поставил. Уже уходить собрался, а его священник останавливает и разговор самый обычный заводит. Степан потом и вспомнить не мог, о чем говорили. Так, о самых обычных вещах. О житье-бытье, о душе. А как будто батюшка его водой святой отлил. Поговорили. Батюшка перекрестил Степана и отпустил.
Вышел Степан из церкви, вдохнул весеннего воздуха, глянул на солнышко, как воробьи на ветке чирикают услышал, улыбнулся жизни весенней и только сейчас полностью простил этого Закалюкина. И так легко на душе стало, так радостно. И еще раз простил он обидчика. И как-то враз понял, что счастливый он человек. И дети у него, и жена, и все живы-здоровы.
И стало в делах опять ладиться. И урожай абрикосов на даче был огромный, и у соседей уродилось. И сделал Степан шесть ходок на машине. Две в Самару, а четыре в Подмосковье. И заработал столько, что и с долгами расплатились, и хватило на все траты и даже осталось. И никто к нему не цеплялся. Ни милиция, ни бандюки. И не было ни одной поломки у «жигулей».
Все это сейчас вспоминал Степан и опять удивлялся. Как это так бывает: простишь человека, а самому тебе лучше станет. Он тебе гадостей понаделал, его за это в порошок стереть надо или забить до полусмерти, а ты его прощаешь, и тебе от этого спокойно становится. Вроде не ты ему, а он тебе добро сделал. Чудно!
«Да, – продолжал размышлять Степан, – мудрые люди написали Библию. Наверное, все-таки Бог есть. Точно есть, раз от доброй мысли на сердце тепло становится».
Он поглядел по сторонам. Увидел, что Васятка опять ускакал вперед и тихо спросил отца:
– Батя, а ты как думаешь, Бог есть?
Мокей долгим взглядом поглядел на сына, посерьезнел и тихо, как будто великую тайну открыл, сказал:
– Есть.
И как будто застеснялся сокровенного, свистнул и громко, в степи все равно никому не слыхать, запел задорную Платовскую:
Справа по три выходили весело, весело,
Палаши мы обнажили наголо, наголо,
С ходу взяли мы село, мы село, мы село,
Пардон, а где же тут вино, где вино?
А Васятка издалека услыхал деда, повернул своего солового к ним, начал махать рукой, свистеть, подпевать. И его радость передалась отцу, деду, из травы вспорхнули куропатки, высоко запел жаворонок, и всей степи стало весело, вольно, как и должно быть всегда.
Доски из коровника
Тогда мне было двадцать три. Теперь почти семьдесят. Так что можете прикинуть, когда это было. Работать плотником я только начинал. Взяли в бригаду сразу после армии. Ставили в то лето крышу на стены нового, только построенного коровника.
Бригадир, мужик опытный, толковый, рулил не суетясь. Всё замерил, обматерил тех, которые клали криво-косо стены, выбил из верхних рядов кирпичи, замуровал вместо них бруски, чтобы потом крепить матицу. На земле заготовили брусья для этого самого, как говорят по-научному, мауэрлата, для стропил, стоек, ригелей, прочего всего. Что надо подтесали, где надо просверлили, просмолили. Короче, сделали как положено, по всем правилам. Подняли наверх, начали крепить.
Глядим, к соседнему старому коровнику три черные «Волги» подкатывают. Начальство в синих пиджаках вылезает, перед ними директор совхоза раскланивается. Заходят в коровник, минут через пять начался мат-перемат, главный руками размахивает, орет на нашего директора, за ним вываливает остальная свита, хлопают дверями, укатывают, а наш стоит, и даже с крыши видно, как у него, взрослого мужика, колени трясутся. Постоял он, пришел в себя, огляделся и к нам поплелся. Подошел, говорит:
– Слазьте, хлопцы, разговор есть.
Мы, понятно, спустились.
– Видели, первый секретарь обкома приезжал со своими замами. Хотел, видать, похвалить. Наш совхоз по молоку план перевыполнил, да не повезло мне, – директор ухмыльнулся, потом вздохнул, закурил, сплюнул, выкинул сигарету. – Не повезло. В говно коровье их высокопревосходительство вляпался и посреди коровника растянулся. Новый пиджак вымазал, ботинки, само собой. Помощничков обрызгал. В общем, в истерику впал, велел заменить полы, или крышка мне. Так что – выручайте.
– Не вопрос, – говорим, – крышу поставим и заменим.
– Нет, парни, мне надо к завтрему. Он сроку дал сутки. Орал: «Приеду лично, проверю, уволю!».
– А материал? – вступил наш бригадир.
– Есть у меня половая доска сосновая, хотел в клубе полы поменять, да, видать, не судьба.
– Так сосна сгниет за год.
– Не до того сейчас, сгниет так сгниет, может, я раньше этих полов сгнию или вылечу отсюда. Короче, выручайте, заплачу по максимуму. По самым высоким расценкам.
Бригадир кивнул, и мы отправились в тот коровник. Поглядели: ничего страшного, полы как полы. Ну, слегка грязные, так дело обычное – животные, коровы. Не успели за ними убрать, не трагедия. Да и этот первый секретарь был бы чуть повнимательней, так не вляпался, не поскользнулся, не плюхнулся бы. Не повезло директору.
Коров доярки или кому там положено, я не знаю, из коровника выгнали, перевели в другое место. Мы поржали, посоветовали, покуда начальство коровник снова не посетит, животину не кормить во избежание повторения эксцесса. Раздобыли тяпки, с полов добро коровье сгребли, после из шланга вымыли. Заблестело – и перестилать не надо. Но жизнь, как говорится, диктует свои законы, зачастую вопреки здравому смыслу. И начали мы доски эти срывать, в кучу складывать, а они тяжеленные, еле вдвоем поднимаем.
Я ломом поддеваю, чуть отрываю от лаги, напарник гвоздодёром гвозди вытаскивает. Гвозди, двухсотки, пищат, но лезут. Прочно сидят. Топориком струганул, проверить, не прогнило ли насквозь. Звук – будто об камень чиркнул. Гляжу, под грязью, под пропиткой коровьей, зеленоватого цвета фактура открылась. И ничего не прогнило.
Я бригадира подозвал глянуть, говорю, мол, гляди, штуковина какая. Он тоже удивился, затылок почесал.
– Это, должно быть, от коров получилось. Вроде как мореный дуб, только не в воде выморенный, а в моче.
Топориком ещё потесал – везде под чернотой такое. Посмотрел на доску, будто на дитя любимое. Рукой погладил. Хмыкнул, что делаем дурную работу и что противно на такую бесхозяйственность глядеть.
– Давай, – говорю, – другой стороной перестелем доски, и всех делов.
– Нет, – покачал он головой, – такой красоте не место в коровнике, да и с двуногими баранами надо по-другому. Их надо использовать по полной программе. Мы эти досточки себе заберем, а там видно будет, чего с ними делать.
И пошел к директору, который тут же у входа в тоске сидел и сигарету за сигаретой дымил.
– А куда, Петрович, доски с коровника девать?
Директору, понятно, не до досок. Ругнулся, потом на нашего бригадира глянул.
– Да хоть себе забери, видишь, в какой идиотизм меня начальство мордой тычет. Я четыре года назад, летом, дубы, которые лесники наши у браконьеров реквизировали, за гроши выкупил, на пилораме попилил. Тут доски постелил, думал, до конца дней моих простоят полы, радовался. Это же дуб! А теперь пропади они пропадом.
Но наш бригадир мужик ушлый, просто так, даром, брать не стал. Понимал, что потом предъявить могут, будто украл. Потому договорился, что мы в счет оплаты за замену полов их возьмем по цене дров и все официально оформим. А нам сказал:
– Парни, кому доски дубовые нужны, поделим по-честному. Я бы себе четверть взял.
Народ поглядел, попинал доски, поразмышлял, и поделили, а потом, когда в срок работу сделали, когда начальство смилостивилось и похвалило директора совхоза, когда мы поставили крышу на новый коровник, получили заработанное, директор совхоза выделил грузовик, и эти самые доски нам по домам развезли.
Прошло лето, работы поубавилось, а зимой и вовсе не стало. Начали мы захаживать друг к другу. Собирались всей бригадой. Прикидывали, где сподручнее будет работать весной, какие промахи были в этом году, на чем можно выиграть время, а значит, и больше заработать. Вспоминали разные случаи. Как-то вспомнили и про полы в коровнике.
– А доски-то эти дубовые, куда приспособили? – спросил я.
Оказалось, кто-то попилил на дрова и уже в печке истопил. У кого-то до сих пор валяются во дворе. Кто-то забор заменил. Всяк по-своему досками распорядился.
Домой в тот раз мы с бригадиром возвращались вместе, и я спросил:
– А ты-то, Алексей Иваныч, как своими досками распорядился? Помню, как увидел, сразу на них глаз положил.
– А вот, ежели, конечно, любопытно, дойдем до дома и поглядишь, чего у меня получилось.
Я примерно догадывался, что могу увидеть. Еще с тех пор, когда бригадир там, в коровнике, нежно, бережно провел рукой по оструганному срезу, погладил просветлевшую поверхность, пошел хлопотать о досках, обрадовался, что можно забрать их.
Вошли в дом.
– Танюша, я пришел, – оповестил жену бригадир и добавил: – И не один.
– Есть будете? – вышла из другой комнаты жена. – Я пирог с капустой только что испекла. Давайте, с чайком.
Сидим, чай пьём. Я по сторонам смотрю.
– А где продукт переработки досок? – юморю.
– А продукт, в мастерской у Лёши, в другой комнате, – улыбается жена.
Допили чай, пошли. Алексей Иванович включил свет, и, бог ты мой, комната засветилась. Нет, не от электричества, а от… Я даже теперь не знаю, как это назвать. Посредине мастерской стоял средневековый замок. Башенки, подвесной мост на цепях, бойницы-окошки казались вытесанными, нет не вытесанными, а отлитыми из камня. Из нефрита. Замок светился, будто китайский фонарик – изнутри. К нему притягивало. Хотелось дотронуться, погладить.
Татьяна открыла дверцу-ворота. Внутри оказались полки для посуды, выдвижные ящички для ложек, вилок, прочих столовых приборов. И всё это переливалось салатным, розовым, желтоватым, темно-зеленым цветами. Сверкало будто перламутровая раковина с жемчужиной. Я, зачарованный, подошел, погладил отполированную матовую стену с вырезанными кирпичиками и в стеклянном окошке увидел счастливое лицо. А чуть дальше ещё два таких же лица.
Ай да Алексей Иванович! Такое чудо сотворил.
– Иваныч, – выдохнул я, когда пришел в себя, – как же ты все это разглядел в загаженных досках из коровника? И зачем плотничаешь, тебе надо краснодеревщиком работать. Для такой мебели место в музее!
– А вот как доделаю, налюбуюсь, так и отдам в музей. Пусть все видят. Смотрят и радуются.
Я возвращался домой по ночной дороге и размышлял, как это интересно получается: какой человек – такой и результат. Пустой – истопил доски в печке, тот, который опасался, что воры залезут – сделал забор, кто не знал, куда приспособить, недогадливый, не расторопный, ленивый – у того до сих пор доски под дождем и снегом валяются, у кого-то на починку свинарника ушли, а самый толковый и рукастый такую красоту сотворил. Радостно мне стало, оттого что додумался до такой простой истины. И огромное уважение к бригадиру моему, и вообще, к таким людям вдруг возникло. Вроде бы и раньше было, но как-то неосознанно. С высоты нынешних лет скажу – подсознательно, интуитивно. Тогда-то я и решил стать мастером, настоящим. Чтобы дело свое до всех тонкостей знать, до самой что ни на есть сути. Таким, как у поэта умного написано. Не просто было, много шишек набил, но никогда не пожалел. И теперь, кажется, пора успокоиться, а привычка не дает, надо до всего докопаться, понять, должно быть, она стала характером.
А про людей так и не понял. Почему одни могут разглядеть, увидеть красоту, а другим не дано. Вот хотя бы история почти что наша, про доски: врач французский, Рей, лечил Винсента Ван Гога, должно быть, неплохо, раз тот, в благодарность, написал его портрет и подарил. А Рей, подаренную картину закинул на чердак, потом ею заткнули дырку в курятнике. Так бы и сгинула под слоем куриного дерьма картина, да через десять лет в том французском городишке, в Арле, оказался другой художник – Шарль Камоэн, увидел её и забрал. Спас. А узнал я эту историю потому, что портрет доктора Рея купил в начале прошлого века русский купец Сергей Иванович Щукин, и теперь она находится в музее имени Пушкина.
Врач, который лечил художника, позировал ему, не понял, не увидел того, что было буквально под носом. Не разглядел ни талант художника, ни картину. А человек, можно сказать, из другого мира, из России, купец из старообрядческой семьи – увидел! И не только эту, но и картины других постимпрессионистов, тогда еще не признанных у себя во Франции. Покупал их, привозил в Россию. Создал огромное собрание. И только благодаря ему мы теперь можем их видеть. Не копии или репродукции, а подлинники. Современники-парижане плевались, говорили, что это не живопись, а мазня, а Щукин увидел! И нам счастье видеть это оставил.
Низкий поклон ему и другим мастерам!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?