Текст книги "Любовь, сексуальность и матриархат: о гендере"
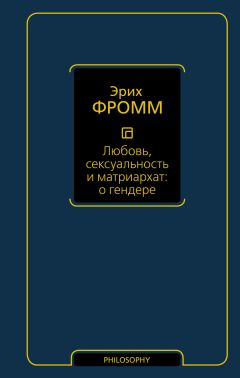
Автор книги: Александр Грин
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Социальный характер и любовь
9. Себялюбие и любовь к себе
В современной культуре эгоизм находится под строгим запретом. Она учит, что эгоизм, себялюбие – это грех, а любовь к ближнему – добродетель. Несомненно, эта доктрина не только самым вопиющим образом противоречит практикам, распространенным в современном обществе, но также противопоставляется другому набору учений, предполагающему, что эгоизм является наиболее мощным и правомерным человеческим влечением и что каждый индивидуум, следуя императиву этого влечения, приносит наибольшую пользу всему человечеству. Существование этой последней идеологии не уменьшает веса доктрин, которые заявляют, что эгоизм – величайшее из зол, а любовь к ближнему – главнейшая добродетель. Эгоизм в том смысле, в каком о нем обычно говорят эти идеологии, более или менее синонимичен любви к себе. Альтернатив всего две: любовь к ближним, которая считается добродетелью, и себялюбие, которое считается грехом.
Классическое выражение этого принципа можно найти в теологии Кальвина. Человек в сущности своей плох и бессилен. Собственными силами и заслугами он не способен добиться ровным счетом ничего. «Мы принадлежим не себе, а Господу, – заявляет Кальвин на страницах «Наставлений в христианской вере» (Calvin 1928, книга III, стр. 619), – и становится понятно, что именно следует делать из страха не впасть в заблуждение и чему нужно посвятить всю свою жизнь. Мы не принадлежим себе. И поэтому наши планы, намерения и обязанности более не определяются нашими разумом и волей. Мы не принадлежим себе. Поэтому не будем ставить себе целью поиск того, что нужно нашей плоти. Мы принадлежим Господу – так будем жить и умирать для Него. Мы принадлежим Господу – так пусть все наши поступки направляют Его воля и мудрость. Мы принадлежим Господу – так пусть вся наша жизнь будет обращена к Нему как к единственной цели. О, как преуспел человек, который, сознавая, что не принадлежит себе, отбросил господство над собой собственного разума, чтобы успокоиться в Боге! Ибо самая страшная чума, поражающая людей и приводящая их к гибели, – это угождение самим себе. А врата спасения – это отказ от собственной мудрости, от желания чего-то ради самих себя и следование за одним только Господом»[71]71
Здесь и далее перевод А. Бакулова; см. библиографию. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Человек должен не только сохранять убежденность в собственном абсолютном ничтожестве. Он должен также делать все возможное для принижения себя. «Я не называю смирением то состояние, когда мы думаем, что чем-то обладаем, – говорит Кальвин (там же, стр. 681), – если вы полагаете, что мы чем-то обладаем… Когда мы слышим из уст пророка, что Бог спасает людей угнетенных, а очи надменные унижает, то подумаем, во‐первых, что мы обретаем доступ к спасению, только отбросив всякую гордость и приняв подлинное смирение; а во‐вторых, что это смирение не есть скромность – внешний покров, создающий лишь видимость того, что мы склоняемся перед Богом… Это смирение представляет собой непритворное сердечное самоотречение, происходящее от искреннего чувства нашей ничтожности и нищеты».
Подобный упор на ничтожество и греховность индивидуума подразумевает, что ничто в себе не должно ему нравиться. Основой этой доктрины являются презрение и ненависть к себе. Кальвин выражается донельзя ясно; он называет любовь к себе «язвой» (там же, стр. 622).
Если индивидуум находит в себе что-то такое, «от чего становится себе приятен», то этим он демонстрирует грешное себялюбие. Такое благоволение к себе заставит его осуждать и презирать других. Следовательно, благоволить себе или любить в себе хоть что-то – один из величайших грехов, какие только можно вообразить. Он исключает возможность любви к ближнему и тождественен эгоизму.
Философия Канта имеет принципиальные отличия от теологии Кальвина, однако базовая установка относительно проблемы любви к себе остается неизменной. По мнению Канта, желать счастья другим – добродетель, в то время как желание собственного счастья остается этически «нейтральным», поскольку к тому стремится человеческая природа, а естественное стремление не может иметь положительного этического смысла (см. Kant 1908, особенно часть I, стр. 126). Кант признает, что не следует отказываться от притязаний на счастье; при определенных обстоятельствах забота о своем счастье бывает правильным поступком; отчасти потому, что здоровье, довольство и прочее подобное могут быть средствами, необходимыми для исполнения долга, отчасти потому, что отсутствие счастья – бедность – может отвлечь человека от исполнения долга (там же, ч. I, стр. 186). Но любовь к себе, стремление к собственному счастью ни в коем случае не может быть добродетелью. Стремление к собственному счастью как этический принцип не годится: «Он подводит под нравственность мотивы, которые, скорее, подрывают ее и уничтожают весь ее возвышенный характер, смешивая в один класс побуждения к добродетели и побуждения к пороку»[72]72
Перевод Б. Фохта; см. библиографию. – Примеч. ред.
[Закрыть] (там же; см., в частности, «Основы метафизики нравственности», раздел второй, стр. 61). Кант различает в эгоизме себялюбие, филавтию (благоволение, расположение к себе) и высокомерие – любование собой. «Разумное себялюбие» следует ограничивать этическими принципами, самолюбование следует подавлять, индивидуум должен ощущать свое ничтожество в сравнении со святостью моральных законов (там же, часть I, стр. 165). Он должен находить высшее счастье в исполнении долга. Реализация нравственного принципа – и, следовательно, обретение счастья индивидуумом, – возможны лишь в чем-либо целом, в нации, в государстве. И все же «благо, источник которого рассудок, [т. е.] сохранение уже существующей конституции, есть высший закон гражданского общества вообще, ибо это общество существует только благодаря этой конституции, – salus rei publicae suprema lex est[73]73
Благополучие страны есть высшее благо (лат.). – Примеч. ред.
[Закрыть]» (там же).
Несмотря на то, что Кант проявляет больше уважения к целостности личности, чем Кальвин или Лютер, он заявляет, что даже при самом тираническом правительстве человек не имеет права бунтовать, а карой за угрозу авторитету государя должно быть не что иное, как смерть (Kant 1907, стр. 126). Он подчеркивает заложенную в природе человека склонность к дурному (Kant 1934, особенно книга I), для подавления которой необходим нравственный закон, категорический императив, иначе человек превратится в зверя, а история человеческого общества закончится буйством анархии.
Обсуждая системы Кальвина и Канта, мы упомянули их фокус на ничтожестве человека. Но все-таки, как уже упоминалось, они также обращают внимание на автономию и достоинство индивидуума, и это противоречие пронизывает все их труды. В философии эпохи Просвещения вопрос притязаний и счастья человека даже более, чем Кант, подчеркивали другие философы, например Гельвеций. Эта тенденция в современной философии нашла беспрецедентное выражение у Штирнера[74]74
М. Штирнер – немецкий философ, основоположник теории анархизма и философского нигилизма. – Примеч. ред.
[Закрыть] и Ницше. Формулировка, в которую они часто облекают данную тему – хотя она не обязательно отражает их истинные соображения, – родственна фундаментальной идее Кальвина и Канта о том, что любовь к другим и любовь к себе взаимно исключаются. Но, в противопоставление этим авторам, они определяют любовь к другим как слабость и самопожертвование, а эгоизм, себялюбие и любовь к себе называют добродетелью – и тоже запутывают дело, не проводя между этими явлениями четкого разграничения. Например, у Штирнера мы читаем: «Тут должен выступить имеющий решающее значение эгоизм, своекорыстие, а не принцип любви, не чувства, вытекающие из любви, – милосердие, добросердечность, благодушие, даже справедливость и правосудие (ибо и justitia[75]75
Правосудие (лат.). – Примеч. ред.
[Закрыть] – проявление любви, продукт ее): любовь знает только жертвы и требует “самопожертвования”» (Stirner 1912, стр. 339[76]76
Перевод Б. Гиммельфарба; см. библиографию. – Примеч. ред.
[Закрыть]).
Та любовь, которую отвергает Штирнер, – это мазохистская зависимость, превращающая индивидуума в средство достижения целей кого-то или чего-то вне его самого. При таком понимании любви он едва ли мог избежать формулировки, постулировавшей безжалостный эгоизм в качестве цели. Следовательно, формулировка является весьма спорной и преувеличивает сущность проблемы. Положительный принцип, занимавший Штирнера, был направлен против установки, которая многие века пропитывала христианское богословие – и ярче всего проступала в доживавшем свой век немецком идеализме; против установки, которая требовала от человека подчиняться и искать точку опоры в авторитете и принципе, существующим вне его самого. Конечно, Штирнер не был философом масштабов Канта или Гегеля, однако ему хватило смелости радикально взбунтоваться против той стороны идеалистической философии, которая отрицала конкретного человека и тем самым помогала абсолютистскому государству сохранять свою деспотичную власть над ним. Хотя по глубине мысли и размаху эти два философа не идут ни в какое сравнение, установки Ницше и Штирнера во многих отношениях сходны. Ницше тоже клеймит любовь и альтруизм как выражение слабости и самоотрицания. По Ницше, поиск любви характерен для рабов, которые не способны бороться за желаемое и поэтому пытаются добиться своего с помощью «любви». Следовательно, альтруизм и любовь к человечеству являются признаками вырождения (см. Nietzsche 1910, в частности, параграфы 246, 362, 369, 373 и 728). Для него сущность качественной и здоровой аристократии заключается в том, что она готова пожертвовать бесчисленным количеством людей ради своих интересов без всяких угрызений совести. Общество «имеет право на существование не для общества, а лишь как фундамент и помост, могущий служить подножием некоему виду избранных существ для выполнения их высшей задачи и вообще для высшего бытия» (Nietzsche 1907, с. 225[77]77
Здесь и далее перевод Н. Полилова; см. библиографию. – Примеч. ред.
[Закрыть]). Можно найти еще множество цитат, иллюстрирующих подобный дух садизма, презрения и грубого эгоизма. Эту сторону Ницше часто называют «философией Ницше». Неужели это правда? Неужели таков «истинный» Ницше?
Чтобы ответить на этот вопрос, потребовался бы подробный анализ трудов философа, который невозможно провести в рамках этой работы. Высказать суждения, представленные выше, Ницше побудили самые разнообразные причины. Во-первых, как и в случае Штирнера, его философия – это реакция, бунт против философской традиции подчинения человека авторитету и принципу, существующим вне его самого. Такая склонность к преувеличениям явно носит реактивный характер. Во-вторых, Ницше терзали тревожность и чувство своей уязвимости, и, видимо, именно здесь следует искать причину садистских побуждений, приводивших к таким формулировкам.
Тем не менее, упомянутые черты не кажутся мне «сутью» личности Ницше, а соответствующие взгляды – сутью его философии. Наконец, Ницше разделял некоторые натуралистические идеи своего времени в том виде, в каком их выражала материалистически-биологическая философия, для которой были характерны рассуждения о физиологических источниках психических явлений и о «выживании наиболее приспособленных». Такая интерпретация не отменяет того факта, что Ницше разделял убеждение, будто между любовью к окружающим и любовью к себе существует противоречие. Но все же важно заметить, что взгляды Ницше содержат зерно мысли, развитие которой может преодолеть эту ложную дихотомию. «Любовь», на которую он ополчился, коренится не в силе человека, а в его слабости. «Любовь к человеку без какой-либо освящающей ее и скрытой за нею цели есть больше глупость и животность… кто бы ни был человек, впервые почувствовавший и «переживший» это… – да будет он для нас навсегда святым и достойным почитания как человек, полет которого был до сих пор самый высокий и заблуждение самое прекрасное!» Ницше прямо утверждает: «Вы не выносите самих себя и недостаточно себя любите» (Nietzsche 1910, стр. 75[78]78
Здесь и далее перевод Ю. Антоновского; см. библиографию. – Примеч. ред.
[Закрыть]). Индивидуум имеет для Ницше «слишком малое значение» (там же, абз. 785). «Сильный», «настоящий» человек – тот, «кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть. Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя» (там же, абз. 935).
Этим духом пронизана вся работа «Так говорил Заратустра»: «Один идет к ближнему, потому что он ищет себя, а другой – потому что он хотел бы потерять себя». (там же, стр. 76).
Сущность этих взглядов заключается в том, что любовь есть проявление изобилия, ее предпосылка – сила индивидуума, способного отдавать. Любовь – это утверждение: «То, что она любит, она еще хочет – создать!» (там же, стр. 102). Любовь к другому человеку добродетельна лишь тогда, когда рождается из внутренней силы, но презренна, если становится выражением фундаментального неумения быть собой. (Ср. Nietzsche 1910, абз. 820; Nietzsche 1911, абз. 35; Nietzsche 1911а, абз. 2; архив Ницше, стр. 63–64.)
Однако факт заключается в том, что Ницше оставил проблему отношений между любовью к себе и любовью к другим неразрешенной антиномией, даже если, интерпретируя его тексты, мы можем предположить, в каком направлении следовало бы искать решение. (Ср. немаловажную статью Макса Хоркхаймера[79]79
М. Хоркхаймер – немецкий философ и социолог, один из основателей Франкфуртской школы. – Примеч. ред.
[Закрыть] [1936] о проблеме эгоизма в современной истории.)
Доктрина о том, что себялюбие является наихудшим злом, которого следует избегать, и что любовь к себе исключает любовь к другим, вовсе не ограничивается сферами теологии и философии. Это один из стандартных подходов, которые сегодня используются дома, в школе, в церкви, в кино, в литературе и во всех других инструментах социального внушения. «Не будь эгоистом» – фраза, которую из поколения в поколение произносят, обращаясь к миллионам детей. Точный ее смысл определить сложно. На сознательном уровне для большинства родителей она означает не быть самовлюбленным, неделикатным, безразличным к окружающим. Но на самом деле они вкладывают в эти слова нечто большее. «Не будь эгоистом» означает: не делай того, что хочется, отказывайся от своих желаний в пользу тех, кто наделен властью, то есть родителей, а позже – и общественных институтов. Призыв «не быть эгоистом» в конечном счете обладает той же двусмысленностью, какую мы наблюдали в кальвинизме. Помимо своего очевидного смысла он означает «не любить себя», «не быть собой», подчинить свою жизнь чему-то более важному, чем ты сам, будь то внешняя сила или интернализация этой силы в виде «долга». Призыв «Не будь эгоистом» становится одним из мощнейших идеологических орудий для подавления спонтанности и свободного развития личности. Под давлением этого лозунга от человека требуют любой жертвы и полного повиновения: «неэгоистичными» объявляются лишь те цели, которых индивидуум достигает не ради себя самого, а ради кого-то или чего-то внешнего.
Следует повторить, что эта картина в известном смысле однобока. Помимо доктрины о вреде себялюбия в современном обществе пропагандируется и совершенно противоположная: думайте о пользе для самих себя, поступайте так, как лучше для вас, – таким образом вы принесете наибольшую пользу себе и всем окружающим. На этом утверждении – что эгоизм индивидуума составляет основу достижения всеобщего благосостояния – построен конкурентный капитализм. Может показаться странным, что одна и та же культура проповедует столь противоречивые принципы. Но в том нет никаких сомнений. В результате этого противоречия человек испытывает замешательство. Попытки следовать двум противоположным доктринам серьезно замедляют процесс интеграции личности и часто приводят к формированию невротического характера. (Данный феномен описывали Хорни [1937] и Линд [1939].)
Необходимо заметить, что эти противоречивые установки выполняют важную социальную функцию. Доктрина о том, что каждому следует искать свою личную выгоду, стала очевидно необходимым стимулом для частной инициативы, на которой построена современная экономическая структура. Социальная функция доктрины «неэгоизма» всегда была неоднозначной. Широким массам, уровень жизни которых вынужденно ограничивался пропитанием, она помогала отказаться от желаний, недостижимых при существовавшем общественно-экономическом строе. Было важно, чтобы этот отказ не связывался с внешним давлением, поскольку осознание такого давления могло привести к выводу о собственной ущемленности и к ожесточению по отношению к обществу. Во избежание подобной реакции покорность объявляется добродетелью. Эта сторона социальной функции запрета любви к себе вполне наглядна, а вот другая – влияние этого запрета на привилегированное меньшинство – несколько сложнее. Понятной она становится, только если мы углубимся в смысл слова «себялюбие». Означай оно заботу о своей экономической выгоде, это, вне всяких сомнений, стало бы серьезной помехой для экономической инициативы дельцов. Но на самом деле это слово, особенно на ранних стадиях развития английской и американской культуры, означало, как уже отмечалось ранее, «не делай того, что хочешь», не наслаждайся жизнью, не трать деньги и энергию на удовольствия, а считай работу, успех и процветание своим долгом.
Огромное достижение Макса Вебера состоит в демонстрации того, что этот принцип, названный им innerweltliche Askese (внутренний аскетизм), был важным условием формирования установки, которая предписывала направлять всю энергию на труд и выполнение долга (см. Weber 1930). Поразительные достижения современного общества в экономической сфере были бы невозможны без этой установки, направившей всю человеческую энергию на бережливость и неустанный труд. Анализ структуры характера современного человека, появившегося в шестнадцатом столетии, выходит за рамки этой статьи. Здесь довольно будет сказать, что экономические и социальные перемены пятнадцатого и шестнадцатого веков развеяли чувство безопасности и «принадлежности», характерное для членов средневекового общества. Социально-экономическое положение городского среднего класса, крестьянства и аристократии пошатнулось до самого основания (ср. Pascal 1933; Kraus 1930; Tawney 1926); появились проблема обнищания, угрозы традиционным экономическим позициям, а также новые возможности для экономического успеха. Религиозные и духовные связи, создававшие для личности сбалансированный и безопасный мир, были разорваны. Индивидуум обнаружил себя совершенно одиноким в этой жизни, рай оказался потерян навсегда, а успех и неудачу теперь определяли законы рынка. Базовой формой отношений с окружающими стала безжалостная конкуренция. Результатом всего этого явилось новообретенное чувство свободы, сопровождавшееся, однако, повышенным уровнем беспокойства. Эта тревога, в свою очередь, привела к беспрецедентной готовности покоряться религиозным и светским властям, ставшим еще более суровыми, чем прежде.
Новый индивидуализм, с одной стороны, и тревожность и подчинение властям, с другой, нашли идеологическое выражение в протестантизме и кальвинизме. В то же время эти религиозные доктрины многое сделали для развития и укрепления новых установок. Но еще более важным, чем подчиненность внешним властям, было то, что власти оказались интернализованы, что человек стал рабом хозяина внутри себя, а не снаружи. Этот внутренний хозяин заставлял человека неотступно трудиться и стремиться к успеху, ни минуты не позволяя ему быть самим собой и наслаждаться жизнью. В человеке развился дух недоверия и враждебности, направленных не только на внешний мир, но и на него самого.
Этот современный тип человека был эгоистичен в двояком смысле: он мало заботился о других и беспокоился о собственной выгоде. Но был ли этот эгоизм действительно заботой о себе как об индивидууме со всем его интеллектуальным и чувственным потенциалом? Не стал ли «он» придатком социально-экономической роли, винтиком в экономическом механизме, пусть иногда и важным? Не был ли он рабом этого механизма, даже если субъективно полагал, что выполняет собственные приказы? Тождественен ли его эгоизм любви к себе или, наоборот, коренился в самом ее отсутствии?
Мы должны повременить с ответом на эти вопросы, так как нам нужно еще закончить краткий обзор доктрины себялюбия в современном обществе. Табу на эгоизм далее укрепилось в авторитарных системах. Одним из идеологических краеугольных камней национал-социализма является принцип «Общественное благо важнее частного» («Gemeinnutz geht vor Eigennutz»). Согласно первоначальной методике пропаганды национал-социализма, мысль была сформулирована в форме, которая позволяла рабочим поверить в «социалистическую» часть нацистской программы. Однако если мы рассмотрим ее значение в контексте всей нацистской философии, то увидим, что подразумевается следующее: индивидуум не должен ничего желать для себя; ему следует находить удовлетворение в устранении своей индивидуальности и в причастности в качестве крохотной частицы к великому целому народа, государства или лидера как символа. В то время как протестантизм и кальвинизм, даже подчеркивая ничтожность отдельно взятого человека, проповедовали индивидуальную свободу и ответственность, нацизм фокусировался по большей части на первом. Исключением считались только «рожденные» быть предводителями, но даже они должны были ощущать себя орудиями кого-то, стоящего выше в иерархии, а верховный лидер – воспринимать себя орудием судьбы.
Учение о том, что любовь к себе тождественна «себялюбию» и противопоставлена любви к ближним, пронизывает теологию, философию и все проявления нашей повседневной жизни; было бы удивительно не обнаружить ту же доктрину в научной психологии, но уже как якобы объективную констатацию фактов. В качестве иллюстрации можно привести фрейдовскую теорию нарциссизма. Вкратце, Фрейд утверждает, что в человеке заложен определенный объем либидо. Изначально у младенца объектом всего либидо является собственная личность ребенка – таков первичный нарциссизм. Позже либидо перенаправляется от собственной личности на другие объекты. Если же «объектные отношения» человека оказываются заблокированными, либидо отделяется от объекта и возвращается к собственной личности – это вторичный нарциссизм. Согласно Фрейду, существует почти механическое переключение между любовью к своему Я и любовью к объектам.
Чем больше любви я направляю на внешний мир, тем меньше люблю себя, и наоборот. Исходя из этого, Фрейд описывает феномен влюбленности как обеднение любви к себе, потому что вся любовь обращается к внешнему объекту. Фрейдовская теория нарциссизма содержит, в сущности, ту же идею, которая пронизывает протестантскую религию, идеалистическую философию и повседневные формы современной культуры. Это само по себе не указывает на то, прав он или нет. Однако такой перевод общего принципа в категории эмпирической психологии дает нам прочное основание для исследования этого принципа.
Возникают следующие вопросы: поддерживают ли психологические наблюдения то утверждение, что между любовью к себе и любовью к другим существует фундаментальное противоречие и переключение? Являются ли любовь к себе и себялюбие одним и тем же феноменом? Есть ли между ними отличия или, быть может, они вовсе противоположны?
Прежде чем обратиться к обсуждению эмпирической стороны проблемы, можно отметить, что с философской точки зрения представление о противоположности любви к другим и любви к себе несостоятельно. Если любить ближнего своего, потому что он – человек, добродетельно, то почему не следует любить и самого себя? Принцип, провозглашающий любовь к человеку, но запрещающий любить себя, отделяет меня от всех прочих человеческих существ. Но для того, чтобы глубже всего испытать переживание человеческого существования, его нужно прожить в связи с самим собой. Нет такой общности людей, в которую не включен я сам. Доктрина, провозглашающая такое исключение, уже самим этим фактом доказывает свою объективную неискренность.
Здесь мы подошли к тем психологическим посылкам, на которых строятся выводы данной статьи. В общем и целом эти идеи таковы: не только другие люди, но и мы сами являемся «объектом» наших чувств и установок; наши отношения с другими и с собой не просто не противоречат друг другу – они по большей части параллельны. (Эта точка зрения подчеркивается у Хорни – см. Horney 1939, особенно главы 5 и 7.) В применении к обсуждаемой проблеме это значит, что любовь к другим и любовь к себе ни в коей мере не исключают друг друга. То же самое можно сказать о ненависти к другим и ненависти к себе. Соответственно можно сказать, что установка на любовь к себе обнаруживается у тех, кто способен хотя бы немного любить других. Ненависть к себе неотделима от ненависти к другим, даже если на первый взгляд кажется, что верно противоположное. Иными словами, в части разграничения между «объектами» и собой любовь и ненависть принципиально неразделимы.
Чтобы разъяснить это положение, необходимо обсудить проблему ненависти и любви. Что касается ненависти, можно выделить «реактивную ненависть» и «ненависть, обусловленную характером». Под реактивной ненавистью я подразумеваю ту, которая, в сущности, является реакцией человека на угрозу его жизни, безопасности, идеалам или тому другому человеку, кого он любит и с кем себя отождествляет. Ее предпосылкой служит положительное отношение человека к своей жизни, к другим людям и к идеалам. Там, где существует могучее утверждение жизни, обязательно возникает сильная ненависть, если на жизнь нападают. Там, где есть любовь, обязательно всколыхнется ненависть, если на любимого человека нападут. Если человек страстно стремится к чему-либо и объект его стремления подвергается нападкам, в нем обязательно вспыхнет ненависть к нападающему. Такая ненависть – контрапункт жизни. Она вызывается конкретной ситуацией, ее целью является уничтожение нападающего и, в большинстве случаев, она утихает, когда нападающий оказывается побежден. (Ницше – 1911а, абз. 2 – подчеркивал творческую функцию разрушения.)
Ненависть, обусловленная характером, – иное явление. Безусловно, ненависть, укрепившаяся в структуре характера, когда-то зародилась как реакция на конкретный опыт, пережитый в детстве. Затем она стала чертой характера человека, в котором развилась неприязнь. Эта базовая неприязнь заметна даже тогда, когда она не выливается в явную ненависть. В выражении лица, жестах, голосе, выборе шуток, в мелких ненамеренных реакциях есть что-то такое, что производит на наблюдателя впечатление примет фундаментальной неприязненной установки, которую еще можно описать как постоянную готовность ненавидеть. Это основа, из которой возникает реактивная ненависть, если и когда ее провоцирует конкретный стимул. Эта реакция ненависти может быть абсолютно рациональной; на самом деле она полностью сходна с ситуациями, которые мы описали как вызывающие реактивную ненависть. Однако между ними существует фундаментальное различие. В случае реактивной ненависти именно ситуация создает ненависть. В случае обусловленной характером ненависти «холостая» неприязнь актуализируется ситуацией. Когда эта базовая ненависть пробуждается, человек как бы испытывает что-то вроде чувства облегчения, словно он рад найти рациональную возможность дать выход своей хронической враждебности. Он явно получает от своей ненависти особое удовлетворение и удовольствие, которых не наблюдается в случае ненависти, реактивной по своей сути.
В случае соразмерности между реакцией ненависти и внешней ситуацией мы говорим о «нормальной» реакции, даже если это актуализация ненависти, обусловленной характером. От этой нормальной реакции до реакции «иррациональной», обнаруживаемой в невротической или психотической личности, налицо бесчисленные переходные состояния, и тут невозможно провести четкую демаркационную линию. При иррациональной реакции ненависти эмоция выглядит несоразмерной конкретному поводу. В качестве примера позвольте привести реакцию, которую психоаналитики могут наблюдать в избытке; анализируемому приходится подождать десять минут, потому что аналитика что-то задержало. Анализируемый входит в комнату, вне себя от ярости из-за обиды, нанесенной ему аналитиком. Крайние случаи можно наблюдать более отчетливо у психотических личностей; у тех непропорциональность еще более поразительна. Ненависть у больного психозом вызывается тем, что с точки зрения реальности вообще не оскорбительно. Однако с позиции его собственных ощущений это все именно таково, и потому иррациональная реакция иррациональна лишь с позиции внешней объективной реальности, а не с субъективной точки зрения затронутого человека.
Хроническая неприязнь также может целенаправленно разжигаться и превращаться в открытую ненависть с помощью социального внушения, то бишь пропаганды. Чтобы такая пропаганда, призванная внушить людям ненависть к неким объектам, возымела эффект, она должна отталкиваться от характерообусловленной неприязни в структуре личности членов тех групп, к которым она обращена. Примером может послужить притягательность нацизма для той группы, которая сформировала его ядро, – для низов среднего класса. Латентная неприязнь была типичным свойством членов этой группы задолго до того, как ее актуализировала нацистская пропаганда, и потому они стали для этой пропаганды столь благодатной почвой.
Психоанализ в изобилии предоставляет возможности для наблюдения условий, ответственных за укоренение ненависти в структуре характера.
Решающими факторами для разжигания характерообусловленной ненависти можно назвать все различные способы, которыми блокируются или искореняются спонтанность, свобода, эмоциональная и физическая экспансивность, развитие «самости» ребенка. Средства для достижения этого разнообразны; они варьируются от открытой, устрашающей враждебности и террора до вкрадчивого и «доброго» влияния «анонимного авторитета», который открыто ничего не запрещает, но говорит: «Знай, то или это тебе понравится или не понравится».
Простая фрустрация инстинктивных импульсов не вызывает глубоко укореняющейся враждебности; она провоцирует лишь реактивную ненависть. Однако Фрейд предполагал обратное, и на этом основана его концепция эдипова комплекса; она подразумевает, что фрустрация сексуальных желаний, направленных на отца или мать, порождает ненависть, которая, в свою очередь, ведет к тревожности и подчинению. Безусловно, фрустрация часто проявляется как симптом чего-то, что и в самом деле вызывает неприязнь: возможно, ребенка не принимают всерьез, блокируют его порывы, ограничивают свободу. Но суть вопроса заключается не в изолированной фрустрации, а в борьбе ребенка с силами, которые стремятся подавить его свободу и спонтанность. Борьба за свободу может принимать множество форм, а поражение – скрываться за множеством масок. Ребенок может быть готов интернализовать внешний авторитет и стать «хорошим», он может открыто бунтовать и все же оставаться зависимым. Он может гнаться за чувством «принадлежности», полностью копируя предоставленные ему культурные формы за счет потери индивидуальной самости, – результатом всегда в какой-то степени будет внутренняя пустота, чувство ничтожности, тревожность и обусловленные всем этим хроническая ненависть и ресентимент, который Ницше очень метко назвал Lebensneid – завистью к жизни.









































