Текст книги "Любовь, сексуальность и матриархат: о гендере"
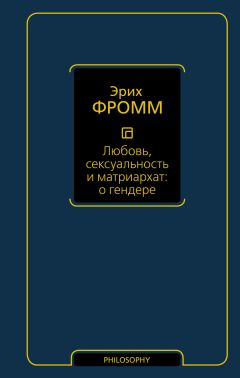
Автор книги: Александр Грин
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Это описание хорошо знакомо аналитику. Нам нередко доводится слышать о половом акте как схватке, садистском и кровавом нападении мужчины на женщину, равно как и о попытке женщины убить мужчину в ходе полового акта. Все обычно излагается с точки зрения мужчины, которому удается укротить опасную женщину и стать победителем.
После победы Мардука рождается новое творение. Из расчлененного тела Тиамат создаются небеса, то есть творение – уже не плод слияния мужского и женского, но и не дело рук одного мужчины; да, мужчина – творец, но тело матери служит ему материалом.
Когда Тиамат убита, а ее помощники повержены, наступает мир между богами и появляется человек, главной целью существования которого объявляется почитание богов.
Мардук обращается к богам:
«”Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком.
Воистину я сотворю человеков.
Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули.
Божьи пути изменю и улучшу:
Почитаемы – все, но два будут рода”.
Эйа ответил, слова промолвил,
Совет добавил, чтоб богов успокоить:
“Да будет выбран один из братства,
Он да погибнет – люди возникнут!
Великие боги пусть соберутся —
Один – виновник, отпущение – прочим!”
Мардук собрал богов великих,
С милостью принял, изрек указанье.
Почтительно боги ему внимали.
“Если верны ваши прежние клятвы,
Истинно ныне мне да ответьте —
Это кто замыслил сраженье,
Взбаламутил Тиамат, устроил битву?
Да будет схвачен устроивший битву,
Его покараю, вы ж мирно живите!”
Отвечали Игиги, великие боги,
“Царю-божеству-небес-и-земли”,
Советнику божьему, своему господину:
“Это Кингу устроил сраженье,
Взбаламутил Тиамат, затеял битву!”
Связали его, притащили к Эйе.
Объявили вину его, кровь излили.
Людей сотворил он на этой крови,
Дал им бремя божье, богам же – отдых».
В благодарность за свое освобождение боги-Аннунаки берутся построить величественный храм Мардука, а тот указывает на Вавилон как на место нахождения этого святилища. После завершения строительства Мардук приглашает всех богов на трапезу в храме, где божественное собрание воздает дань уважения спасителю и создателю миров в хвалебных песнях. Давайте прочтем заключительные строки. После того, как Мардук был прославлен как бог «светлого дыхания» и «Владыка святых заклинаний», говорится:
«Его уст реченья мы возносим надо всеми богами, его отцами!
Он воистину владыка надо всеми богами земли и неба!
Царь! От его приказаний в страхе боги горе и долу!..
Меж богов он воистину мудрейший и мощный!
Как в его имени то звучит —стран и богов он дух-покровитель!
Он, кто спас в двоеборье могучем наши обители от разрушенья!..
Отец повторит их [имена бога. —Ред.], да обучит сына,
Правителя, пастыря да внемлют им уши!
К Мардуку, Энлилю богов, да не будут небрежны!
Чтоб цвела бы страна, и он сам был во здравье!
Крепко Слово его, неизменны Приказы,
То, что из уст его, ни один из богов не отменит!
Если глянет он гневно —не склонит выи,
Его ярости бог ни один не перечит!
Не постичь его сердца, не объять его разум.
Согрешитель, неправедник пред очами
его предстанут!»
Текст завершается славословием, заставляющим вспомнить Ветхий Завет и библейское описание миротворения. Миром отныне правит могучий, непогрешимый, строгий, но в то же время милосердный и всепрощающий бог-отец. «Прибежище стран, городов и народов», он создает человека, «дело рук своих». Он не творит человека вместе с женщиной, даже не обращается к женскому телу как материалу, но действует самостоятельно – правда, использует плоть и кровь живого существа (другого бога), который должен умереть, чтобы люди могли жить.
Насколько конец вавилонского мифа напоминает библейское повествование о творении, настолько этот миф отличается от библейского началом и всем ходом изложения.
В библейском повествовании единственный мужчина – это Бог-отец, единственный победитель и правитель. Ни подле него, ни ниже него нет других богов, исключается даже тот факт, что некогда он сражался и побеждал иных божеств; разве что первозданное море (Tehom) отсылает к образу примордиальной матери и правительницы Тиамат, да и библейский змей, низведенный до положения пресмыкающегося, прежде был царственным чудовищем, могущественным драконом, с которым богу-мужчине когда-то приходилось сражаться, как с гигантскими змеями и разгневанными драконами (из воинства первобытной Тиамат).
Вавилонский миф завершается куда более примирительно. Тиамат, олицетворение матриархального принципа, убита, ее муж и «полномочный представитель» Кингу тоже уничтожен, зато другие приспешники Тиамат, Аннунаки, помилованы. Они строят храм победоносному богу. Им позволено жить дальше, как «духам подземного мира», и так они вписываются в иерархию во главе с Мардуком – как подчиненные боги.
Вавилонский миф восходит к тем временам, когда в обществе господствовал бог-отец мужского пола, правивший всем миром. Но его победа не была настолько радикальной или насильственной, чтобы уничтожить память о прежних богинях-женщинах и их помощниках-мужчинах. Они длили существование в качестве второстепенных божеств, и потому нельзя исключать той возможности, что вавилонский миф содержит воспоминания, искорененные в мифе еврейском, – о борьбе между двумя религиозными и социальными конституциями, между старым матриархальным миром с материнско-хтонической религией (ночь, вода, материя) и новым патриархальным миром с отцовской религией (свет, ветер, дух). Вавилонское повествование заканчивается там, где начинается библейское; оно рассказывает о длительной борьбе, а библейское сообщает об одной победе, настолько полной, что имя побежденного и сам факт борьбы с ним стираются из памяти.
В этом отношении вавилонский текст во многом схож с приводимой Бахофеном интерпретацией противостояния эриний с Аполлоном и его исхода, вследствие которого эринии сделались богинями низшего ранга, прислуживавшими богу света.
Вернемся теперь к вопросу о творении, в особенности о мужском творении. В вавилонском мифе о сотворении мира мы встречаемся с тремя различными типами творения. Вначале имеются мужчина и женщина, пресная вода и океан, прародитель и мать, которые вместе дают жизнь сыновьям-богам. Это творение полностью соответствует природным условиям, при которых мужчина и женщина совместно выступают творцами. Былая идея, согласно которой женщина в одиночку, без мужчины, творит мир, где лишь великая первородная мать стоит у истоков бытия, уже отвергнута. Эта идея восходит к тому матриархальному обществу, которое, по-видимому, настолько далеко отстояло от времени составления текста, что почти забылось. Осколок прежних матриархальных представлений можно усмотреть в том факте, что Тиамат остается фактической царицей и правительницей, что она по-прежнему властвует, хотя ее супруг Апсу побежден, что она «назначает» Кингу полководцем и мужем, а прочие боги испытывают страх и уважение именно перед нею, а не перед кем-либо другим.
Второе творение раскрывается нам после гибели Тиамат, когда Мардук создает небо из ее тела. Царство природного начинает отступать. То, что создается, – уже не дитя женщины, оно создано мужчиной из женской материи, из женского тела. В этом смысле мир можно еще считать совместным наследием женщины и мужчины, но он уже находится за пределами естественных процессов деторождения и беременности.
Третий тип творения из вавилонского мифа – это сотворение человека. Мардук создает человека из плоти и крови убитого Кингу. Женщина целиком как бы вычеркивается: она не рождает, ее тело не служит материалом; один только бог-мужчина участвует в сотворении человека. Естественные отношения полностью переосмысляются и переворачиваются с ног на голову, даже в сравнении с предыдущим вариантом. Но человек все же связан с живой материей, недаром его творят из крови и плоти живого существа. Здесь Мардук – не абсолютный, не единственный творец.
Этот тип творения в точности соответствует библейскому рассказу о сотворении женщины. Бог-мужчина творит новое существо один, без посредства женщины, и тоже обращается к «подручной» живой материи. Библейский миф лишь чуточку более радикален и более последовательно переворачивает естественные отношения, изображая мужчину не только как мать мужчины, но и как саму женщину.
В вавилонском мифе отсутствует крайность партеногенетического творения, когда женщина совершает все одна, без помощи мужчины, а также отсутствует и другая крайность, сугубо мужское творение, которое не требует живой субстанции (творение из духа). С последним типом творения мы встречаемся в библейском мифе, а наиболее ярко и красочно он излагается в греческом мифе о рождении Афины из головы Зевса. Конечно, и у греков, и в Библии память о первородной матери не устранена полностью, ибо недаром говорится, что «дух носился над водами», но очевидно, что женскому началу больше не позволено играть существенную роль.
Начинайся библейский текст словами: «В начале был хаос, в начале была тьма…», все было бы иначе, однако он начинается со слов: «В начале сотворил Бог…» Бог-мужчина творит один, без участия женщины, создавая небо и землю. Следующая строка перекликается с былыми представлениями, а затем говорится: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Здесь перед нами ясное воплощение мужского творения, посредством одного только слова, одной только мысли, одного только духа. Для рождения уже не требуются ни чрево, ни материал; уста того, кто произносит слово, вполне способны порождать жизнь. Вот полная противоположность партеногенезу, выраженная в библейском мифе. Она неразрывно связана с сугубо патриархальным мировосприятием, которое обесценивает и угнетает женщин. Мужчина наделяется способностью, казалось бы, чисто женской, порождать, то есть создавать новую жизнь.
Нужно помнить, что идея творения духом гораздо больше противоречит всем естественным, реальным жизненным процессам, чем идея партеногенеза. Ребенок – плод сотрудничества отца и матери, этому учит наука, но к такому знанию люди пришли далеко не сразу; прежде оно было теоретическим, подобно знанию о том, например, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Мы знаем, что дело обстоит именно так, но видим движение солнца по небосводу, видим, что ребенок выходит из матери, растет в ней, шевелится и затем рождается. При всем желании не усмотреть прямой связи между ребенком и его отцом, кроме внешнего сходства. (Правда, сходство совсем не обязательно увязывать с творением, пусть порой оно является важным доказательством признания мужской роли в творении. Отсюда в библейском повествовании, кстати, внимание на схожести с Отцом: «По образу Божию сотворил его»[50]50
Быт. 1:27. – Примеч. ред.
[Закрыть].)
Фантазия, будто мужчина в одиночку, своими устами, своим словом, своим духом способен создавать живых существ, кажется нелепейшей и самой противоестественной из всех, какие только вообразимы; она отрицает всякий опыт, всякую реальность, всякую естественную обусловленность. Она выходит за пределы природы ради единственной цели – представить мужчину абсолютным совершенством, тем, кто обладает среди прочего и способностью, в которой ему отказано жизнью (способностью рождать). Эта фантазия, которая могла прорасти и развиться лишь в крайне патриархальном обществе, является прообразом идеалистического мышления, игнорирующего естественные условия. В то же время она отражает глубокую ревность мужчины к женщине, чувство неполноценности, вызревающее в нем из-за отсутствия этой способности, зависть к способности рождать и желание обрести эту способность какими угодно средствами.
В вавилонском мифе отсутствуют две крайние возможности творения – партеногенез и творение через слово, или чисто мужское творение. Однако в этом тексте описывается событие, которое можно счесть своего рода предварительной стадией фактического творения словом и которое одновременно проясняет подлинный смысл идеи мужского творения. Это испытание, которое Мардук должен пройти, прежде чем ему позволят сразиться с Тиамат, испытание, которое убеждает других богов в том, что Мардук победит. Что же ждет бога?
«Звезду меж собою они положили.
Первородному Мардуку так сказали:
“Ты возвышен, Владыка, надо всеми богами!
Уничтожить, создать – прикажи, так и будет!
Промолви же Слово – звезда да исчезнет!
„Вернись!” – прикажи – и появится снова!”
По слову уст его звезда исчезла.
“Вернись!” – приказал, и она появилась.
Боги-отцы, силу Слова увидя,
Ликовали и радовались: “Только Мардук – властитель!”
Дали жезл ему, трон и царское платье,
Оружье победное, что врагов поражает.
“Ступай же, жизнь прерви Тиамат!
Пусть ветры развеют ее кровь по местам потаенным!”»
Это испытание, которое должен пройти герой, чтобы доказать свою пригодность для той роли, которую ему суждено сыграть. Мы могли бы ожидать чудес храбрости или сообразительности, но все, что от него требуется, – это своим словом заставить звезду[51]51
Другой вариант перевода – одежду, и дальнейшие рассуждения автора исходят именно из него. – Примеч. пер.
[Закрыть] исчезнуть и возникнуть снова. Что означает это странное испытание?
Мардук должен сразиться против Тиамат. Если он хочет победить, то не должен уступать ей ни в чем. Но, будучи мужчиной, он по определению уступает в одном важном отношении. Только она способна создавать новую жизнь, только она может рождать и создавать. Это она дает жизнь и ее забирает. Великая Мать – фигура благожелательная, подательница жизни, «белая мать», но еще губительница, убийственная «черная мать»; так и сама природа двойственным образом воздействует на человека, поддерживает и угрожает. (Ср. замечание Бахофена о двойном значении образа матери как несущего жизнь и смерть.) Если бог-мужчина должен победить мать, ему нужно компенсировать свою неполноценность, неспособность рождать и создавать.
Вот в чем смысл испытания. Мардук способен делать то же, что делает мать. Он может совершить то, в чем природа отказала мужчине, может изменить природу, может заставить предмет исчезнуть и принудить появиться вновь. Ясно, что сам предмет здесь совершенно не важен; это одежда, нечто банальное и повседневное. Важно же то, что мужчина больше не уступает женщине, может творить жизнь и забирать жизнь, как она сама. Отсюда становится понятным, о чем говорится в поэме:
«Боги-отцы, силу Слова увидя,
Ликовали и радовались: “Только Мардук – властитель!”»
Только это испытание показывает, что Мардук равен Тиамат, только оно гарантирует ему победу. Сила уст заменяет силу женского чрева; уста мужчины могут рождать, как рождает женская утроба.
В том испытании, которому подвергается Мардук, мы находим прототип мужского творения – творения словом. В вавилонском мифе это единичное деяние героя-мужчины, а в библейском мифе оно становится методом миротворения: Господь в Библии творит «силой Своего Слова». Подобно Мардуку, манипулировавшему с одеждой, библейский Бог манипулирует космосом. «И сказал Бог: да будет свет! И стал свет». Бог-мужчина полностью перенял функции побежденной Великой Матери. Он может рождать, может создавать – духом и словом он устраняет все естественные условия; он правит миром, и никто с ним не сравнится.
О власти слова в Библии говорится всего дважды – здесь и в том месте, где повествуется, как Бог приводит всех животных к Адаму, «чтобы видеть, как он назовет их». Адам, между прочим, дает имя Еве: жена (ischa). Именование – это своего рода второе творение. Подобно тому, как Бог-мужчина впервые сотворил живых существ Своим словом, Адам создает их повторно, давая имена.
4. Книга Роберта Бриффо о материнском праве
Обширный труд Роберта Бриффо «Матери: исследование происхождения чувств и институций» (1928) возродил обсуждение темы материнского права, теоретические основы которого были заложены Бахофеном и Морганом в 1860-х и 1870-х годах. На протяжении десятилетий теория материнского права оставалась вне поля зрения официальной науки, а имена ее основоположников упоминались разве что отдельными авторами-социалистами. Правда, в последние годы все-таки наметился своего рода ренессанс, причем окрашенный в совершенно иные идеологические тона. В научной литературе и в публицистических сочинениях теория материнского права все чаще удостаивается заслуженного внимания, а книга Бриффо должна побудить тех, кто до сих пор пренебрегал этой тематикой, присмотреться к указанной теории.
Однако будет ошибкой причислять работу Бриффо к кругу этнологических сочинений, посвященных материнскому праву. Она выходит далеко за рамки этого круга и смело вторгается в области социологии и психологии. По названной причине, кстати, довольно затруднительно выявить и изложить основной посыл этой книги. Так или иначе, неправы те критики, которые полагают, будто достаточно заявить, что на заре всякого общественного развития прослеживаются более или менее выраженные черты материнского права. Учитывая объем книги, некоторые читатели вполне могут решить, что разумнее вызнать «основной посыл» автора из названия работы, не углубляясь в ее содержание. На самом же деле книга рассказывает о теории материнского права наряду с изложением соответствующих материалов по психологии и сравнительной этнологии, а также по истории брака. В предисловии Бриффо ясно обозначает свой главный интерес: отталкиваясь от вопроса о происхождении социальных инстинктов, он приходит к заключению, что их источником выступают инстинкты материнские, и этот факт дает основания для изучения тех ранних стадий общественного развития, когда социальная организация и психология сосредотачивались вокруг фигуры матери.
При всей важности и при всем разнообразии суждений Бриффо по общим проблемам социологии и социальной психологии, главная ценность его труда заключается в необычайно богатом материале и обилии показательных примеров из жизни. Замечания ниже вряд ли могут притязать на исчерпывающее изложение содержания этой работы. Скорее, это всего-навсего короткий комментарий к научной деятельности и направлению исследований Бриффо.
Автор начинает с того, что показывает: социальная традиция (traditional heredity[52]52
Букв. «наследие традиций» (англ.). – Примеч. ред.
[Закрыть]) играет важнейшую роль в развитии интеллектуальной и эмоциональной составляющих человеческой жизни. Биологически закрепленные инстинкты видоизменяются под воздействием социальных факторов, а различия между людьми разных культур обуславливаются переменчивыми социальными условиями. «Мужское» и «женское» для Бриффо – немаловажные психологические категории, однако он выводит их отнюдь не из «природы» полов, как поступали романтики; в своем объяснении он опирается на различие жизненных функций, или практик, обоих полов. Тем самым проблема половых различий извлекается из мрака натурфилософских понятий и оказывается на свету научных исследований.
Основным фактором в развитии женского или материнского характера, иначе maternal instinct, признаются длительная беременность и постнатальная незрелость человеческого ребенка; эта особенность выделяет человека из совокупности млекопитающих и имеет своим следствием протяженную заботу матери о ребенке. Само побуждение и сама необходимость заботиться о беспомощном ребенке служат формированию материнской любви, которая распространяется не только на детей (в первую очередь на собственных), но и на взрослых; она действует как общественное чувство, если угодно, как человеколюбие, и является одним из наиболее важных источников общественного развития как такового. Вся любовь во всем своем многообразии проистекает из материнской любви. При этом материнская любовь ничуть не тождественна сексуальности, связанной, скорее, с эгоистической потребностью в удовлетворении голода. Сексуальность больше тяготеет к жестокости, чем к любви, а ее отождествление с любовью есть плод крайне дифференцированного культурного развития. У первобытных народов сексуальность относительно редко ассоциируется с «любовью», а вот «бесполая» и всеохватная материнская нежность встречается особенно часто (среди взрослых).
Определив любовь как порождение женского и материнского инстинктов, Бриффо предполагает в каждом человеке бисексуальную предрасположенность. В материнской любви коренятся не только страсть и нежность, но также жалость, великодушие, доброжелательность – словом, все «альтруистические» чувства, даже в самых абстрактных и общих своих проявлениях. Любовь ребенка к матери проистекает из потребности в защите и помощи; стадный инстинкт – следствие детских страхов и осознания собственной уязвимости. Враждебность первобытного человека к чужому – вовсе не врожденное отчуждение и не выражение «естественного» влечения к агрессии; скорее, это результат выживания первобытных групп в той реальной повседневности, что неизбежно ведет к взаимному недоверию.
Противопоставляя половое влечение материнской любви, Бриффо строит поистине замечательную теорию различия между стадом и семейством у животных. По его мнению, стадо – итог сугубо мужских сексуальных влечений, а семья возникает в результате действия материнских инстинктов, подлинная ячейка всех постоянных социальных групп. Первобытная человеческая группа развивается не из стада, а из такого семейства. Объединение семей, союз матери с потомством, не имеющий ничего общего с позднейшей патриархальной семьей, неизбежно ведет к образованию первобытного общества, в центре которого встает именно мать. Экзогамия и запрет инцеста обусловлены не врожденными инстинктами и не естественным отбором, который отбраковывает неудачные последствия кровосмешения. Опираясь на новейший метод, который обсуждать подробно здесь неуместно, Бриффо пытается объяснить экзогамию с точки зрения структуры матрицентричного общества. Среди прочего он разъясняет, какие следы первоначальной матриархальной семейной структуры и матрилокального брака до сих пор можно отыскать у народов всего мира: так, мужчина нередко переселяется в дом женщины, да и с семьей матери, как правило, советуются, когда встает вопрос о происхождении. При переходе к патрилокальному браку, который формируется ввиду развития института частной собственности, согласие женщины и ее семьи покупается дарами или услугами со стороны мужчины.
В большинстве первобытных обществ женщины обладают чрезвычайно высокой степенью самостоятельности, которая восходит к самому факту разделения труда и связанных с ним экономических функций женщин. На том основании, что женщины много работают, ошибочно будет делать вывод, что они занимают более низкое социальное положение. Матриархальную (гинекократическую) структуру следует строго отличать от матрицентричной, то есть от той социальной конституции, при которой женщины обладают относительно немалым социальным и психологическим влиянием: в этой схеме женщина властвует над мужчиной. Любые отношения господства основаны на существовании частной собственности и стремлении ту защитить. Следовательно, матриархат в узком смысле слова обнаруживается лишь в относительно высокоразвитых обществах.
Брак, по сути, выполняет чисто экономическую функцию и ни в коем случае не является «естественным» институтом. Вот почему изначально он не подразумевал притязаний на полное и нераздельное сексуальное обладание партнером. Не было и нет ни «естественного» моногамного инстинкта, ни ревности, отстаивающей право на такое исключительное обладание. У дикарей речь шла и идет не о соблюдении исключительных прав, а о страхе лишиться доступных сексуальных партнеров, то есть не о соблазнении, а о похищении. Поскольку сексуальность в первобытном обществе подавляется меньше, отсутствуют как проявления влюбленности, так и те эмоциональные перверсии и патологические извращения, которые обязаны своим возникновением подавлению сексуальности. Моногамное чувство – не причина, а следствие института моногамного брака. Развитие моногамного брака связано прежде всего с экономическими и социальными переменами в обществе. Поворотным моментом оказывается переход к владению стадами, он наделяет мужчину повышенной покупательной способностью и тем самым дарит ему экономическое превосходство над женщиной. В тех обществах, где этой «пастушеской» стадии развития не было, первоначальные матрицентричные схемы сохраняются дольше. С первобытных времен и до древних римлян функция брака оставалась преимущественно экономической и лишенной сексуальности, но христианский брак уже сочетает в себе обе названные стороны, служит удовлетворению любви, сексуальности и экономических интересов.
Бриффо уделяет много внимания вопросам развития религии и морали. Упомяну лишь некоторые подробности, почерпнутые из его богатейшего материала. Табу как образец всякой иррациональной морали восходит к наложенному мужчинами запрету на половые сношения для женщин при менструации. Происхождение тотемизма, как полагают, объясняется тем, что некая исходно основная пища того или иного племени стала наделяться святостью в качестве тотема[53]53
Имеются в виду так называемые тотемные животные и растения; см. работу Э. Тайлора «Первобытная культура» и работу З. Фрейда «Тотем и табу». – Примеч. ред.
[Закрыть]. Возникновение индивидуальности рассматривается как следствие установления частной собственности: не индивидуалистический инстинкт порождает частную собственность, а она сама способствует формированию этого якобы «природного» чувства. Еще Бриффо обсуждает роль луны в первобытной космологии. Прибывание и убывание луны тесно связаны с размышлениями первобытных людей о смерти и посмертии (воскрешении). Роль солнца в космологии возрастает только с развитием земледелия. Первобытные религиозные представления складываются вовсе не в силу «поклонения природе», они диктуются желанием обрести магические способности.
К развитию религии женщины, несомненно, тоже причастны, хотя их влияние нередко недооценивается. Великие женские божества, занимающие важное место в ближневосточных и европейских культурах, обязаны этим положением прежде всего неразрывной связи с земледельческими обрядами, а также особой магической способности к естественной продуктивности, приписываемой женщинам. Предел этого религиозного развития достигается, когда богиню перестают бояться и почитать как обладательницу магических сил, когда ее начинают прославлять как девственную мать божественного ребенка. Религиозное чувство впервые увязывается с любовью; приметой перехода от утомленных националистических (nationalistischen) племенных божеств к кротким мировым божествам обретает воплощение в фигуре «Великой Матери». По мере постепенного преобразования первобытной магии в «теологическую религию» под воздействием мужского интеллекта женщина утрачивает свою ценность для религии.
Развитие морали во многом определяется первоначальными табу. Первобытные запреты как источники половой морали и морали в целом подкрепляются мужским стремлением к владению собственностью, что и придает весомость мало-помалу утверждающимся моральным требованиям. Моногамия навязывается отнюдь не женской «природой», якобы настаивающей на целомудрии, и не женской ревностью. Напротив, матриархальным обществам свойственна изрядная степень сексуальной свободы и независимости. Пусть первоначальные, древние табу и связанные с ними нравственные чувства распространены повсеместно, та половая мораль, которая безоговорочно требует целомудрия, возникает вместе с развитием патриархального общества и тех экономических условий, каковые лежат в основании этого общества. На Ближнем Востоке, в Египте и в Греции целомудрие некогда считалось источником магической силы, а в Риме его признавали гражданской добродетелью. Лишь благодаря христианству оно приобрело статус высшей этической и религиозной ценности. При том, что христиане высказывали разные мнения о греховности самого полового акта, у них не было сомнений в приоритете девственности перед браком. Поучения христианских святых отцов прямо противоречили представлениям и обычаям европейских варваров, с которыми эти проповедники соприкасались. Поведение варваров постепенно изменялось под воздействием устоев христианства; сначала этот факт нашел отражение в литературе, а затем новая мораль стала проникать в общественную жизнь.
Книга Бриффо удостоилась немалого количества отзывов, в том числе крайне подробных, особенно в Англии и Америке. (См. Ellis 1928; Ludovici 1927; Malinowski 1927; Ayres 1927; Langdon-Davies 1927; Ginsberg 1927; Goldenweiser 1928). Одни встретили ее с одобрением, другие, прежде всего этнологи, – с холодной неприязнью.
Тому, кто не является специалистом в этнологии, трудно, конечно, установить, кто больше прав в том или ином специфическом вопросе – Бриффо или его противники. Однако, как уже отмечалось выше, книга Бриффо выходит далеко за рамки рассмотрения сугубо этнологической тематики; невероятное богатство привлеченного материала, редкая интеллектуальная самостоятельность и оригинальность мышления делают работу Бриффо важным вкладом в изучение социальной психологии. Что же касается теории материнского права, Бриффо продолжает ее развивать с того самого места, на котором остановился Морган.
Автор применяет метод исторического материализма, пытаясь объяснить изменения в чувствах и связанных с ними институциях посредством перемен в жизненной практике, в первую очередь в экономических условиях. Вообще главным посылом этой необычной работы нам видится признание социальной обусловленности всех без исключения (даже, казалось бы, самых естественных) чувств, которые в их развитии объясняются на основе богатого эмпирического материала многочисленных социальных изменений.
Что касается критических замечаний, то ввиду обилия материала критиковать следует общие выводы, а никак не частности. Сам Бриффо предвосхитил в предисловии одно из направлений критики, упомянув о неблагоприятных внешних условиях, в которых завершал книгу. Отсюда ясно, что отдельные части книги проработаны неравномерно с точки зрения количества и качества материала. Впрочем, важнее, как представляется, оборотная сторона интеллектуальной самостоятельности Бриффо: он почти не обращает внимания на своих предшественников и современников, которые занимаются исследованием той же тематики. Поэтому, собственно, ему приходится погружаться в обсуждение вопросов, подробно разобранных французскими авторами эпохи Просвещения (например, вопроса о социальной обусловленности чувств), то есть идти в своих рассуждениях, что называется, ab ovo[54]54
Букв. «от яйца» (лат.), с самого начала. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Вдобавок он явно незнаком с сочинениями Маркса и Энгельса и почти полностью игнорирует новейшую литературу по психологии народов[55]55
Имеются в виду сочинения В. Вундта, Ф. Ратцеля, Ч. Ломброзо, Г. Лебона и др. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Это бросается в глаза непредвзятому наблюдателю, когда дело доходит до рассмотрения альтруистического характера первобытной материнской любви. Автор фактически пренебрегает достижениями школы Дюркгейма, изучающей первобытное общество, упускает из вида работу Леви-Брюля о первобытном мышлении[56]56
Французский философ и этнолог Л. Леви-Брюль, автор книги «Первобытное мышление», выдвинул теорию «дологического» первобытного мышления. К числу последователей Э. Дюркгейма (французская социологическая школа) принадлежат также, среди прочих, М. Мосс и М. Хальбвакс. – Примеч. ред.
[Закрыть], и подобная неосведомленность явно не идет его книге на пользу.









































