Текст книги "Расцвет и упадок цивилизации (сборник)"
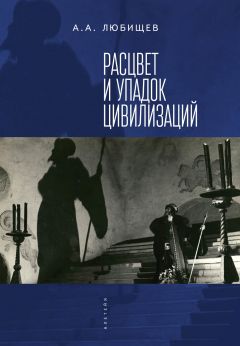
Автор книги: Александр Любищев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«В итоге же Вандея послужила делу прогресса, ибо доказала, что необходимо рассеять древний бретонский мрак, пронизать эти джунгли всеми стрелами света. Катастрофы имеют странное свойство – делать на свой зловещий лад добро» (стр. 194).
В этих обширных выписках – масса интересных мыслей. Вряд ли со всеми можно согласиться.
1) Обязательны ли трагедии, подобные трагедии Вандеи? Фаталистический подход Гюго (в сущности совпадающий с фаталистическими взглядами наших марксистов о неизбежности потрясений) – он считает, что приходится примириться с подобными несчастьями, как неизбежной платой по пути прогресса человечества. А таких трагедий, конечно, немало. В русской истории в Смутное время, мятежи Разина и Пугачева, конфликт старообрядцев и Петра Великого, прекрасно отображенный в «Хованщине», наконец, совсем недавний ужасный процесс коллективизации. Гюго дает на это ответы вряд ли приемлемые, но сообщает вместе с тем интересные факты.
2) Дело объясняется природными условиями. Все дело в лесах Вандеи, вот если бы там были горы, то было бы иначе. Это объяснение, конечно, никуда негодно. По мнению Гюго, «лес – это варварство», а вот у Чехова в «Дяде Ване» одна наивная девица (кажется, Соня) передает мнение, что леса, напротив, облагораживают человека. И можно ли леса считать благоприятствующими варварству, если символ леса применяется и к Германии, и высококультурная и свободолюбивая Финляндия тоже сплошь лесная страна. Неужели горная Испания более культурна, чем Германия, и в кавказских горах имеется много народов, по культуре никак не превосходящих бретонцев. Наконец, пример Голландии – не горной, а равнинной страны показывает, что и на равнинах могут успешно сопротивляться врагам мужественные и культурные люди.
3) Косность, влияние духовенства, слепое подчинение священникам, господам, королям. Конечно, консерватизм роль играет, но является ли этот фактор решающим, и почему вся французская контрреволюция обозначена именем Вандеи? Ведь сам Гюго указывает, что кроме Вандеи (департамента) в движении участвовало пять департаментов в Бретани и три в Нормандии, поддерживала движение и Жиронда. Всего, таким образом, участвовало десять департаментов. Вандея вовсе не в центре области, охваченной контрреволюцией, а далеко к югу: южнее ее – Жиронда. Судя по карте, к Вандее относится знаменитая Ларошелль, самый твердый оплот гугенотов. И можно ли назвать Жиронду, поддерживающую Вандею, консервативной, отсталой областью? Несомненно, что жирондисты были самой культурной частью французской общественности и если они погибли, то, конечно, не из-за недостатка, а от избытка культурности.
И сам Гюго пишет, что Вандея (в широком смысле, правильнее – Бретань) сопротивлялась при случае и католическому духовенству, и королям, и герцогам. По мнению Гюго, за две тысячи лет Бретань всегда боролась на правой стороне и в данном случае впервые оказалась на неправой. Не буду разбирать все предыдущие случаи, но, видимо, Бретань всегда оказывалась побежденной: в этом отношении ее судьба сходна с судьбой Ирландии, которая долгое время оказывалась неизменно побежденной в борьбе с Англией. Чем это объясняется? Помимо того, что Ирландия в силу вражды к Англии большей частью защищала реакционные направления (как это ни странно, даже в Испании была ирландская бригада на стороне фашистов), дело объясняется прежде всего тем, что у ирландцев не было хорошей военной организации. Военная школа создается, очевидно, с большим трудом и для своего возникновения требует высоких способностей руководителей. Но раз возникнув, она может поддерживаться довольно долго и обеспечивать военное преимущество в длинном ряде поколений, как это было с норманнами (варягами).
4) Видимо, главной причиной трагедий истории является излишний догматизм и фанатизм руководителей государства или революции. Идеи, движущие историческими событиями, более или менее смутно осознаются как народными массами, так и руководителями. Естественно, что чем темнее масса, тем более смутно ею осознаются цели и тем чаще она ищет врагов не там, где следует, тем чаще внешний блеск правителей отвлекает народ на ложный путь. Но и идеи часто ослепляют: руководителям кажется, что они напали на верный путь решения наболевших вопросов и от таланта вождей зависит внушить эту уверенность более или менее широким массам. Эта уверенность вливает страстный энтузиазм в экзальтированные души, готовность самопожертвования, но вместе с тем заставляет смотреть на своих идейных противников, как на врагов человечества, подлежащих истреблению. А так как толкований новых идей бывает несколько, то возникает ряд взаимно ненавидящих сект. И так как ненависть к существующему злу очень часто поджигается или усиливается перенесенными и личными обидами, жестокостью и проч., то легко получается, что исправление зла сопровождается возникновением нового зла, на определенном отрезке времени даже большего, чем зло, подлежащее устранению. В. Соловьев в одном месте (кажется, в лекциях о Богочеловеке) прекрасно выразился, что ему понятно возникновение материализма, так как «бесчеловечный бог породил безбожного человека». Точно так же и в отношении революций. Как бы ни была справедлива та или иная революция, но революционные эксцессы неизбежно вызовут решительный протест и бесчеловечная революция вполне закономерно породит контрреволюцию.
Французская революция, как известно, вдохновлялась идеями Руссо: но в идеях Руссо больше пламенного энтузиазма, чем строгого рационального развития основных идей. Успех Руссо вызвал огромное распространение его идей даже в тех слоях, которые, казалось бы, к этому должны быть враждебны: в духовенстве и аристократии, как указано выше, эти идеи нашли многих пламенных сторонников, А люди рационального склада ума, философы, все без исключения, оказались враждебны: Руссо, Дидро, Даламбер, Вольтер, Гримм, Гольбах, Юм, так как они понимали страшную разрушительную силу его идей. Что же касается сочувствия, которым пользовался Руссо среди аристократов, то можно было думать, что это объясняется просто недомыслием аристократов. В некоторой части, конечно, это верно – пасторали, кормление грудью аристократками своих детей и проч., но не малая часть аристократов восприняла идеи Руссо всерьез и своей деятельностью стремилась искупить прошлые грехи своего класса. Ведь самым фанатичным, бескорыстным и прямолинейным террористом был Сен Жюст[51]51
Сен Жюст, Луи Антуан (1762–1794) – выходец из семьи землевладельцев, самый молодой член Конвента, входил в Комитет общественного спасения и предлагал передать ему функции революционного правительства с чрезвычайными полномочиями, произнес речь в суде над королем, требуя его казни; 10 термидора (28 июля 1794 года) был гильотинирован вместе с Робеспьером.
[Закрыть], который по своей непримиримости, несомненно, не уступал Марату, хотя у него совершенно отсутствовал элемент личного озлобления.
Но, возможно освобождение народа не может быть достигнуто без озлобления и без огромных кровавых жертв? Так думало большинство теоретиков XIX века, в частности, наши революционные демократы (Чернышевский и др.) и наши большевики. Л. Толстой с его проповедью непротивления злу казался наивным, абсолютно непрактичным человеком. И вот в XX веке наряду с кровавой революцией мы имеем другую, хотя и меньшего масштаба, но достаточно великую – освобождение Индии, совершенную в основном по гуманным принципам Ганди, совершенно лишенным догматизма и фанатизма. Как бы ни рассматривать распространимость принципов Ганди на освободительные движения вообще, одно несомненно: величайший освободительный энтузиазм может сосуществовать в одном человеке с поразительным беззлобием и широчайшей терпимостью; фанатизм необязателен. И что всего поразительнее, эта замечательная идеология широко распространена в Индии даже за пределами индуистской религии. Недавно я слышал по радио (16 июня 1956) о стихах великого индийского писателя Икбала. Он мусульманин и был едва ли не первым, выдвинувшим идею о создании независимого мусульманского государства, Пакистана. И однако ему принадлежит такое замечательное двустишие (записал по радио, может быть не вполне точно):
«Встань с разумом ради любви, созиданья,
Чтоб нового мира создать основанье».
Разум и любовь – вот, что должно быть движущей силой освободительного движения. Конечно, нельзя обойтись и без озлобления против несправедливости, но никогда озлобление не должно заглушать любовь. У нас же думали иначе, как поется в одной революционной песне:
«В душе же своей ты жалость убей,
Расстанься на время с любовью».
Нет, если жалость убьешь, то расстанешься с любовью не на время, а навсегда, и тогда, от благородного освободительного энтузиазма останется одна дикая злоба, закономерно порождающая справедливую контрреволюцию или еще более ужасные вещи; Сталин породил Гитлера.
Центральный конфликт романа. Теперь мы подошли к центральному конфликту романа, в чрезвычайно совершенной форме выражающей великолепную центральную идею Гюго – «Выше абсолюта революционного стоит абсолют человеческий».
Конфликт касается вымышленных лиц, хотя некоторыми чертами они напоминают исторические. Дело идет о маркизе Лантенаке, его внучатом племяннике виконте Говэне и комиссаре революции, бывшем священнике Симурдене, воспитателе Говэна. Лантенак, старый бывший королевский генерал – олицетворение беспощадной контрреволюции, фанатической защиты отжившего строя, Симурден – не менее фанатический революционер, Говэн – молодой блестящий военный начальник, искренний революционер, но обладающий единственным «недостатком» – милосердием. Лантенак, которого Гюго выставляет как главного организатора вандейского мятежа, благодаря искусным действиям Говэна, оказывается осажденным с кучкой фанатических вандейцев в замке и, имея в качестве заложников трех маленьких детей, объявляет республиканцам, что в случае гибели вандейцев, погибнут и дети; выполняя его приказ, один из последних вандейцев перед смертью поджигает замок, обрекая на смерть детей. Но Лантенаку удается скрыться благодаря неожиданно обнаруженному подземному ходу и в лесу он встречается с матерью детей, которая видит их гибель. В демоне Лантенаке пробуждается сострадание (так и пишет Гюго: In demone deus) и, движимый этим чувством, он возвращается, спасает детей и попадает в плен к республиканцам. Он подлежит казни за совершенные им преступления, но в душе Говэна возникает острый конфликт и в результате он дает возможность Лантенаку бежать. За это он сам попадает под суд, так как нарушил закон, запрещающий оказывать помощь мятежникам. Голоса разделяются. Из трех судей один высказывается за смерть – как нарушителю закона, другой, сержант Радуб, считает, что поступок Говэна достоин высшей награды, а не осуждения; решает дело Симурден, который, помня свое торжественное обещание членам Конвента: «Если республиканский командир, который доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь», приговаривает Говэна к смерти. Но он не выдерживает казни своего ученика и любимца и в тот самый момент, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурден выстрелил себе в сердце. Кончается роман замечательными словами: «Две трагические души, две сестры, отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом». Все симпатии Гюго на стороне Говэна, и он подчеркивает, что республиканские солдаты протестовали против казни и один гренадер соглашался быть казненным вместо Говэна.
Нетрудно догадаться, что такая позиция не по вкусу нашему казенному комментатору А И. Молоку, выражающему пока что «утвержденную» точку зрения. По его мнению, поступок Лантенака, спасающего крестьянских детей из пожара, не вяжется с образом жестокого вожака вандейцев и является надуманным. Этот эпизод, по комментатору, понадобился Гюго из соображений ложной гуманности. А самоубийство Симурдена символизирует моральную капитуляцию перед идеей милосердия, и «образ стойкого комиссара Конвента, разумеется, проигрывает от этого, оказывается менее цельным… В этом трагическом эпизоде отчетливо обнаруживается противоречивость взглядов Гюго на революционный террор. Писатель оправдывает его лишь как временное, преходящее явление, допустимое лишь в обстановке ожесточенной гражданской войны. (Впрочем, в других местах романа он не скрывает своего отрицательного отношения к „закону о подозрительных“ и другим террористическим мерам якобинской диктатуры.) В дальнейшем, полагает Гюго, допустимы одни только методы милосердия».
Трудно было бы поверить, что официальный комментатор от имени марксизма, мог дойти до такой низости, чтобы считать, что террор может быть оправдан не только в обстановке гражданской войны! Ведь, казалось бы, допустимы только две точки зрения для сколько-нибудь прогрессивного мыслителя: 1) полное отрицание террора вообще (в XX веке представитель его – Ганди); 2) допустимости его как неизбежного зла в самые острые моменты с вековым насилием. Оказывается, с «марксистской» точки зрения имеется третья возможность: признание режима перманентного террора. Но тогда зачем же Сталин и его защитники рядились в тогу социалистического гуманизма и вместе с тем утверждали, что социалистический строй без антагонистических классов уже построен? Выходит, что противники правильно говорили, что их строй держится только на терроре!
Кроме того, Молок не прав в том, что Гюго настаивает на допустимости только актов милосердия. Ведь Говэн – солдат революции, разивший смело врагов в бою, но отказавшийся воевать со стариками, женщинами и детьми, не убивавший лежачего, готовый проливать чужую кровь лишь при условии, что может пролиться его кровь. Великолепно противопоставление Симурдена и Говэна:
Говэн: «Свобода, Равенство, Братство – догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища… Низвергают трон не для того, чтобы на его месте воздвигнуть эшафот… Снесем короны и пощадим головы… Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово „прощение“ для меня самое прекрасное из всех человеческих слов».
Симурдэн и Говэн представляли две формы республики, республику террора и республику милосердия. На стороне Симурдена был наказ Коммуны Парижа: «Ни пощады, ни снисхождения, полномочия Комитета Общественного Спасения, приказ за подписями Робеспьера, Дантона, Марата; на стороне Говэна была только рука, разящая врагов и сердце, милующее их».
«Оба они парили каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж и каждый карал его своим мечом – один победоносно, на поле боя, другой – террором».
Прав ли был Говэн, отпустив на свободу Лантенака, или не прав? Как будто, по его собственному мнению, он сознал свою вину; на суде Говэн говорит: «Один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети, – они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин, я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя, – это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти – свою честь».
Согласимся ли с этим рассуждением Говэна? Вспомним тот конфликт, который происходил в душе Говэна перед принятием решения – освободить Лантенака.
«Если учесть, что в этом человеке было столько дурного – необузданная жестокость, заблуждения, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм – то с ним произошло чудо. Победа человечности над человеком». «Человечность победила бесчеловечность».
«А что собирались сделать? „Принять его жертву“ – маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью; не колеблясь в страшном выборе, он выбирал смерть для себя. И с этим выбором согласились. Согласились его убить. Такова награда за героизм! Ответить на акт великодушия актом варварства! Так извратить революцию! Так умалить республику! В то время, как этот старик, проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображается, возвращаясь в лоно человечности, – они, носители избавления и свободы, неужели они не поднимутся над сегодняшним днем гражданской войны, закосневшие в кровавой рутине, в братоубийстве? И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие есть соучастие! И он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвуют двое: тот, кто действует и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует – худший из двух, ибо он трус!»
«…Полно, уж не переоценивает ли сам Говэн так завороживший его поступок старика?»
«Трое детей были обречены на гибель: Лантенак их спас. Но кто же обрек их на гибель? Разве не тот же Лантенак?… Чем же так прекрасен его поступок? Просто не довершил начатого. И ничего более… Вот и вся его заслуга – не остался чудовищем до конца…
…Как, под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность? Как в споре низких истин провозгласить правду! Доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех людских дел – великая доброта человеческой души, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему, долг каждого старца по-отечески печься о младенцах? Доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы! Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра пучину гражданских войн».
Говэн пошел к Лантенаку и хотя тот (ожидая, что его гильотинируют) в длинной речи продолжал защищать свои феодальные взгляды, он надел на него свой командирский плащ и вытолкнул на свободу оцепеневшего от неожиданности маркиза.
Прежде, чем окончательно высказаться, коснемся вопроса, в какой мере изложенные события отвечают исторической правде. Событие, как оно изложено у Гюго, несомненно выдумано, поэтому, естественно, нет надобности искать такого священника-комиссара, который покончил самоубийством после казни друга и ученика, приговоренного им же за измену. А личность Симурдена довольно типична, и нечего искать конкретную фигуру, с которой он был списан. Что же касается Лантенака, то, по мнению комментатора, под этим именем выведен один из руководителей вандейского мятежа граф де Пюизэ, мемуары которого использованы в романе. Посмотрим, в какой мере Лантенак сходен с Пюизэ. Краткие сведения о Пюизэ (Жозеф) сообщены на стр. 437–438, но там явная ошибка, так как годы жизни Пюизэ показаны 1754–1827, таким образом в 1793 году ему было не 80 лет, как у Гюго, а всего 39. В статье «Шуаны» (т. 78, стр. 949) указано, что Пюизэ объединил отдельные шайки шуанов в июле 1793 года.
В 1794 году Англия прислала ему много снаряжения, под его начальством из Англии в Бретань выплыло 10 июня 1795 года 5 тысяч французов. Укрывшиеся в форте Пантьевре роялисты сдались Гошу 19 июля. Пюизэ покинул шуанов, отвернувшихся от него. Сдался его преемник. Республиканцы, вопреки обещаниям, расстреляли пленных (около 700 человек) по приказу Талльена; но Гош смотрел сквозь пальцы, если роялистам удавалось бежать на английские суда. После катастрофы в Киберне Пюизэ потерял доверие и удалился в 1797 году в Канаду, во Францию ему вернуться не удалось, в мемуарах он пытался оправдать себя. Он действовал в пользу конституционной монархии, старался к примирению партий, это вызвало неудовольствие крайних роялистов. Имя Пюизэ упоминается и у Гюго (стр. 179, 189). По Гюго, Пюизэ не только не поощрял шуанов к убийствам и грабежам, наоборот, сдерживал крестьян, которые были крайне склонны к кровавым расправам. В словаре Брокгауза и Эфрона указано, что особыми талантами как военачальник Пюизэ не обладал.
Сам ли комментатор додумался до того, что образ Пюизэ послужил моделью для Лантенака, но сходство обоих напоминает знаменитую загадку о селедке (висит в гостиной, зеленая и пищит…). Кроме чисто формальных сходств (высадка в Бретани, организация шуанов, получение помощи от Англии) подлинное сходство отсутствует: 1) Лантенак – старик, Пюизэ – 39 лет; 2) Лантенак – крайний монархист, Пюизэ – весьма умеренный и даже не смог вернуться во Францию после реставрации (умер натурализованным англичанином); 3) Лантенак стремился призвать англичан, Пюизэ высадился с французами, у Гюго же есть указание: «Мятежники идут в бой с криком: „Да здравствуют англичане!“»; 4) Пюизэ вовсе не был главой всего вандейского движения и особыми талантами не обладал.
Но если образ Лантенака не имеет сколько-нибудь подходящего реального деятеля в качестве модели, то для Говэна совершенно напрашивается прообраз в лице одного из привлекательнейших деятелей революции – Лазаря Гоша. Конечно, и тут есть расхождение: Гош не был дворянского происхождения, а вышел из низов и в подавлении вандейского движения он участвовал уже после термидора. Но в остальном поразительное сходство: 1) молодость Гоша – умер в 29 лет, по мнению некоторых, отравленный агентами Бонапарта; 2) пламенный революционный энтузиазм; 3) крупный военный талант (отчего его и побоялся Бонапарт); 4) самостоятельность в принятии решений, приводивших к победе, отчего он и попал в тюрьму и был бы казнен, если бы его не спас термидор (хотя он вовсе не был противником Робеспьера); у Гюго Говэн также вызывал неудовольствие его начальника Лешеля, который добивался теперь чуть ли не расстрела Говэна; 5) гуманность с пленными, резко выделявшая его из ряда республиканских военачальников: про Говэна Гюго пишет (слова Марата, стр. 142): «В бою мы, видите ли, тверды, а вне его – слабы. Милуем, прощаем, щадим, берем под покровительство благочестивых монахинь, спасаем жен и дочерей аристократов, освобождаем пленных, выпускаем на свободу священников». Симурден в беседе с Говэном прямо упрекает его, что пощаженные им враги сделались главарями банд.
Если образ Лантенака был надуман Гюго, то так же надуман был и его поступок. Ведь если бы даже было все так, как написано в романе, и Лантенак, видя горе матери, решил спасти детей, не было бы никакой необходимости в самопожертвовании: он просто передал бы ключи от железной двери матери и та, конечно, выполнила бы все это дело не хуже его, старика. Это все для романтики. Но поставим вопрос прямо: правильно ли поступил Говэн, выпустив после такого поступка старика, зная, что ранее пощаженные им шуаны сделались потом главарями банд? Мы знаем аналогичные случаи и из нашей революции: генерала Краснова выпустили на честное слово, а он потом возглавил контрреволюцию на юге.
Действительно, главным доводом в пользу революционного террора является вероломство контрреволюционеров, которые часто считают, что они должны твердо соблюдать слово в отношении «своих», но по отношению мятежников, пошедших против законного монарха, правила чести не приложимы. Взаимная жестокость и вероломство все усиливается, что и приводит к обычной ожесточенности гражданских войн. И, как всегда, понятие «двух лагерей» даже в это время не сохраняется строго. И у нас, кроме белых и красных, были «зеленые» махновцы и проч., имевшие прочную базу в крестьянстве, которое страдало и от белых, и от красных. Вандея ведь только возглавлялась аристократами, массу же составляло крестьянство, называвшее буржуазию «брюхатым» и ненавидевшее буржуазию, представителей города, больше, чем своих местных аристократов. Можно ли поэтому возлагать всю ответственность за Вандею на отдельных личностей, считать, что с их гибелью прекратилось бы кровопролитие и что, следовательно, выпуск на свободу Лантенака обозначает гибель массы людей. Конечно, нет: с гораздо большим правом можно сказать, что сохранение многих жизней было бы следствием убийства таких фигур как Марат, Робеспьер и Сен Жюст, фанатичных палачей революции.[52]52
Оценка Любищевым тактики террора во Французской революции и критика им позиции марксистского комментатора образца 50-х годов справедливы. В 1991 году была переиздана на русском языке книга английского мыслителя и историка начала XIX века Томаса Карлейля, написанная еще в 1837 году – «Французская революция. История». (М.: Мысль, 1991). Историк В. Г. Сироткин в послесловии пишет, что во французской леворадикальной и марксистской историографии XX века долгое время «господствовали некритическое восприятие якобинской диктатуры и едва ли не культ Робеспьера, как обратная реакция на его забвение в официальной Франции… самое противоречивое и спорное во Французской революции – якобинский террор – было возведено в абсолют… Влияние идеологии и практики якобинцев на большевиков в 20-х – начале 30-х годов было огромным». Сироткин сообщает, что к 200-летию революции во Франции с помощью ЭВМ был произведен анализ жертв якобинского террора 1793–1794 годов. Оказалось, что «враги нации» дворяне составляли всего около 9 % погибших, остальные 91 % – рядовые участники революции, в их числе 28 % – крестьяне, 30 % – рабочие. Робеспьер и якобинцы, сами павшие в огне развязанного ими террора, рассматриваются ныне как доктринеры-фанатики, которые, как справедливо замечает Сироткин, готовы защищать чистоту доктрины путем отсечения чужих голов, да еще во имя личной диктатуры.
[Закрыть]
Для победы революции было бы всего лучше, если бы террора вовсе не существовало, но в определенные моменты истории террор бывает не организованным, а стихийным: сентябрьские убийства во Франции, махновщина в нашу гражданскую войну, истребление власовцев, попадавших в плен к нашим солдатам во Вторую мировую войну (вопреки запрещению убивать пленных). Организованный террор имеет по крайней мере три источника: 1) локализация и смягчение стихийного террора, с целью постепенной его ликвидации: такова, видимо, была мысль Дантона при организации Революционного Трибунала; 2) паника руководителей (у нас – расстрел заложников после покушения на убийство Ленина); 3) удобный метод расправиться со своими политическими соперниками. Несвоевременная попытка ликвидации террора путем убийства главы террористов (Шарлотта Кордэ) или попытки ликвидации системы террора (жирондисты) часто кончается гибелью без всякой пользы для дела, но честь и слава тем, кто пытается ликвидировать систему ужаса. Даже если бы Лантенак был подлинно тем чудовищем, которым он изображен у Гюго, поступок Говэна следует одобрить. Если Лантенак оставался чудовищем, так он был бы не способен на такое самопожертвование; а если оказался способен, значит он перестал уже быть тем чудовищем, каким был до этого. И какое впечатление могло бы то или иное решение произвести на крестьянские массы шуанов? Если бы Лантенак был казнен, они имели бы право сказать: «Воюют буржуи с аристократами, им дела нет до крестьянских детей, а видно, нашему-то маркизу жизнь наших ребят ближе, если он своей жизнью пожертвовал, чтобы спасти неизвестных ему и чуждых по классу ребят: бей буржуев, да здравствует король!»
Крупные успехи в деле борьбы с вандейским мятежом были достигнуты реальным прообразом Говэна, Гошем, и не вопреки его гуманности, а благодаря этой гуманности. И в нашей революции, мы знаем, ужасный и бессмысленный террор в Крыму (истребление пленных офицеров) не предотвратил кронштадтского мятежа. Подняли бунт, как известно, матросы, многие из которых принимали активное участие в революционном терроре. И прекращение мятежей в России произошло не благодаря ликвидации кронштадтского мятежа, а благодаря введению нэпа, давшего реальное смягчение внутренней напряженности. Система террора была восстановлена Сталиным, и мы знаем, с какими ужасными результатами – XX Съезд Коммунистической партии твердо установил, что террор ежовщины был абсолютно вредным и способствовал только ослаблению нашей обороноспособности (для беспартийных, в общем, это было ясно и до съезда партии), а если Россия все-таки выдержала, то тут не обойтись и без старого изречения Тютчева:
«Умом Россию не понять».
Сейчас, к счастью, террор прекратился, надо думать, навсегда. Может быть, даже наблюдается избыток «милосердия» в смысле призыва амнистировать всех прежних преступников. Это тоже крайность: надо соблюсти истинную середину между террором и полной маниловщиной, иначе вся наша культура зарастет буйными сорняками, как это уже случилось в биологии, философии, экономике, партийном аппарате и проч.
В свете современных событий великолепный роман В. Гюго является подлинным пророчеством.
Дополнение. Мне пришло в голову еще одно соображение, Аргумент, что выпущенные на свободу крупные деятели контрреволюции используют свою свободу для продолжения борьбы кажется неотразимым для оправдания суровости, но на самом деле это не так. Я не знаю, как дело было с Красновым, но могло быть так. Противник революции, захваченный в плен и выпущенный на честное слово (обещая прекратить борьбу), узнает, что произошли совершенно не обоснованные и нелепые акты террора: у нас после покушения на убийство Ленина прямая виновница покушения Каплан по непосредственному приказу Ленина была пощажена, а впавшие в панику руководители во главе с Дзержинским расстреляли ни в чем не повинных несколько сот заложников, «в порядке красного террора» как представителей класса. В числе расстрелянных был, например, выдающийся священник, философ Орнатский.
В этом случае, естественно, возникает дилемма: обязан ли человек соблюдать слово по отношению к правительству, истребляющему людей без всякой вины с их стороны? Совершенно та же дилемма возникает после крымского террора: офицеры, которым была торжественно объявлена амнистия, были поголовно истреблены, независимо от их виновности или невиновности в содеянных преступлениях. Основанием для лояльности после этих событий могло быть не моральное (бесспорное выполнение слова), а чисто рациональное.
Во всех этих случаях террор не предупреждает контрреволюционные выступления, а придает им моральное оправдание.
Ульяновск, 22 июня 1956 года
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































