Текст книги "Мудрецы и поэты"
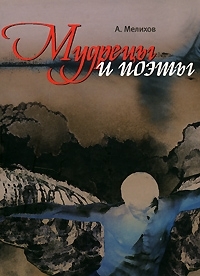
Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И с культурным, с позволения выразиться, уровнем тоже обстояло благополучно – еще в армии он начал серьезно его повышать. И повышал по нынешний день. Он знал, что теперь всю жизнь будет сравнительно много читать, он с детства больше всего любил читать, но раньше – посоветовать было некому – читал всякую похабень да ходил в кино на все подряд. Да еще мать мешала – не терпела, когда он читал «посторонние книжки» – не учебники. Но теперь с этим было по-другому. Теперь он читал серьезные книги, в основном классику – шпарил целыми собраниями сочинений: Тургенев, Куприн, Паустовский, Григорович, Станюкович, Горький, Хемингуэй – и все в них понимал.
Он был уверен, что понимает их как мало кто – мало у кого есть такой жизненный опыт, вот они и хватают по верхам. Интересовался также философией – заглядывал, проникался и откладывал.
Он любил читать. Вспомнит у себя в больнице, что дома ждет кресло и книга, – и потеплеет на душе. Правда, когда перечитаешь лишнего, возникает такое чувство, будто едешь в поезде: одни появляются, другие исчезают, а через неделю никого уже не помнишь.
Все, таким образом, было у него в порядке, однако чего-то в нем все-таки недоставало. Вернее, не чего-то, а именно свободы – непринужденности. Иногда он с удовольствием подумывал, что вот идет он по улице – и никто ничего, – идет молодой мужчина, такой же, как все. Но иногда вдруг пугался: а вдруг у него что-нибудь не так, и начинал коситься, не поглядывают ли на него другие: может, что-то у него не то, какая-нибудь мелочь, ему незаметная, зато прекрасно видная остальным. Может быть, поля у шляпы слишком широкие или слишком узкие, или пояс у плаща стянут чересчур по-военному, – вот некоторые не застегивают пояс, а кладут его концы в карманы, так гораздо раскованнее, и он тоже клал концы пояса в карманы. Зато другие сцепляли пояс на спине вместо хлястика, и тоже ничего, – но эти уже перехватывали через край. Да и вообще: сколько мелочей подстерегает человека! Однако, каждый раз убеждаясь, что до его пояса никому нет никакого дела, он успокаивался и снова с удовольствием чувствовал себя таким же, как все, хотя через какое-то время опять начинал коситься. Конечно, это не поглощало сколько-нибудь значительной части его душевных сил, но все-таки оставалось одной из мелких забот, которые были чужды свободным.
В общем-то, он не был таким уж робким. Ведь всякий будет осторожничать, выходя в бой с малознакомым оружием, а он тем более, делая что-то, привык знать, что делает так, как надо. Причем знать не сам, а чтобы это подтверждалось не оставляющей сомнения инструкцией или учебником, в общем – авторитетом. Может быть, поэтому на работе в своей больнице он чувствовал себя совсем иначе. Да там больше выступал и не он сам – выступала должность. Она шутила, огрызалась, а он сидел в ней, как в танке, и думал: пронеси, господи, – когда снаряд ударялся в броню.
С культурным уровнем было то же, что и с одеждой. Вот, например, еще в институте он прочитал книгу «Модернизм и модернисты». Не все там понял – что такое, например, ритм картины или звучание линий, – почти все забыл – немыслимо было запомнить все эти незнакомые фамилии и художественные группировки, тем более что и названия они, кажется, старались выдумать побессмысленнее, например «Синий всадник»; усвоил, что термин «модернизм» применяется, в основном, к упадочным течениям, ведущим к выхолащиванию содержания, утрате формы и разложению художественного образа, обнаружил, что есть какая-то связь между абстрактной живописью и общими тенденциями идеалистической философии, однако и с этим запасом в разговорах на близкие темы он не встречал себе равных. Те, кто претендовал на какую-то осведомленность в этой области, на наличие какого-то мнения в духе «в этом что-то есть», доходили самое большее до того, что абстрактная живопись ласкает взгляд и т. п., а он их спокойно убивал замечанием, что классики абстракционизма, например Мондриан, считали чувство удовольствия при созерцании слишком плотским и препятствующим главной цели – освобождению от предмета. Здесь уже никто ничего не мог возразить, потому что и о Мондриане слышали впервые. И тем не менее, если при разговоре присутствовал кто-то из свободных, сразу становилось ясно, какова цена и Мондриану, и всему, чего они не знают. И ясно было, что так оно и останется, сделайся он умнее хоть еще в тысячу раз. Лаборантка из свободных, кончившая восемь классов, всегда окажется умнее – свободнее – академика из таких, как он.
Главная разница: когда он повышал культурный уровень, он, так сказать, шел к нему, к уровню, на поклон, шел учиться – перенимать, а перед ними культурному уровню как бы самому приходилось распинаться, чтобы заслужить рассеянное похлопывание по плечу. Так получалось всегда: в кино он шел – учился, книги читал – учился, а когда говорил с кем-то о книге или о фильме, у него было такое чувство, словно он зарабатывает этим право на вход куда-то. Такие, как он, всегда должны зарабатывать право на вход. И все же свободные напоминали ему об ином мире, в котором люди не теряют достоинства, где нет красных лиц, некрасивых поз, интонаций, движений, гримас, где женщины не задирают ног, залезая в поезд, – или хотя бы не делают этого с такой охотой, – не становятся запросто в километровую очередь за какими-нибудь вшивыми лимонами, где люди от удовольствия не орут и не хохочут, особенно в общественных местах, а горюют еще уединеннее, еще прекраснее. Там страдающая женщина не станет сидеть в неприбранной комнате – ну разве что легкое пальто брошено на кресло, но не грязная посуда на столе, – даже в горе – вернее, в горе тем более – она не сядет, навалившись на стол так, что лифчик врезается в подмышки, или свесив нечесаную голову между растопыренными коленями, – горе только придает ее изяществу глубину. Небось у нее не распухнет нос от рыданий. И не потому, что она и в горе продолжает беспокоиться о том, чтобы выглядеть очаровательной, – просто это такой мир. В нем сохранение достоинства не требует усилий – оно срослось с людьми. Как в кино.
А вот Димина мать причитала над отцовским гробом так тщательно, так не упускала ни малейшей подробности из последних дней его жизни, а упустив, с такой ужасной методичностью возвращалась, – да, а еще до этого Димочка у него спрашивает: папа, говорит, а мы на рыбалку с тобой поедем? Поедем, говорит, вот и поехали на рыбалку, оставил сь… сь… сиротиночку, – все это с такой методичностью, что у Димы возникла полубезумная догадка: она притворяется. Тогда поразила его эта догадка и еще длинные ноздри отца – никогда он их не замечал, может, просто не рассматривал отца снизу, а недавно заметил и у себя такие же и время от времени подходил к зеркалу и, запрокинув голову, разглядывал их так и этак. Наверно, эта догадка мелькнула и у сестры, – у нее, кстати, тоже были эти ноздри, только по-женски смягченные, – и, наверно, она побоялась, как бы такая же догадка не мелькнула у кого-нибудь еще, – словом, сестра что-то такое, наверно, матери шепнула, и мать так вскинулась, что его догадка чуть не перешла в столь же сумасшедшую уверенность: настолько, оказалось, она хорошо помнила – и ни граммом меньше того, что ей положено, – свои сегодняшние вдовьи права центральной фигуры голосить как пожелается, а если попробуют помешать, то и наорать как пожелается, потому что права-то эти, сами понимаете, священные, так что выкусите-ка все, кому не нравится – уж извините, коли что не так, мы люди простые, писаных пряников не едим, а придется вам потерпеть: против священных-то прав не попрешь. Казалось, она не упустила ни одного мелкого преимущества своего вдовьего положения.
Но на кладбище мать стала с рычанием бросаться на ровненькую, как морковная грядка, узенькую насыпь, – неумело разбегалась на несколько шагов и, зарычав, бросалась вперед, – и он, вспоминая ее рычание, всегда леденел от ужаса: ему казалось, он понимал эту жажду сделать себе побольнее, не выдирая волосы или расцарапывая лицо (разве это боль!), а – безобразием: с рычанием при всех упасть на четвереньки лицом в свежую аккуратную грядочку, которая уже все, и намазать его пожирнее, как бутерброд. Конечно, какой еще болью можно оглушить, ослепить, наркотизировать себя глубже, чем вывернув в безобразии! Может быть, догадка эта страдала чрезмерной усложненностью, как первая – упрощенностью, но для Димы она была очень характерна, указывая на его повышенное внимание к изящному и безобразному. Воспоминание это являлось к нему в самых неожиданных и людных местах, и он, привычно леденея, вглядывался в лица и думал: неужели каждый в себе что-то такое носит?
Самое привлекательное в свободных – они свободны от мыслей не просто мелких, но некрасиво мелких, от которых ему никогда уже было не избавиться. Он, например, не мог не отмечать, что вот это блюдо в меню на три копейки дешевле, чем то, вот этому сослуживцу сбрасывались на день рождения по пятьдесят копеек, а ему, Диме, по тридцать, этот взял рубль и не отдает, наверно, забыл, но мысль о том, что он притворяется, а сам не забыл, никак не хотела убраться насовсем, а все кружила вокруг до около. Дима мог не подавать виду, мог их скрывать, эти пакостные мысли, а у них, настоящих свободных, такие мысли не возникали, как в общественных местах у них, вероятно, не чесалась спина.
Да, вот так. Диме казалось, что за опрятностью свободного достоинства манер кроется свобода от неопрятно мелочной расчетливости, осмотрительности, практичности. Потому-то, может быть, Дима, оставаясь еще довольно молодым мужчиной, постепенно становился довольно старым холостяком. Мужское самолюбие его при этом не страдало, конечно: всем известно, какая ценность для незамужних женщин молодой интеллигентный мужчина с хорошей профессией, имеющий комнату в малонаселенной квартире. На работе предметом шутливого обсуждения женщин-сотрудниц постоянно была его женитьба. «Дима, когда ты наконец женишься? Это просто бессовестно, когда вокруг столько незамужних! Я бы таких штрафовала». – «Надо их, женщин, штрафовать за недостаток обаяния», – отвечал Дима и чувствовал себя гусаром. Будь у него усы, он бы их непременно подкрутил.
С женщинами ему мешала постоянная ничья в той борьбе, которую иногда называют даже борьбой души и тела, где тело – симпатии, приобретенные в раннем детстве, а душа – симпатии более зрелого возраста.
Свобода тех немногих свободных девушек, с которыми он сталкивался поближе, очень скоро начинала вызывать у него отчетливую ассоциацию, которую можно определить – если не искать более тонких или, может быть, просто более благозвучных синонимов – словом «потаскуха». Он начинал чувствовать некоторое их родство с девицами на улицах, у которых лица бело-намазанные, как лебеди на клеенке в его отчем доме, и алый рот пылает на известковом лице, как стоп-сигнал. А Дима не так был воспитан, чтобы пойти на красный свет. Он с детства усвоил, что накрашенные губы – признак вполне исчерпывающий.
Ну а с девушкой такой же, как он, – трудно: оба по полчаса не знают, что сказать, жмутся, – в этом отношении со свободными было куда проще. А почему жмутся? Все та же осмотрительность, недоверчивость: каждый подозревает, что другой готов его высмеять. И мелочность тоже, боязнь переплатить, улыбнуться на миллиметр шире, чем улыбнулись тебе.
Сквозь расчетливость, которую он в них угадывал, очаровательная любовная игра, намеки, подшучивания казались ему вымученными. Флирт таких, как он, вызывал у него в памяти какую-то такую картину. Идут мужчина и женщина, обоим за сорок, оба заезженные – оттого и осмотрительные. Если все на них новое, так еще только больше видно, какие они зачуханные. Он худой, лысый, обалдело носатый, она кокетливо мелкокучерявая, крашенная в ярко-рыже-фиолетовый цвет – туда же накрасилась! – крепкая, крепче его, раздавшаяся, как раздаются заезженные женщины – не в женские формы, а в кость, в бока, в живот. Идут под руку, его рука так и ходит, то пожмет ее локоть, то подхватит за талию, то похлопает по спине, а сам изогнулся к ней этаким чертом и что-то в ухо ей наговаривает, а она заливается. Вдруг – видно под разговор пришлось – он начинает спихивать ее в канаву, – а выглядит она крепче его, но понимает, что по правилам ей положено хохотать и взвизгивать, и правила эти ей по душе, она хохочет и визжит. Он тоже победно хохочет, – парень с девкой – заиграй тальяночка. Он чего-то напористо-игриво допытывается у нее, спрашивает все одно и то же, а она задорно отвечает: нисколечко! нисколечко! И глядят друг на друга прощупывающе и лукаво – блудливо. Или он толкает ее в сугроб, это все равно. Участвуя в заигрываниях, Дима чувствовал себя этим мужчиной.
А между тем, казалось ему, мало кто мог так хорошо понимать, какое это счастье – близкая женщина.
Не слюнявые объятия – что-то такое у него бывало, – нет, он знал так ясно, словно прошел через это, как чудесно иметь друга, который тебе ближе, чем ты сам, которому можно рассказать, что и себе постесняешься: сам ты все-таки мужчина, а перед ними нужно держать марку. А этот друг понимает больше, чем сказано. И друг этот нежный и робкий, ты его сильнее, он жмется к тебе в трудную минуту, ты тоже для него опора, потому что трудно вам разное.
В поздней, «духовной» стороне его воображения, похоже, испытавшей влияние кинематографа, брезжила какая-то такая картина: элегантная постель, двое, видна божественная линия ее руки и рассыпавшиеся волосы, его голые плечи и мускулистая шея, но дело совсем не в том, что постель и плечи, они и не замечают, что постель и плечи, – они разговаривают.
И разговаривают не потому, что волей обстоятельств попали в одну постель, как разговаривают попутчики в поезде, – нет – им хочется разговаривать, им интересно разговаривать, каждый из них ужасно хочет поделиться своим и принять чужое, они спешат все узнать друг о друге, перемешать свои души в одну. Они смотрят в глаза друг другу без тени скованности, то есть стыда, потому что у них нет и тени задней мысли, они ничего не собираются выгадать друг на друге. Мелочные потому всегда и скованны, что у них постоянно есть какая-то задняя мысль.
Диме ох и редко доводилось смотреть в глаза без тени скованности!
Ранней же, «телесной» стороне представлялось что-то в таком духе: праздник – Май или Седьмое, утро, босиком, шлепая по полу, выходишь в кухню и стоишь, сморщившись от света, а у стола мать с отцом. Отец в белых солдатских подштанниках и такой же рубахе, уже пропустил стопарик-другой, оба улыбаются – сидят себе довольные и болтают вполголоса, а когда замечают тебя, улыбаются уже другими улыбками, друг для друга у них улыбки не такие; тут, едва стукнув, входит соседка, и отец, всегда такой основательный, рысью мчится в комнату, – в глазах у Димы так и стоит его нога в белой штанине, торчащая из-за косяка. «Ишь, сорвался!» – смеются мать с соседкой, но Диме кажется, что соседка завидует, что она не допущена в число «своих» – среди кого можно сидеть в подштанниках.
Вот «телесное» семейное счастье – сидеть в подштанниках и разговаривать! Особенно о пустяках – значит, ты интересен вплоть до пустяков.
Диму привлекали женские лица с тайной озабоченностью. Не мелкой, ограниченной озабоченностью и не тяжелой, мучительной, а озабоченностью грустной. И достойной. Ведь только с озабоченным человеком и можно говорить серьезно, потому что озабоченность – это и есть серьезность, а веселость легкомысленна. Только озабоченность должна лишь угадываться, не быть сосредоточенной на себе, как умение вести себя не должно быть сосредоточено на хороших манерах – все должно делаться само собой.
Не было ли в его склонности одновременно к свободе и озабоченности следов того же противоречия души и тела? Было. Но только частично. Свобода в его представлении исключала мелкую озабоченность, роняющую человеческое достоинство, – слово «мелкая» не казалось ему расплывчатым. И время показало, что требования его не были противоречивыми – они соединились в Юне, душа и тело. В ней были свобода и серьезность, простота и достоинство. Уже через полчаса он чувствовал себя с нею так, словно они десять лет знакомы, хотя в ней ни на миг не исчезало обычно немного подавлявшее его достоинство. Достоинство и некая дымка печали. Дымка серьезности и достоинства.
Уже через полчаса он решился, как бы в шутку, рассказать ей о недавнем случае, вызвавшем в нем что-то вроде умиления: он ночью вышел в кухню и услышал, как в темноте вдруг включился и загудел соседский холодильник – один, ночью, в темноте, никто его не проверяет, мог бы притихнуть и пересидеть, пока хозяев нет, а он, как пришло время, загудел – значит, трудится для себя, а не для проверяльщиков.
И по тому, как она с дымкой печали улыбнулась и задержала на нем понимающий взгляд, ему стало ясно, что понимает она больше, чем сказано. Тогда он рассказал ей, что отец его, классный слесарь, тоже работал не для проверяльщиков, а была у него такая гордость, что все он сделал как надо – пусть даже он один это замечает. Деньгу-то он, впрочем, тоже всегда умел заколотить, но – деньга деньгой, а гордость гордостью. Но, может быть, холодильник тогда просто обознался в темноте, решил, что зашел хозяин?
Разговор-то этот был, что называется, со стопроцентной гарантией – все всегда соглашались и сетовали, что таких людей, как отец и холодильник, становится все меньше, – настолько все сетовали, что становилось даже непонятно, отчего же тогда все-таки приходится на это сетовать. Дима, кстати, тоже считал себя похожим на отца и холодильник. Но она согласилась не так, как другие, и задержала на нем серьезный испытующий взгляд: действительно ли он тот, за кого себя выдает, и ему хотелось крикнуть умоляюще: да тот я, тот, что ни на есть тот самый! Во взгляде ее никогда до конца не таяла печальная дымка.
И расстались они, будто десять лет были друзьями, – ему, во всяком случае, так показалось – и обменялись, как ему показалось, признающимися в этом взглядами. Только в миг самого последнего «до свидания» она улыбнулась чужой улыбкой, – не улыбнулась, а показала улыбку вежливости, которая означает, что улыбаются не для тебя, а из уважения к себе. А Дима умел чувствовать признательность, только когда что-то делалось именно для него. Кажется, если бы кто-то спас ему жизнь и сказал, что делал это не для него, а потому что так положено, – кажется, Дима не мог бы любить его. Тоже делал бы, конечно, что положено благодарному, но любить не мог бы.
И когда она улыбнулась так, он похолодел. От другого он принял бы такую улыбку за предательство, но от нее – только похолодел. Впрочем, она и теперь так улыбалась на прощанье, и он почти уже не холодел – привык. Видно, ее тоже с детства приучили, чтобы прощальная улыбка не содержала в себе ничего, кроме вежливости. Даже после самой задушевной беседы.
Надо сказать, что задушевность большей частью была в том, что понималось, а не в том, что произносилось. Он рассказывал ей о своих делах, она слушала и всех знала на его службе, – она рассказывала меньше, но это так и должно было быть – как у его отца с матерью. До того Дима привык ей все рассказывать, что, если что случалось, первая мысль была: расскажу ей – и легче становилось.
В своем отвращении к дурным манерам Юна даже слегка пугала его: при всевозможных уличных или магазинных вульгарных сценах, участники которых совершенно забывали о своем достоинстве, взгляд ее выражал холодную брезгливость и чистоту, становился холодно изучающим – как не на людей смотрела.
Дима восхищался этой недоступной ему чистотой; ему и самому так, бывало, становилось тошно смотреть на недостойную мелочность, что она могла показаться самым противным на свете, но он все же не мог надолго забыть, что есть масса гораздо худшего. К тому же его манеры, случалось, тоже хромали. Ну а материны… Нет, такая высота была ему не по плечу.
Но все-таки почему он раньше заглядывался на свободных? Теперь, когда это было в прошлом, ему казалось невероятным, что на него сами по себе могли произвести впечатление одежда или походка. А что до мелочности, то ведь знал же он, что и у шикарно свободных свои заботы – наряды-то их раскованные тоже так просто не пошел и не купил. И он нашел новое объяснение: он не был уверен, хороший ли он человек. То есть он, конечно, ничего особенно плохого не делал, иногда даже делал хорошее, но он не мог бы сказать с уверенностью, делал ли он это для себя или каким-то образом опасался людского суда. А свободные, во всяком случае, все делали для себя, а не для проверяльщиков.
Дима размышлял так свободно и объективно, словно был в этом деле совсем посторонний, то есть свободный. Он бы и еще поразмышлял, но, кажется, уже пора было трогаться.
В кассе ближайшего гастронома он выбил чек на бутылку коньяка – за свободу надо платить, и платить, оставаясь свободным: без сожаления. Что-нибудь спиртное входило в план сегодняшнего вечера – спиртное, но чтобы только не вульгарное. Коньяк – черт его знает! – тоже может показаться ей претенциозным, то есть подражательным, но, по крайней мере, она увидит, что он не жмот. В первый раз он шел с коньяком к женщине, которой хотел бы похвастаться перед миром, и не без гордости косился на покупателей. Подходя к винному отделу, он заметил, что не положил сдачу в карман, а несет ее в руке – для непринужденного это черт знает что, – и, смяв, поспешил спрятать рублевые бумажки. Поднимая голову, он сильно ударился о внушительного мужчину в тонких очках. «Ннельззя жже так!» – с давно сдерживаемым благородным возмущением воскликнул мужчина, с омерзением осматривая подлую Димину фигуру. Дима подумал, что они оба одинаково виноваты – мужчина так же, как и он, не смотрел, куда идет, – но такие у мужчины были внушительные манеры, что ему никогда ничего не удастся объяснить, он всегда будет обвинителем.
Дима собрал всю свою беззаботность и не стал извиняться перед ним, – обошел его, и все. Обошел – и все! Что плохо в воспитанности, так это то, что хамы принимают ее за робость, а от них можно отбиться только хамством, так и хочется к нему прибегнуть. Но сделайся он хамом, ему бы не видать Юны, стало быть, он в чистом барыше. А достоинство охранить невоспитанностью нельзя. Впрочем, он недавно выяснил, что у достойного человека достоинства вообще отнять нельзя, пока он сам не отдаст. Однако в данную минуту это выглядело неубедительно – так его подавляли внушительные манеры. Сейчас он понял, как они приобретаются: смолоду нужно обладать несокрушимым самодовольством – одни будут уважать, другие называть индюком, но нужно не сдаваться, и последних будет становиться все меньше. И, наконец, когда часть волос поседеет, часть выпадет, когда живот позволит ходить более чем выпрямившись, это самодовольство начнет производить впечатление достойно прожитой жизни. Однако же Димина начальственность улетучилась; несмотря на коньяк, он мог бы теперь сойти разве что за чучело начальника. И черт его знает, почему его сносило на начальственность, ведь он терпеть не мог индюков – в их отсутствие, конечно, а так – перед ними робел.
Возле гастронома продавали мертвенно бледные куриные котлеты и яйца. Цинично продавать их вместе, подумал Дима, – так сказать, начало и конец. А между ними целая жизнь. Дима шутил, пытаясь набрать инерцию раскованности. Все-таки каждая встреча с ней была в какой-то мере испытанием. Еще бы: ведь даже коньяк она может счесть чем-то вульгарным. Шампанское тоже какое-то пенистое и книжно-подражательное. Да и облиться им легко. И вообще – сколько мелочей подстерегает человека. От этого страха Диме никто никогда не казался смешным.
Взять хотя бы театр. Там, ему казалось, все обнажают свою гусиную суть, все там несвободны, кроме разве что главрежа и гардеробщиков, с которых, как известно, и начинается театр. И особенно несвободны, то есть подражательны, те, кто изображает из себя завсегдатаев, чуть ли не вхожих за кулисы, чуть ли не имеющих парочку актрис на содержании.
Театр был авангардистский, то есть на все там реагировали в точности наоборот: девушки при виде крыс млели от счастья, а при виде возлюбленных в ужасе взвизгивали. Но там так вертелась сцена с непонятными сооружениями, так мигал свет и актеры бродили по залу, что публика, поспевающая в ногу с веком, при каждом удобном и неудобном, чаще неудобном, случае спешила разразиться овацией. Диму коробила такая угодливость, но все-таки и он опасался обнаружить перед Юной какую-нибудь свою безвкусицу или неосведомленность, – ему не по плечу была роль мальчика из «Голого короля». Ведь она так хорошо была знакома с артистическим миром – артистов называла актерами, ох, неспроста! – после кино часто спрашивала что-нибудь вроде: «Ты заметил, что Марселя дублировал Гущин?» – на что Дима неопределенно хмыкал – он не узнал бы Гущина, если бы даже тот сейчас попросил у него закурить. Черт его знает, может быть, это стыдно – не знать Гущина.
Но художественная часть, в конце концов, не требовала конкретной реакции, рискованнее было с другим: в антрактах идти прогуливаться в фойе, или оставаться на местах, или отправиться в буфет есть пирожные, стоя в парадной толкотне, в которой все, ему казалось, стоя, тужатся быть непринужденными. Очень может быть, что две из этих тактик – мещанство, но какие именно? А может, и все три. Вдобавок Юна как-то мимоходом рассказала, что когда-то рассталась с парнем из-за того, что он, не дожидаясь конца спектакля, отправился брать ей пальто в гардеробе. Правильно сделала, и он, Дима, такого бы ни за что не отколол, как тот парень, но мало ли мелочей и без того подстерегает человека.
Однако не отказываться же было от билетов – дефицит, в связи с недавним культурным взрывом в этот театр, он слышал, ночами стоят. Ему билеты подарила больная, тоже, может быть, добыла их ценой ночи. Как Клеопатра из Пушкина, – он всего Пушкина просмотрел. А может, достала через парикмахера, у которого стрижется театральный истопник. Неловко было брать, но и отказываться не хотелось: во-первых, Юну хотелось удивить, а во-вторых, могли подумать, что он ломается, потому что у них в больнице это было принято. А принятое было для Димы законом.
Но театр все же был пустяком по сравнению с главным: сегодня он наконец решился предпринять какие-то шаги, на которые рано или поздно обязан решиться мужчина. Пусть самые скромные, но все-таки именно любовные. Однако дружеская сердечность их отношений, казалось, превращала такие действия в нечто почти кровосмесительное.
С другой стороны, он опасался, что его нерешительность становится смешной. Но он так страшился, что подобные действия оскорбят ее, что ничего столь вульгарного она вовсе не имела в виду, – так страшился, что согласился бы казаться смешным себе и как угодно долго, – теперешнее положение при мысли его утратить представлялось настолько прекрасным, что такая рискованная попытка улучшить его отдавала, с медицинской точки зрения, преступным авантюризмом. Но вдруг он кажется смешным и ей? Тогда ведь чем дальше, тем хуже. С третьей стороны, если учесть ее деликатность и сердечность их отношений, то достойных средств ухаживания просто-таки не существовало. Он, во всяком случае, их не знал. Что, положить ей руку на колено? – не от мысли даже – от мысли о мысли его бросало в жар. С четвертой стороны… И с пятой… И с одиннадцатой… При виде Юниного дома, что называется, сладко заныло в груди. Если бы не было неловко, он бы с радостью погладил дом по стене. А что – та же одежда, только попросторнее.
У дверей все-таки нахлынул такой страх, что он решил переждать немного, чтобы хоть сердце чуть успокоилось. Однако, видя, что придется ждать, возможно, до утра, махнул рукой и позвонил. Но она открыла ему такая приветливая, хотя и с дымкой грусти в глазах – неразлучной спутницей серьезности, что он перевел дыхание. «Зачем ты так спешил?» – с ласковым упреком спросила она и, не дожидаясь ответа, легко пробежала на кухоньку, непосредственно переходившую в крошечную прихожую, проворно присела перед газовой плитой, ловко и как-то шутливо раскрыла духовку, шутливо же отворачиваясь от жара и вооружившись специальной плоской подушечкой – вместо обычной на кухнях засаленной тряпки.
Дима смотрел на нее и не отводил взгляда. Он имел право рассматривать ее, потому что во взгляде его не было ничего, кроме ласки и нежности.
Это не важно, конечно, но все-таки удачно, что она была такая легонькая и стройненькая. А то, бывает, лицо нежное, но тяжелый подвижный таз, взгляд сам собой прилипает. Таких ему иногда становилось жалковато: они чем-то озабочены, расстроены, им не до этого, а мужской взгляд, минуя озабоченность, цепляется совсем за другое, – ему тоже не до этого, не до их огорчений. Они лишены мужского сочувствия. А Юнина фигурка нисколько не мешала дружеской сердечности, в которой, впрочем, оказались свои подводные камни, запрятанные, как камни в почках.
Юна уже с серьезным до испуга лицом поставила на плиту раскаленный противень с фирменным блюдом – тупорылым, как сом, маковым рулетом, угрюмо припавшим к черному листу. Угрюмо – но Диме не страшно, потому что рулет этот испечен для него. Рулет был золотой, со светло-коричневыми волдырями. Она испуганно отщипнула кусочек вилкой и, оттопыривая губки, чтобы не коснуться горячего, и одновременно дуя на отщипнутый кусочек, пыталась попробовать его краешками зубов. Оказалось, горячо. Она подула еще, – он смотрел из прихожей и почти с радостью заметил, что грусти в глазах у нее не было, – меньше достоинства, но больше домашности. Не как в кино.
Такова была Димина участь – его прикосновение превращало элегантное, как в кино, в обыкновенное, домашнее. Но ее домашность сейчас приближала ее к нему, поэтому он был ей рад. Пока рад.
Дима смотрел на нее, и в нем начинало рождаться чисто мужское благодушно-снисходительное чувство «баба есть баба», чувство, требующее добродушного подтрунивания, как отец подтрунивал над матерью, когда бывал в хорошем настроении. Только начинало рождаться, но все-таки начинало.
– У меня левая сторона духовки хуже печет. Мне говорили, надо положить кирпич, а куда его положить и зачем, не знаю, – объяснила она.
А Дима почти и не слушал, только смотрел на нее.
Сейчас на нее сбоку падал солнечный свет, и в нем, как пылинки, нет-нет да и вспыхивали микроскопические, заметные только в ярком световом пучке брызги, вылетающие из ее губ при разговоре, так же как у всех, что часто изображают на плакатах о гриппозных больных. В любом другом случае Дима отвел бы глаза, но сейчас он имел право смотреть, потому что не испытывал ничего, кроме умиления. Нижняя губка ее двигалась, и на ее внутреннем краешке иногда светящейся точкой вспыхивал солнечный блик, как на песчаном берегу, когда отхлынет волна.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































