Текст книги "Мудрецы и поэты"
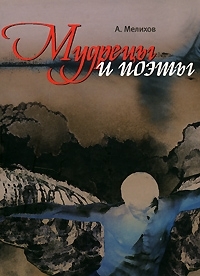
Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Они болтали. Беленко теперь принял преувеличенно галантный тон, как бы насмехаясь над своей же галантностью, и обо всех этих полузнаменитостях говорил так, словно они ему вконец осточертели и он не знает, куда от них деться. Юна, в общем, соглашалась. Зачем же тогда о них говорить?
Дима снова небрежно подсел к столу, принимая то рассеянный, то задумчивый вид, закидывал ногу на ногу, не забывая проверить, не задралась ли штанина, изредка барабанил пальцами по столу, как будто напевал что-то про себя, – и так тяжело у него было на душе – он был совсем чужой здесь. И не просто чужой – лишний. Он бы давно онемел и оцепенел от этого сознания, если бы не поддерживал в себе какую-то умственную суету, не дающую сосредоточиться, какое-то мысленное посвистывание, притоптывание ногой, барабаненье пальцами.
Они воспринимали создаваемое Димой движение просто – взглянут изредка и отвернутся, – были свободны от него. Простота – это ведь и есть свобода, непростота возникает при какой-то скованности. Юна изредка даже, с мгновенно набегающей грустно-приветливой дымкой, говорила ему что-то незначащее, как маленькому. Вспомнив холодный изучающий взгляд Юны, которым она смотрела на некрасивые уличные сцены, Дима поглядывал на Беленку, стараясь выражать во взгляде только любопытство – не заподозрят же тебя в робости перед тем, кого ты изучаешь. Все это помогало ему не сосредоточиваться, и, может быть, поэтому он первым почувствовал запах дыма.
– Прости, я тебя перебью, – с небрежной светскостью обратился он к Юне, – у тебя там, кажется, что-то горит.
Они повернулись к нему, и в первый миг, ему почудилось, на лице ее была написана терпеливая готовность еще раз уделить ему порцию гостеприимного внимания. Но во второй миг она уже воскликнула: «Рулет!» – и выбежала из комнаты. Однако в голосе ее мало было страха или огорчения, скорее что-то шутливое, и выбежала она как-то шутливо. Послышался металлический визг, лязг, запах дыма резко усилился, воздух у пола начал синеть. Расслабленной походкой Дима вышел на кухню, Беленко лениво протопал за ним. В кухне было полно дыма. Юна уже раскрыла форточку. «Закройте дверь», – сказала она. Она стояла перед плитой с раскрытой духовкой, на плите стоял противень с рулетом. Рулет был темно-коричневый с черными волдырями, рулет, испеченный для Димы, – последний якорь домашности. В нем уже не было ничего угрюмого, он лежал крошечный и беспомощный, как задушенный ребенок. У Димы как сжалось горло, так потом до конца и не отпустило, будто начиналась ангина.
– Пепел Клааса, – приговорил Беленко, и Дима вздрогнул от обиды. Он с надеждой посмотрел на Юну взглядом завзятого ябедника – всыпь ему, всыпь! – но она улыбнулась, взяла противень специальной подушечкой – и рулет покорненько юркнул в пластмассовое ведро под раковиной. «Можно же соскоблить!» – вскрикнул Дима, совсем забыв, что он свободный, и Беленко в первый раз покосился на него не без любопытства. Но Диме было плевать, он готов был заплакать от изящной легкости, с которой над загубленным рулетом был совершен похоронный обряд. «Как собаку», – что-то вроде этого мелькнуло в Диминой голове, и он горестно и безнадежно повторил: «Можно же было соскоблить». – «Что тут скоблить», – беззаботно сказала Юна – видно, рулет этот был для нее не более чем рулет – как в магазине.
Вот так, оказывается.
И все равно – зачем выбрасывать! Димина мать обязательно спасла бы, что можно съесть, а чего нельзя, съела бы сама, а остатки снесла курам.
Форточка работала, как добрый вентилятор, клубами валил прозрачный воздух, баламутя и высветляя задымление, скоро остался только привкус горечи. Вот и все. Уже все. Так все в жизни и бывает, без лишней помпы. Спасибо еще, если грядочка останется.
Между тем его, так сказать, тело продолжало непринужденную деятельность: качнувшись, взяло со стола и повертело в руках вялый огурец, напоминающий детское запястье – сверху что-то шелковистое и жиденькое, а внутри чувствуется твердое, – трогало на столе и в посуднице разные вещицы, некоторые неизвестного предназначения, на вид старинные, но всего лишь ширпотребные, только купленные в какие-то двадцатые-тридцатые годы, – странный, непохожий образ жизни, в котором люди еще тогда покупали такие вещицы, и, самое главное, вещицы эти смогли у них сохраниться по нынешний день… А что за эти годы было у его отца с матерью!.. Оттого что все это было с его родителями, Дима с гордостью почувствовал в себе недоступную Юниному окружению житейскую умудренность и закал.
Юна треугольничками, как в ресторане, нарезала хлеб – слишком тонко на Димин взгляд. Перед этим она не преминула вымыть руки, причем Беленко со своей иронической галантной болтовней увязался за ней в ванную, прося разрешения присутствовать при ее омовении, упомянув при этом Актеона и Артемиду. И на кухне он продолжал болтать, как у себя дома, вынуждая Диму к дальнейшей непринужденной деятельности, и Дима как привидение мыкался по кухне.
Наконец Юна выпроводила их в комнату, вызвав у Димы явственное подозрение, что выпроводила обоих только потому, что нельзя было выпроводить его одного. В комнате, где тоже еще чувствовался привкус рулетной гари, Беленко его по-прежнему не замечал с невероятным хладнокровием, не притворялся, а на самом деле был совершенно нечувствителен к Диминому присутствию. Несколько раз всхлипнул носом, пока не высморкался с непринужденным звуком. Дима попробовал было тоже его не замечать, но в этом отношении победа бесспорно оставалась на стороне Беленки: Дима делал усилие, чтобы не замечать, а у Беленки само не замечалось.
Дима этого не понимал, он знал, что даже в лифте незнакомые люди испытывают неловкость, отводят глаза, чувствуя необходимость как-то проявить интерес друг к другу. Он с детства усвоил, что, оставшись с человеком наедине, нужно ему что-то сказать, все равно что, – этого требует вежливость. Глупо? А не глупо в нежарком помещении снимать шляпу? И, если откровенно, Дима не понимал, как можно не постараться понравиться человеку, если за это ничего с тебя не потребуют, хотя, строго говоря, такая опасность всегда есть. Словом, Дима не выдержал нараставшей неловкости и любезно обратился к гостю:
– Хорошая в этом году осень.
Гость с недоумением взглянул на него и пожал плечами: да, мол, пожалуй, но что об этом говорить. То есть отнесся так, как того Димины слова и заслуживали, если не знать, что они – условный акт вежливости, знак уважения. Ведь именно чтобы выразить взаимное уважение, люди с большим вниманием и озабоченностью обсуждают какую-нибудь глупость (серьезное-то от всякого выслушают со вниманием): «Подожди, ты прошлый год в конце июля к нам приезжал?» – «Да, по-моему, числа двадцать третьего… или нет – двадцать седьмого». – «Двадцать седьмого? Ага, да-да, у Егора как раз…» – и т. д. Глупо? А не глупо…? Дима знал, зачем серьезно обсуждают глупости, поэтому в родне считалось, что он хоть и образованный, а не задается.
И, словно пытаясь все-таки внушить гостю это правило вежливости, а заодно – исключительно из вежливости – как бы подольститься к нему, придавая повышенное значение его заграничной поездке, чего на самом деле не было, Дима вкрадчиво произнес:
– За рубежом, вероятно, многое кажется странным… – выговаривая так тщательно, словно собирался поймать на слове, – Беленко должен понять, что имеет дело с культурным человеком.
Беленко юмористически посмотрел-посмотрел на него, – лихорадочно ищет остроумный ответ и притворяется, будто ответ этот у него уже готов, а он просто хочет сначала промариновать собеседника в юмористической атмосфере, – и с улыбочкой, как дурачку, разъяснил:
– Вам кажется странным то, к чему вы просто не привыкли, а мне и у нас достаточно многое представляется странным.
Ну умен! И смотри какой – для Димы нормально, а для него, с тех неведомых вершин, откуда он смотрит, – странно.
А ведь правда, наверно, куда как многое, для Димы нормальное и даже родное, он небось считает глупостью. Не понимает и считает глупостью.
Дима почувствовал обиду, однако в какой-то мере он просто придирался – он ведь и сам одобрял далеко не все из привычек, достаточно распространенных. Но когда что-то подобное сказал Беленко, Дима почувствовал еще нечто вроде злобной радости, что Беленкины слова вполне можно истолковать как самое возмутительное барство и, стало быть, он, Дима, может теперь не опасаться, что его неприязнь к Беленке носит мелочно-личный характер. Вместе с тем ему было и по правде обидно, он ведь и вправду угадывал в Беленкиных словах иную конкретность, чем если бы произнес их сам.
В Диме начал шевелиться подлинно боевой дух. Но он только усилил предупредительность. Как ни странно, ему, кажется, еще сильнее захотелось понравиться гостю: ведь чем больше презрения к человечеству тот выказал бы, тем больше чести было в завоевании его уважения. Хоть он про себя и ругался на Беленку, но он только себя уговаривал, – на самом деле, как человек, знакомый с физиологией, он знал, что ничто не возникает из ничего, стало быть, если человек откровенно себя уважает, значит, есть за что. Ему часто казалось, что все делается не просто так, а для чего-то, даже холостые пряжки на его плаще когда-нибудь к чему-то пристегнутся.
– Но согласитесь, – учтиво возразил Дима – очень хорошо это у него вышло: «но согласитесь», – согласитесь, что нормальным мы как раз и называем то, что наиболее часто встречается. – Он хотел рассказать, что в биологии признак считается нормальным, если им обладают девяносто пять процентов особей, но осекся, ему пришло в голову: почему в таком случае сам он считает недостойными мелочами то, что интересует почти всех, тогда как, даже с медицинской точки зрения, следовало бы, наоборот, считать мелочами то, что не интересует почти никого? Это же получается – вся рота идет не в ногу, один старшина в ногу идет.
Такой поворот дела затрагивал и самого Диму, но острие было обращено против Беленки, поэтому Дима сейчас готов был взять под защиту и водку, и футбол, только бы обрушить на незваного гостя побольше человеческой массы, погрузить его в людской океан, не раздавить, так хоть помять его, прочного как батискаф. И притом Беленко увидит, что Дима далеко не дурак.
Дима почувствовал прилив оживления и даже раскрыл рот, но Беленко уже отвернулся от него и крикнул уже как бы по-мужицки:
– Юнетта, ты скоро там? У меня с похмелья в животе черт-те что деется! – Всем надо знать, что у него в животе, и стоит он, как Дима сроду бы не встал – руки в брюки, так что вязаная кофта сползла, обрисовывая сверху оттопыренный зад, – и без малейшего почтения разглядывает те самые Юнины книги. Одет он так себе, и фигура у него хуже Диминой, – у Димы вообще хорошая фигура, крепышеват только немного чересчур, – но ведь это как себя поставишь: у других, смотришь, жирная обвислость – шикарна, другим задастость только прибавляет энергичности, вышагивают себе в своих джинсовых парах…
Тут Дима понял, почему Беленко и выражается, и стоит так нарочно неизящно: чтобы еще лучше почувствовать, насколько все остальное у него в порядке. Есть такие крепкие мужики, лет поменьше сорока: выходит на крыльцо в безобразно спущенных штанах, безобразно вывалив пузо, развесив губы, щеки, запухший со сна, и от него подымается несвежий пар, а вы смотрите на него и проникайтесь, и он через вас будет проникаться, что у него в хозяйстве последняя досточка – и та обстругана и покрыта голубенькой краской, ставшей ему ни в грош, коровы и свиньи наливаются дорогостоящими соками на дармовом корму да еще полный курятник дачников. Тем вкуснее скрести под обвислой майкой дряблеющую грудь, как бы от блох, и, отхаркиваясь, сипеть: «Опохмелиться бы надо!»
– Потерпи немного, – заглянула и улыбнулась Юна, чуть раскрасневшаяся. Как в кино – и патриархальная сердечность, да только не для него. И никак Дима не мог промолчать – оставить их вдвоем.
– У нас в общежитии бытовало шуточное выражение, – начал он, старательно подбирая слова, – хорошая выпивка – это такая, когда закусить удается только после… – он хотел сказать «после стипендии», но усомнился, не чересчур ли это официально, и решил сказать «степухи», но это было слишком развязно, поэтому он натянутой улыбкой и вульгарным движением пальцев изобразил получение денег.
Словом, позор.
Юна вежливо улыбнулась, кивнула и скрылась, а Беленко и головы не повернул. «Поспешай, Юнетточка, мочи нет», – умоляюще пророкотал, и снова с непостижимым хладнокровием давай пялиться в книги, да еще покачиваться с пятки на носок.
А Дима покосился-покосился на него и почти бесповоротно убедился, что предел привлекавшей его свободы – полное безразличие к людям. Свобода от людского мнения… Да ведь обыкновенная совесть – это чужое мнение, чужой наблюдающий глаз, который носишь в себе, вросший в тебя глаз тех, кто тебя приучил к этой совести: глаз отца с матерью, Евдокии Захаровны, Витьки Чепика, и кого там только нет, а в них еще кто-то, а в тех еще – целый кряж наслоений. Совесть – несвобода от их мнений, иначе ты был бы для себя всякий хорош. Посмотри, как Беленкина безразличная свобода отличается от уверенного спокойствия хорошего человека, знающего, что чужой глаз не увидит в нем больше плохого, чем видит свой, – с него не потребуют больше, чем он сам собирается дать.
Ведь что, главное, его влекло к свободе: добродетель, которая находит удовлетворение в самой себе, которой безразлично, одобряют или порицают ее люди. Умопомрачительная чушь! Все хорошее только потому и считается хорошим, что его одобряют люди. По крайней мере, какая-то значительная их часть.
Работа на публику… Так и хорошо, что человек работает на публику, то есть на нас, а не на себя одного. Он, Дима, кривил рожу, когда видел в ком-то желание нравиться, – да ведь если бы мы не хотели друг другу нравиться, то были бы свиньи и больше ничего! Вон, полюбуйся – экземпляр, никому не желает нравиться…
И Дима представился себе – читал что-то такое – каким-то кустистым растением, напитавшимся и вросшим своими симпатиями в громадный, веками наслоившийся людской кряж, в котором он был своим, а потом, как тот дубовый листок, оторвался, и теперь всякая дребедень может протащить его в свою сторону, – так ему хочется снова за что-то зацепиться. Не свободным он хочет быть, а своим. Потому его и привлекали свободные, что он не представлял свободы без принадлежности какому-то кряжу, укладу, – он смотрел на свободных, как бездомный в освещенное окошко. Только такая принадлежность может дать человеку спокойную уверенность, – вот не робеет же он перед иностранцами – чувствует свою принадлежность к другому укладу. Ты думаешь, уверенность тебе дают твои личные достоинства? – шиш! Ты бы и не знал, что они достоинства, если бы они не считались таковыми в твоем кряже. Не знал бы даже, какой нос красивее – римский или пензенский.
Хотелось бы знать: а каким «свойством» питается Беленко? – и он оглянулся на Беленку, склонившегося к книгам и чего-то в них высматривавшего, уставив в Диму обтянутый зад. А наверняка во что-то врос. В какой-нибудь пятачок, может даже семейный, где он пуп пятачка, – а врос. Так врос, что совершенно неспособен увидеть что-то хорошее в чужом. Сам Дима похож на перекати-поле, а Беленко – на пень. Самодовольные индюки ведь тоже питаются какой-то корневой системой, мощной, как канализационная сеть… Или индюки, хоть и птица довольно бескрылая, способны висеть, как солнце, ни на что не опираясь, поскольку их ничто не влечет к себе силой, сколько-нибудь заметной в сравнении с их массой – самомнением? То-то его к ним иногда тянуло – растения тянутся к солнцу. Какая-то их свобода заманивала, как взгляд анаконды, хотя для него нет ничего отвратительнее индюков, – да ведь и кролики, наверно, недолюбливают удавов. А индюки-то – мелочны. Оттого они и индюки, что придают повышенное значение каким-то мелким своим достоинствам.
Отца Диминого такой Беленко сроду бы не смутил, отец взял бы и обматерил его. Со стороны – вроде бы не за что, да отцу достаточно, чтобы он знал, за что, – потому что никогда не переставал быть своим. Хотя он любил вспоминать со смехом, как мать когда-то в ресторане стала собирать недоеденный хлеб со стола, и добавлял при этом сочувственно: «Темная деревенская женщина!», но смеялся просто так, вовсе не угодливо по отношению к официантам или соседям по столу. Он платит – он и хозяин.
Мать, правда, легко унижалась перед любым начальством – перед официантами, бригадирами, вахтерами, горлопанами, – Дима еще орал, дурак, на нее. Чуть что – уже натянула готовенькую жалобную масочку, и голосок такой покорненький: вы уж, мол, сделайте такое ваше одолжение, явите божескую милость. Но это была именно маска – военная маскировка – метод борьбы, а настоящего раболепия – любви – у нее к ним не было. Сделала свое дело, отряхнулась и пошла, как ни в чем не бывало.
Она, наверно, считает, что нельзя оказаться униженным, если ты добился своего у несвоего. И тоже, наверно, потому, что не переставая чувствует себя своей, подпитывается корнями из своего кряжа.
Со своими, кстати, она довольно обидчива.
А пока Дима сообразил, чем ему заняться – пойти на балкон покурить. Он с утра не курил, чтобы не было запаха в этот решительный вечер – такие решительные вечера он, кстати, уже назначал себе раза два, – и даже забыл о куреве, а сейчас, как стало можно и почти что нужно, сильно захотелось, – чудное занятие для рук. Вежливость требовала, когда выходишь, сказать остающимся в комнате, куда ты собрался: пойду, мол, покурю или, там, в баню решил сходить, а им полагалось ответить что-нибудь в том же духе: давай, мол, кури. Беленке этого говорить, конечно, не следовало, но ничего не сказать было выше Диминых сил, поэтому он пробормотал себе под нос: «Пойду покурю», – будто разговаривал сам с собой. Ну и плевать!
Солнце еще пригревало, и он не без удивления подумал, что это же самое солнце припекало его в телефонной будке – и было это всего лишь сегодня. Под балконом желтел простенький осенний газончик, обведенный зубчиками беленых кирпичей, – как-то не очень он шел Юниному дому. Было совсем не высоко, запросто можно спрыгнуть, особенно если повиснуть на руках. Потолки низкие, в старом доме не больно бы спрыгнул. Он машинально сплюнул через перила – с высоты почему-то всегда хочется плевать – посмотреть, что ли, сколько будет лететь плевок, – и когда он осознал, что плюет с Юниного балкона, он обмер и не сразу решился оглядеться по сторонам. Юны, слава богу, в комнате не было. Но второй ошибки он уже не совершил, а спрятал окурок обратно в пачку.
Через открытую балконную дверь он увидел, что Юна с патриархальным жизнерадостным проворством почти накрыла стол – все уложено и нарезано, как в кино, – и что-то горячо – она – и горячо! – доказывает Беленке, а тот скептически хмыкает. Увидев, что он на них смотрит, она – какая умница все-таки – ласково обратилась к нему, но как к маленькому: «Ты, Дима, сам врач, а так часто куришь». – «Да все как-то, – непринужденно ответил Дима осипшим от внезапности голосом, – не могу отвыкнуть от этой…» – он хотел сказать «привычки», но подумал, что получится нехорошо – «отвыкнуть от привычки», и притворился, что не договорил от свободы, перебил себя новой мыслью: «Это детали, не в этом суть. Знаешь, зачем мясо коптят? Чтоб дольше не портилось». Отцовская шутка, и, кажется, чересчур колхозная. Он почти испуганно покосился на Беленку, тот ноль эмоций, конечно, а Юна вежливо улыбнулась, будто шутка была очевидной оплошностью, и отвернулась, сочтя долг гостеприимства исполненным. И Дима опустил глаза, чтобы скрыть их нехороший прищур.
«Чего я перед ними выламываюсь!» – от злости твердея духом, подумал он, сам еще не замечая своего «перед ними». Чего он набивается им в свои, и добивается их оружием – подражая им – их словам, их жестам, их костюмам, – он должен держаться как полномочный представитель. И он от души пожалел, что на нем не гимнастерка и кирзачи, а их подражательный, клоунский костюм с мечом Спартака на шее. Ведь есть же у него свои, которые так его встречают, что ему становится совестно, что мало их вспоминал. Дорого бы, кажется, сейчас дал, чтобы очутиться с ними.
– Ты будешь яйцо под майонезом? – тем временем спрашивала Юна у Беленки, и тот обезоруженно разводил руками:
– Юночка, съем все и вся! Ведь из твоих рук станут есть даже львы.
Она и улыбнулась, как на шутку, и ответила вроде бы шутливо:
– Да, из моих рук ел даже Лев Борисович, – но задержала на нем такой взгляд, будто понято больше, чем сказано. Да, да, тот самый взгляд. Тот самый, от которого Дима убеждался, что все всегда у него будет хорошо.
Взгляд этот попытался отозваться новой болью на болевом фоне, но Дима посчитал ниже своего достоинства его замечать. С самого начала Беленко особенно подавлял его бесстрашной свободой, с которой обращался с Юной, трогал ее даже за плечо – «по-товарищески», но Дима не верил в такие «по-товарищески». Словом, Беленко держался так, будто он если и не спит с ней, то лишь потому, что все как-то руки не доходят, и она не слишком уверенно отрицала это. Но замечать все это тоже было ниже Диминого достоинства и вообще слишком неприятно. Однако на лице его наметилась твердая усмешка, с которой он приготовился вынести все последующее.
Дима тяжелой походкой подошел к столу, громоздко сел, с твердой иронией выпил жгучего жидкого мыла – ликера из розовых надежд, не принял участия в обсуждении его достоинств, – они прислушались и нашли, что ничего, – а, загребистым движением подтащив к себе тарелку, шлепнул туда салата и принялся сурово есть, навалившись локтями на стол. Ел он тяжело и медленнее, чем хотелось, но рот открывал ни миллиметром шире, чем это было абсолютно необходимо. Беленко заметно причавкивал, но Дима не решался раздражаться: он не был уверен, что сам ест вполне беззвучно. Нож, к счастью, не требовался. Он не желал демонстрировать дурные манеры там, где не было ясно, что он это делает нарочно. Беленко же орудовал ножом с непринужденностью заслуженного хирурга. Так вот оно – искусство, за которое они ставят себя выше всех!
Так и пошло. Допили ликер, невозможно шибающий парикмахерской, и Дима тут же ухватисто откупорил коньяк, наполнил туманные оплавленные стопочки. Юна только пригубила, Беленко тоже – с похмелья у него душа не принимала. Дима дружески обратился к нему:
– Эту надо сделать. Что ты по-стариковски мусолишь. Кидай ее туда. Вон бутерброд, колбасы возьми, помидорку. – Беленко величественно взглянул на него туманным взором, но Дима ноль эмоций – налил себе еще одну. На Юну он не смотрел. – Ну, за все хорошее, – пробормотал, будто сам с собой, и хлопнул. Закусил не сразу, а сначала рассеянно поковырялся в тарелке. Чуть пожевал. Посидел.
Как туман от реки начал подыматься первый хмель. «Теперь надо кайф ловить», – подумал для них, хотя мыслей его они знать не могли, – здесь он, очевидно, переоткрыл для себя известную ему лишь понаслышке систему Станиславского, требующую переживания, а не голого изображения. Сейчас он не мог заметить, что его начинало заносить в какую-то приблатненность, как несколько часов назад с непринужденности заносило в начальственность, и довольно заурядную, а не утонченную, как в кино, где начальник мог оказаться и журналистом, и писателем, и ученым – и артист бы его играл тот же самый, с тем же племенным благородством лица и костюма.
Хмель делал свое дело: уже сузился круг зрения и слуха – вещи в комнате уже не охватывались широким общим взглядом, а виделись с чрезмерной отчетливостью только те, на которые специально смотришь, а отдельные звуки с повышенной резкостью выделялись на неразличимом фоне. Когда он, тщательно примерившись, наливал себе новую стопку, в движениях его чувствовалась расчетливость. И не удержался, покосился на Юну – должна же она видеть, что с ним что-то не то, для этого он, может, и начал свои штуки.
Сейчас ей было очень легко все поправить, не проявляя даже больше внимания, чем это обычно для хозяйки дома: пошутить, что он взял слишком быстрый темп, предложить ему побольше закусывать, – это было бы вполне нормально, а он бы все понял. Ничего ему больше не надо, чтобы только у нее было желание и право запрещать ему что-нибудь вроде выпивки. Вот он и покосился.
Профиль ее, страшно близкий, заслоняющий весь мир, был до того убийственно прекрасен, что Дима чуть не застонал. Она «не замечала» его финтов ушами, а с повышенным вниманием слушала рассказ Беленки о его соседях по даче. И Дима стал слышать только Беленку. Тот рассказывал о соседях, наверняка совершенно нормальных людях, словно о папуасах с острова Новая Гвинея. И чувствовал себя, как Стэнли, вернувшийся из дебрей тропической Африки. Мало того что герой, стократно рисковавший жизнью, но он еще и обладатель ценнейшего научного материала, пригодного для глубоких социальных обобщений, да еще и мыслитель-скептик, пригодный для глубоких социальных обобщений. Может, и есть тут почва для обобщений, да не тебе их делать. А Юна серьезно и грустно кивала. Дима опрокинул еще пару стопок, все еще надеясь, что она остановит его, обнаружит какой-то интерес к нему.
Теперь Беленко рассказывал, как один из его соседей, «задубелый, хоть гвозди из него делай», учил неверную жену. Рассказывал будто о былинных богатырях – раззудись, мол, плечо – и на каком-то дурацком славянском языке – но, зараза, с умненькой усмешечкой, в которой была и ироническая грусть о том, что мы, изъеденные рефлексией интеллигенты, уже неспособны на столь свежие чувства, и насмешка над тем, кто все это стал бы говорить всерьез, и над славянским языком, и вообще над всякой конкретной позицией, из которой, вам могло показаться, он вел повествование, – что-то в таком роде, ну, может, не так густо:
– …Довольствуясь пищей и напитками, сильной и тучной сделалась, а паче всего плотских похотей стремлениям вельми подвержена. А супружник ейный зело уважал токмо зеленого змия, особливо ежели за чужой счет, и из соседнего кружала его многажды и бесчестно вон выводили. Ото всего от этого знатная недостача в его супружеских деяниях учинилась. Вот она по долговремении и спозналася с другим. Одначе, боясь бесславия и от мужней родни попреков и побоев, но возымев превеликую похоть, умыслила для сего в потаенном…
Вот к чему только у него не видно насмешки – к тому, что он исключительно и разносторонне блестящий собеседник. И Юна, из-за которой Дима как огня боялся всякой двусмысленности, слушает этого кривляку с восхищением – это верно, многие пробуют так говорить, только не выходит, – и как будто удерживается, чтобы не проверить, достаточно ли Дима оглушен и ослеплен этой сверкающей лавиной стилизованного саркастического красноречия. Ей-богу, во взгляде ее появилось напряжение, словно ей стоит усилий удерживать взгляд на Беленке, а не покоситься на Диму. Он засмотрелся на ее напряженный глаз.
Еще стопка – уже совсем не противно, а водку, как известно, следует пить лишь до тех пор, пока она противная. Тут, правда, не водка, а коньяк, но, как раньше говорили, лучший коньяк – это «московская». Дима так сосредоточился, чтобы правильно налить и правильно выпить, не морщась, что почти забыл о своих огорчениях.
– …Ему не без сомнительства было, должно ли ее в смертные челюсти повергнуть, поелику поступки он всегда оказывал незлобивые и беззазорные. Однако рассудил, что было б законам не противно, для избежания непозволительных плотских смешений, учинить злодеям достойное воздаяние… И явил им в окошко лик свой, вельми волосми поросший, и усмешкою оказывал свое удовольствие.
Голос Беленки то глухо барабанил, как дождь по крыше, то заполнял весь мир: «…Как с привязу спущенная собака, сей образы ближнего повредитель опровергнул на пол…» Он, кстати, тоже не чурался иногда поизображать в лицах, но, холера, ухитрялся и это подавать как дополнительную насмешку над кем-то.
Еще стопка с медлительными ухватками горького пьяницы. Угол зрения еще уже: смотришь на свои руки и видишь один ноготь. И еще удивляешься, до чего он большущий. Вдруг оказалось, что ему давно уже жарко, и его терзает потный воротничок под галстуком. Нужно поминутно засовывать под него пальцы и по возможности оттягивать от шеи, что он давно уже и проделывал.
– …Видя, что сию драку вредную ничем утушить не можно, аз многогрешный…
Что-то слова эти Диме напоминали, никак только не вспомнить, и он, припоминая, засмотрелся на Беленку. Сам Дима этого пока не замечал, но от его взгляда Беленкин голос зазвучал принужденнее:
– …в умеренные пределы включить должно… поспешествовал… на свет божий…
– Козьма Прутков! – радостно воскликнул Дима, обращаясь к Беленке, поскольку взгляд его давно был туда устремлен.
– Что «Козьма Прутков»? – спросил Беленко с заметной враждебностью – ага, заставил-таки относиться к себе серьезно. Да он, кажется, еще и трусит? Точно! Дима засмеялся – совершенно непритворным свободным смехом:
– Ну! У Козьмы Пруткова тоже это есть… Аки-паки.
Беленко пожал плечами с осторожной презрительностью и отвернулся – смолчал. А Дима не поверил бы, что можно смолчать, не струсив. И когда Дима понял, что Беленко боится, ему стало легко и свободно. Он опрокинул еще стопку, совсем беззаботно. На дне еще оставалось раза на два, но дыхание было уже пьяное, обжигающее глотку. Неплохо бы допить из их рюмок – удивились бы небось.
Беленко говорил теперь вполголоса – не решался больше горлопанить – и всерьез, только ей, тоном человека, утратившего иллюзии. Так сказать, сбросил маску фигляра, прикрывающую чувствительную душу. Пошлость на пошлости сидит и пошлостью погоняет. И иллюзии, и их утрату где-то вычитал, слизал с кого-нибудь, – хоть и свободный, а слизал! – на самом же деле он имел и имеет одну иллюзию – что он пуп земли.
Плохо только, что Юна слушает его чересчур вдумчиво, будто там что-то такое и вправду есть. Очень просто: она такая чистая, наивная от чистоты – что она видела! – с обманчивой хмельной ясностью думал Дима, переставая от этой ясности видеть Юну и слышать Беленку, – конечно, она верит Беленке и про гущу народной жизни, и про все. Интерес к этому ее положительно характеризует. Но уж что касается гущи народной жизни, то у Димы достаточно возможностей показать, что Беленко в сравнении с ним – ни шиша не нюхавший комнатный щенок. Напрасно Дима, по глупости, свойственной его прежней жизни, ничего такого ей раньше не рассказывал – боялся, дурак, что это, так сказать, недостойно ее ушей и обнажает его гусиную сущность. И Беленко пусть тоже увидит. Когда Дима понял, что Беленко его побаивается, он почувствовал к нему чуть ли не расположение, хотелось уже объясниться, что ли, и рассеять недоразумение. И вот он внезапно заговорил.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































