Текст книги "Мудрецы и поэты"
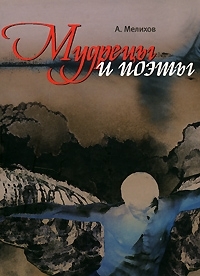
Автор книги: Александр Мелихов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Дима повесил плащ и, опершись сквозь него на стену, сделал вид, что хочет развязать шнурок на туфле. Он сомневался, не мещанство ли разуваться в гостях и не хамство ли переть прямиком, поэтому он делал вид, что хочет разуться, а она всегда спешила удержать его. Но на этот раз она почему-то замешкалась, он нагнулся ниже обычного, как-то неловко навалился на плащ, и у плаща оборвалась вешалка. Стукнул о линолеум карман с коньяком, слава богу, не разбился.
Она, как будто не замечая бутылки, которую он вынул из кармана, преувеличенно обеспокоилась вешалкой, заторопилась: сейчас, сейчас, я пришью. Надо было, наверно, отказаться хоть для вида, но очень уж ему хотелось, чтобы она что-то для него поделала.
Она проворно достала пластмассовую коробку с нитками – все-то у нее в коробочках – и вот уже сидит на диване, склонившись к его плащу, – невыносимой чистоты и отглаженности узорчатый – гипюровый? – воротничок, умненькое сосредоточенное лицо, опущенные темные ресницы, темные брови огибают их просто, достойно и красиво, в темных волосах короткий умненький пробор, а от него молодой, но серьезный завиток к виску. Как в кино и притом без всякой косметики (здесь Дима заблуждался, ему знакомы были лишь самые откровенные возможности косметики – древнего искусства украшать). Изящный, как она сама, носик с горбинкой, – ему обычно больше нравились курносенькие, но по-настоящему значительным, достойным может быть только лицо с прямым носом, а еще лучше – с горбинкой. Он обрадованно удостоверился, что Юнин носик вполне можно назвать точеным, в книжках часто встречается точеный носик, – вот теперь и у него есть не хуже.
Впрочем, он в последнее время много раз убеждался, что практически любое лицо, серьезное и освобожденное от мелочности, будет значительным. Подгримировывая лица новым выражением, он пытался угадать, каковы они были бы при другом воспитании, – и, в общем, все были хороши, даже недостатки могли бы приобрести своеобразную прелесть: этому пошла бы трезвая ироничность, этому умная сила, этому одухотворенность, чего сейчас и в помине нет – из-за каких-то миллиметровых сдвигов лицевых мускулов. Вот девушка – грубовата, брови сдвинуты как-то чересчур прямолинейно, темный пробор в желтых волосах, а даже сейчас взгляд взволнованно-испытующий, – очень хорошее могло бы быть лицо, с чуткой мимикой.
А кое-кого, наоборот, разгримировывал, и тоже всегда успешно, хотя бы и самое интеллигентное лицо. Ну, высокий лоб с волнистой прядью, тонкий нос, очки – интеллигентно до карикатурности, – а ну-ка, взлохматим его или подстрижем под полубокс, с чубчиком, очки снимем, наденем ватник, рот приоткроем или обескураженно опустим углы губ – и готово. Или сожмем губы в злой, бесцельной решимости, напоследок пройдемся небритостью – прямо уголовный тип: длинное скуластое лицо, тяжелая челюсть. А ну, дотронемся еще алкогольной сизостью… Или нет – все уберем, гладко зачешем волосы назад, надуем вельможностью – как можно было с самого начала не заметить, сколько в нем тупости.
В этого рода косметике Дима был неистощим, но с Юниной внешностью таких экспериментов он, разумеется, не проделывал.
Чтобы стало совсем как в кино, Дима включил магнитофон, испытывая удовольствие от небрежной ловкости, с которой он управлялся с этим элегантным аппаратом. Сквозь легкую шикарно-магнитофонную гнусавость раздались нарастающие мелодичные удары чего-то электрического, к ним присоединялись новые с уверенным и вместе спотыкающимся ритмом – кажется, это называется «синкопы», – и вот уже нежный жалобный женский голос молит: сэйв ми, сэйв ми, – это Дима понимал. Ничего неопрятного, звук, интонация – все очищенно и красочно, как в кино, и ритм непринужденный – можно даже небрежно притопывать ногой или прищелкивать пальцами, – а настоящая живая мольба, настоящая женская любящая грусть; и Диме хотелось закрыть глаза, чтобы ничто уже не мешало брать, брать прямиком в душу этот покинутый голос, без никакой-никакой неопрятности умолявший его: спаси, спаси меня, – и при открытых глазах уже отпадало одно за другим, уже мало оставалось вне этого голоса. Впрочем, может, она пела и что-то другое – Дима вообще-то слабо разбирался в английском, да и то только по написанному.
Но поскольку у свободных музыка должна служить только фоном, Дима, сделав усилие, заговорил, как бы машинально – непринужденно – выбивая такт пальцами по столу, на котором возвышалась бутылка коньяка, и покачивая носком шикарно громоздкой туфли. Ему хотелось рассказать про больного в гипогликемическом шоке, с которым он отличился на последнем дежурстве. И действовал решительно: разбудил Чугункову, которая хотела спать и поэтому считала, что без нее можно вполне обойтись, мобилизовал больных, которые тоже сначала ворчали, что к ним кладут этого психа – он сам сперва заподозрил, что тот придуривается. Там решал не он – решала должность, и на все был готов ответ: а если умрет?
Однако в рассказе пришлось бы обходить довольно много неприличных мест – в какой-то, к примеру, момент дело уперлось в то, чтобы заставить больного помочиться, – поэтому Дима стал рассказывать о последнем профсоюзном собрании. У Димы не было врачебной свободы в разговорах о неприличных предметах. Он мог еще понять больных, у которых так наболело, что они позабыли, что прилично, а что неприлично, но не мог, например, понять тех, кто открыто носит по городу гирлянды туалетной бумаги, – неужели они до того истерзались без этой бумаги?
– Вдруг берет слово Кольцов, – рассказывал Дима, рассказывал оживленно, но, как подобает свободному, иронически, будто посторонний. – Берет слово Кольцов, и пошел, и пошел.
– Все про свое? – спросила Юна, не без интереса спросила.
– Ну! – возбужденно подтвердил Дима. – Но тут встает Рубинов и спрашивает: «Кто имеет право выступать на этом собрании?». Оказывается, Кольцов вообще не имел права выступать и все-таки влез. А Рубинов встает и спрашивает: «Кто имеет право здесь выступать?».
Дима уже увлекся, забыл, что надо рассказывать как посторонний, он уже чувствовал себя Рубиновым, загнавшим Кольцова в угол. Он знал, что это смешно – рассказывать с такой заинтересованностью да еще в лицах, но, увлекаясь, часто выдавал свою гусиную сущность. Он загнал Кольцова в угол, но подлец Кольцов этак великолепно отмахнулся: не беспокойтесь, доктор Рубинов, вы имеете право, – а все, дураки, захохотали.
– Ты ведь знаешь, на собраниях все от скуки только и ждут, чтобы захохотать.
Она улыбается, но сквозь почти исчезнувшую дымку печали начинает светиться чистое умненькое негодование:
– Почему вы его терпите?
– Ого, это мы ему спасибо должны сказать, что он нас терпит, – засмеялся Дима, любуясь ею, но не забывая выбивать пальцами ритм и покачивать туфлей.
Все это было как в кино: музыка, обстановка, девушка. И все так по-домашнему – как у его отца с матерью: он рассказывает, она пришивает ему вешалку. Вешалка – это почти подштанники. Вот, оказывается, что такое свобода: снаружи как в кино, а внутри – подштанники.
Женщина на пленке умолкла, остался элегантный, четкий, уверенно сбивчивый электрический перестук. Юна прислушалась и в такт ему наметила несколько современных танцевальных движений головой и бровями. Хотя она сделала это как бы в шутку, Дима все-таки опустил глаза. Ей это не подобало, это из другой свободы, поэтому он отправил происшествие в небытие, то есть превратил в никогда не происходившее.
Юна кончила шить, полюбовалась, не перекусила, а перерезала нитку специальной бритвочкой, все уложила в коробку, поставила на место. В глазах ее снова утвердилась печальная дымка достоинства, и Дима умственно засуетился при виде ускользающей домашности.
– Как там твой рулет? – с просящей непринужденностью спросил он, пытаясь ухватить домашность за хвост, но дымка достоинства не исчезла, с ней Юна и прошла на кухню. Что произошло, Дима не понял. Может быть, ей тоже не понравилась фамильярность ее намеков на танцевальные па. А может, помилуй бог, заметила, как он опустил глаза?
Чтобы зарядиться непринужденностью, Дима с небрежной элегантностью пощелкал переключателями магнитофона, перемотал пленку обратно и выключил. Стало свободнее.
С кухни доносились железные взвизгивания и лязг противня. Дима встал и начал разглядывать ее книжные полки. На одной стояла маленькая статуэтка – какой-то очень архаичный Аполлон Тенейский, которого Юне подарил знакомый скульптор, талантливый парень, но с какими-то загибами. У нее было столько талантливых знакомых, что Димино сердце сжималось, как от дурного предчувствия.
Дима всматривался в Аполлона, словно пытаясь понять, большую ли опасность тот представляет. Гладкий дебелый Аполлон стоял, по-солдатски расправив плечи, с буклями, как у Ньютона, с улыбочкой идиота, замыслившего всех обвести вокруг пальца.
Полкой ниже стояла под стеклом большая фотография ее отца, – магнитофон, как, впрочем, и вся квартира, был его подарком. Дима с почтением всмотрелся в его лицо, исполненное заслуженного благополучия и порядочности, и сердце его снова сжалось, будто от предчувствия, что не так-то просто будет войти в этот мир благоустроенного достоинства. Дима так засмотрелся, что некоторое время они с фотографией оставались вдвоем в целом мире.
С трудом разорвав оцепенение, Дима стал перебирать книги. Вот целая полка маленьких поэтических сборничков в бумажных обложках. Имена все незнакомые – из современных поэтов он знал только Евтушенко и Рождественского, – много женских, он и не подозревал, что на свете так много женщин-поэтов. Обычно от вида стихов его тело без остатка наливалось скукой, от которой цепенели все чувства. Еще на школьных вечерах художественной самодеятельности он, вместе с остальным спортзалом публики, пережидал стихи и песни как неизбежную неприятность, которую необходимо перетерпеть, чтобы добраться до венца художественной части – спектакля. И когда наконец на сцене начинали ходить и разговаривать, как в жизни, по залу проносился вздох радости: «Пьесса! Пьесса!». Однако Юнины сборники он брал и пролистывал не без трепета. Они тоже были из области недоступного.
Потом шли подписные издания: Бальзак, Гюго, Мопассан. Лет двадцать назад Сенька Кирпичонок показывал Диме трепаную книжку, оглядываясь и всхохатывая: видал, блин, – Мопассан, «Жизнь». От возбуждения и конспирации голос его походил даже не на шипение, а на необыкновенно осипший свист: шшиссень, плин. Он ухмылялся с торжеством и презрением, нетерпеливо переступал, озирался, тыкая пальцем в раскрытую книжку, заглядывал Диме в глаза, пытаясь понять, где Дима читает, и торжествующе всхохатывал на ударных местах, на которых Дима предположительно находился: острая боль пронзила ее, блин, между тем как он грубо обладал ею, блин. Упивался – пллин – и всхохатывал так, словно он наконец кого-то вывел на чистую воду. Потом он похвастался, что у него есть еще страница из «Тихого Дона» – одни матюги – и отправился хвастаться дальше. С тех пор в слове «Мопассан» Диме чудилось что-то непристойное. Произнося его в общественном месте, он невольно понизил бы голос. Ему и в библиотеке неловко было спрашивать Мопассана, все равно что какую-нибудь «Гигиену половой жизни», а у Юны Мопассан открыто стоял на полке как свидетельство ее благородной свободы, непостижимо сочетающей чистоту и Мопассана, вселяя в Диму сразу и надежду и безнадежность. Вошла Юна, по-прежнему приветливая, но с бесповоротно утвердившейся дымкой печали. Дима поспешно отступил от Мопассана, чтобы она не заподозрила, что он тут потихоньку собирался его почитать, и с жалобной бодростью спросил:
– Ну как фирменное блюдо, не перепеклось? – он цеплялся за рулет, как за якорь домашности. Она не успела ответить – раздался звонок, мелодичный, как маленькие куранты. Дима дернулся было открывать – не даме же идти, но остановился – не у себя же дома.
Юна вышла, щелкнул замок, и тут же раздался ее обрадованный возглас. Дима насторожился: из прихожей доносился мужской голос, не обремененный заботами – с рокотаниями, потом ее оживленные вопросы – так оживленно она никогда с ним не говорила, всегда чувствовалась грустная дымка достоинства, – ой, не к добру это!
– Так ты прямо из Болгарии? Нет? А давно? Хорошо в Болгарии?
– Ничего, Болгария как Болгария.
– Хороша страна Болгария, а Россия…
– Совершенно верно, лучше всех. Я уже этим проникся: побывал на даче, окунулся в гущу народной жизни. Провернул, к слову сказать, ряд мероприятий.
– С неизменным успехом?
– С неизменным успехом. Халтурщики офигенные.
– Так тебе и надо, пользуйся услугами государственных предприятий! Ой, а это что?
– Сувенир, – словно ему самому забавно, что сувенир, – ликер из роз.
– Здорово! Он прямо из розовых лепестков?
– Из розовых надежд. Самых розовых и притом без шипов.
Вопросы сыпались радостные, даже тормошащие, чего с ее стороны он и представить себе не мог. И после каждого его ответа она смеялась – обрадованно? облегченно? – нет, как-то не совсем то. У Димы в лице – он сам почувствовал – стали проступать черты покорности.
Вошли, – она, веселая и прекрасная, держала в руке граненый флакон с розовой жидкостью, вроде как от чернил для авторучки, но намного больше да еще с металлической навинчивающейся пробкой на узком горлышке – до того нехорошо сделалось у Димы на душе, – гость тоже в целом веселый, но несколько и недоумевающий, как бы с юмором поглядывающий на свою веселость. Вид его подтвердил, что он человек свободный – не придающий значения множеству мелочей. Он мог бы почесться красивым, только как-то бедно деталями было его лицо – как у какой-то статуи. Мимоходом взглянув на Диму, он с юмористической утомленностью продолжал отвечать на ее вопросы о каких-то общих знакомых, со смаком рафинированного интеллигента вворачивая жаргонные обороты. Карамышев совсем зашизовал; Лапкин? – что ему сделается – цветет и пахнет, мы с ним в кино как-то бухнулись рядышком, да, до Болгарии, до того (он произносил не «да таво», а именно «до того»). При виде Димы он не перестал рокотать, значит, исключал в Диме возможность чего-то серьезного. Самому Диме случалось рокотнуть разок-другой, но лишь в многократно проверенном обществе, заезжая, например, к родне, а рокотать в присутствии незнакомого он ни за что бы не посмел: может, окажется, что ты ему в подметки не годишься, а ты перед ним рокотал.
Юна, продолжая болтать, – она – и болтать! – поставила флакон на стол рядом с коньяком, долговязая ширпотребовская фигура которого выглядела уныло и провинциально. Юна тоже взглянула на коньяк и перевела взгляд на Диму. Встретившись глазами, оба они на миг опустили их, а в следующий миг на ее лицо вернулась печальная дымка достоинства, и с ноткой грусти она прервала гостя: знакомьтесь – Дима, мой хороший знакомый, а это… Гость рокотнул что-то непонятное про какую-то Ленку (не его же Ленкой зовут?). Дима с открытой улыбкой, прикрывающей его озабоченность множеством мелочей, а сейчас – и тяжелое предчувствие, протянул ему руку, но гость (Ленка?) уже отвернулся, и Дима, чтобы поскорее занять повисшую руку, взял со стола ликер – ох, не показалось Диме, что он без шипов, вот что из розовых надежд – это да, – и стал разглядывать этикетку. Но поскольку он взял бутылку с единственной целью поскорее занять повисшую руку, то и прочитать ничего не смог несмотря на русский шрифт. Его маневр остался незамеченным, – правда, такой открытый интерес к бутылке – тоже не очень хорошо, но они были заняты оживленной болтовней.
Юна все спрашивала о каких-то незнакомых знакомых и сама бегло пересказывала Ленке (?) что-то о других знакомых, про которых тот не спрашивал, – от обилия незнакомых имен у Димы еще тягостнее заныло сердце. К некоторому его облегчению, она довольствовалась краткими справками, которые Ленка давал, с утомленным юмором приподымая брови и для пущего остроумия прибегая к напевной интонации некоего старичка-сказителя из радиостудии: жили-были, мол, старик со старухой… Как будто может быть остроумным то, что делают сто тысяч человек, – Дима сто раз слышал этот юмористический речитатив, а остроумие обязано содержать элемент неожиданности.
И все-таки Дима не сумел бы так сыпать без умолку.
– Емельяновы-то? Развелись, развелись… Как так почему? Поди, надоело-то носить головной убор тевтонского вождя. Блудливая женщина попалась. Он, однако, тоже отнюдь не препоясывался поясом верности. Он же с Лопуховой – знаешь? Ну что ты, роман века!
– Беленко, ты неисправим.
(Вот что за «Ленка» – Беленко! В «неисправим», кстати, слышалось поощрение, снова убеждая Диму, что остроумным может считаться только злословие.
А Беленку он, кажется, припомнил – что-то такое Юна говорила о нем как о скорорастущем научном работнике; Диму это, конечно, укололо, и он спросил: «Он умный?» – как человек, имеющий право спрашивать об уме, притом с таким нажимом, что всякий бы усомнился, прежде чем ответить. Вдобавок в вопросе был и подкуп – признание права судить об уме. Ну а когда тебя назначают судьей, невольно хочется судить построже. Однако Юна спокойно ответила, что очень умный, наведя на Диму уныние, и добавила, что он совершает какие-то важные открытия. Как будто Дима этим умом интересовался. Умный – это с которым можно поговорить.)
– А как ваш драгоценный шеф? – тем временем спрашивала Юна.
– Стрельников-то? Маразмируем-с, маразмируем-с.
– Как же, он ведь недавно получил премию имени Степанца? – Спрашивает как будто намеренно простодушно, так обычно поощряют к саркастической реплике. И пожалуйста:
– Естественно, ежели он сам ее выдает. Витюля Баранов мне вечор плакалси – он у Стрельникова сподобился аспирантуры…
– Баранов к Стрельникову устроился – не знала!
– Все там будем. Все стекает к нам в НХТК, а оттуда прямая дорога к Стрельникову. Устланная, кстати, благими намерениями. Ну-с, так шеф за два года никак не мог урвать часок от послеобеденного сна, чтобы потолковать с Витюлей о его десерте, Витюля же с готовым десертом к нему прибыл, Стрельников только таких набирает себе в рекруты. Наконец-таки Баранов его улестил склонить хотя бы одно ухо к Витюлиному талмуду. Шеф устроился в кресле, Баранов у его ног – и замурлыкал. Каково же, как говорится, было барановское удивление, когда, зачитав введение, он поднял глаза, чтобы отвергнуть нескромные восторги, оскорбляющие его целомудрие, – (Дима ждал, что Беленко запутается в таком длинном периоде, но тот лихо причалил), – и увидел, что шеф спит и даже явственно похрапывает, чего он не сумел приметить, поскольку уши ему заложило уважением ученика к учителю.
Юна смеялась – никогда он ее такой не видел, – спрашивала, что же Баранов. А что Баранову? Посмотрел, как Баранов на новые ворота, и пошел себе помаленьку. Здесь Дима понял, как она смеялась – не облегченно, а просто свободно, как смеются среди своих. Смеялась опрятно, как в кино, и без восторга к беленковской манере, а как бы даже раз навсегда махнув на нее рукой, но как со своим. И говорила, и спрашивала обо всех них тоже не без насмешечки – впрочем, с Беленкой, видно, иначе говорить нельзя, – но как о своих, без печальной дымки достоинства, – неужели это была дымка ограждения от фамильярности? Дымовая завеса, прикрывающая отстраненность, нежелание сходиться ближе? Иначе почему она исчезла в разговоре со своим?
От страха Дима почувствовал слабость в коленях.
Да что же они за «свои»? Одноклассники, составлявшие с восьмого класса оппозицию литераторше за то, что она серая баба, или математичке, или еще кому-нибудь? Сокурсники, составлявшие оппозицию какой-то другой оппозиции? Да мало ли в силу каких оппозиций возникает набор «своих»! А потом он закостеневает и уже не может расширяться. (Все-таки в смехе ее было нечто по-Диминому домашнее: выдыхала она немножко чересчур сильно, так что дыхание у нее как бы немножко заклинивало, и вдох она делала как бы с легким усилием, как бы с едва слышным пристаныванием. Мило это было до сердечного спазма, но ведь смеялась-то она не ему, поэтому настоящего умиления он не испытывал, – умиление – это когда чувствуешь себя намного сильнее того, кого любишь.) Но может быть, все они ей «свои» только из-за того, что знакомы с каких-то давних пор и манера обращения с ними с тех пор и законсервировалась? Ведь бывает, ее и неудобно менять… (В догадке было много истины, но Дима уже не мог поверить во что-то хорошее.) Бывает, выбирают немногих «своих», чтобы показать остальным, что не водят знакомство с кем ни попадя.
– Зачем же к нему идут, к Стрельникову? – допытывалась Юна.
– А куда же им, сердешным, деваться? Плюс к тому, шеф на почве прогрессирующей мании величия про каждого своего аспиранта говорит, что у него докторская диссертация, надо только подработать годиков тридцать-сорок.
– Кстати, как у тебя самого с докторской?
– Как будто на подходе, и импортные ссылки на себя имею, но здесь ведь тонкий дипломатический момент. Нужно приучить общественное мнение к мысли, что я буду доктором. Сначала она покажется оскорблением, но по мере течения времени надеюсь…
Он еще и доктором будет! Дима почувствовал, что если в течение минуты не вступит в разговор и не постарается набрать инерцию раскованности, то вовсе не сможет сегодня разомкнуть губы, – и без того уже от их непринужденности он все больше чувствовал себя неуклюжим и косноязычным. Его вдобавок подавляло, что Беленко, который, как всякий остряк, был, казалось бы, заинтересован в максимальном расширении аудитории, тем не менее ни разу не взглянул на него. Да ведь он, собака, и нельзя сказать что остряк – балагурит, а сам усмехается откуда-то, из настоящего своего положения, над своим же балагурством. Такой народ! – больше всего не любит оказываться чем-то определенным, зафиксированным в каком-то определенном положении. Нащупай, откуда он усмехается, – тут же начнет усмехаться из другого места.
Но, как бы там ни было, Дима знал, что, когда приходится говорить в присутствии малознакомого о посторонних для него вещах, нужно иногда приглашающе взглядывать на него, а он должен как бы кивнуть или что-то в этом роде. Глупо? А не глупо, уходя, говорить «до свидания»? Такой же условный знак уважения. Поэтому Дима, чтобы не выглядеть оскорбляемым, изредка улыбался и кивал, будто к нему тоже обращались, хотя он не получил ни одного Беленкиного взгляда. Вместе с тем Беленко и не избегал смотреть на него, – его будто тут вовсе не было. Беленко был абсолютно свободен от Димы, свободен, как ураган. И еще хлюпал носом. Не как-нибудь завуалированно, а вполне непринужденно – всхлипывал, когда ему надо, и рокотал дальше. Но почему же, черт возьми, его совсем не беспокоит Димино присутствие, а Диму его – беспокоит! Может, он, Беленко, чересчур на физиономию симпатичный? – да не чересчур. Нос, например, у него тоже большой… Но ведь и нос зависит от того, как себя поставишь. Вот у Беленки нос уверенно-насмешливый, а у Димы – по-завхозовски мелочно-солидный. Так бы и вмазал.
И тут-то пришло Диме в голову: не есть ли венец взыскуемой им свободы полнейшее безразличие к людям? Может, скованность и правда бывает только от стыда, – а раз стыдишься, значит, есть чего, – но и бесстыдство тоже вовсе не обязательно говорит о чистоте души. Может, скованный потому и скован, что совестливее свободного, которому на всех глубоко наплевать? Догадка была настолько ошарашивающей, что Дима не мог ею заниматься, перед ним стояла масса тактических задач. Юна взглядывала на него достаточно часто, и он был благодарен ей за это, однако у него начинало шевелиться что-то вроде подозрения, что она проверяет, не догадается ли он уйти. Мнительность, конечно, но… Словом, пора было заговорить.
Он знал, что в разговоре, если по-серьезному, он не уступил бы Беленке, достаточно он был умный и начитанный. Мог говорить хоть о сюрреализме, хоть о древней русской архитектуре. А уж что касается жизненного опыта… Беленко небось от маминой юбки на три шага не отходил. Ну а не знал бы чего-то, так Беленко другого не знал бы, что он знает. Видал он таких умников – все у них понаслышке. А Дима человек основательный. К тому же Дима умел, например, хорошо рассказывать, но только все подряд, а не перескакивать с одного на другое. И спорить он умел только так – небрежности ему недоставало, – не умел он ляпать что подвернулось под язык. Ему нужно сначала подумать, а потом сказать, это ему и мешало. Однако молчать дальше было невозможно. И чем черт не шутит: вдруг выйдет легкая, непринужденная беседа трех равносвободных сторон. Тут главное не умное сказать, этого никому не надо – умное и дурак скажет, – а ты скажи более непостижимое: уместное. Главное попасть в Беленкин тон – он тут, кажется, в цене. Ничего, если и глупость выйдет, – Юна же знает, какой он на самом деле…
Дима откашлялся – ничего более лакейского он придумать, конечно, не мог – и решительно, даже строго произнес, кладя первый камень в фундамент равносторонней беседы трех свободных:
– Докторскую обязательно надо защитить. Еще Маяковский писал: инженеру хорошо, а доктору лучше. К тому же тогда мы будем коллегами – я ведь тоже доктор.
Кажется, это было в тон.
Беленко, приподняв бровь, взглянул на Юну, и она пояснила: Дима работает врачом.
Его уже несло в неуправляемые каламбурные бездны, где впереди маячили «доктор – по-латыни учитель», «докторальный тон» и т. п., но он удержался: ему показалось, что на лице Юны появилось напряжение, когда он заговорил, словно она боялась – кстати, не без основания, – что он наговорит глупостей.
– Что-то новое, – усмехнулся Беленко, – обычно фантазия иссякает на докторской колбасе.
И, как ни в чем, продолжал болтать с Юной. Вроде похвалил, но – как имеющий право хвалить. Притом обращался не к нему, а к Юне – а он, мол, у тебя ничего. Как про собаку. А Юна как будто не заметила, улыбнулась Диме, словно поздравила с наградой, – да кто такой Беленко, его награждать! – и, ей-богу, на лице ее мелькнуло облегчение, что Димин номер сошел благополучно.
Но после выступления какая-то строптивость в Диме все-таки осталась, она-то и предотвратила дальнейшее его омертвение, и он продолжал слушать их болтовню уже с некоторой бойкостью. Напряжение оставалось, в сущности, только из-за того, что он выжидал нового случая сказать что-нибудь уместное, – чем меньше Беленко ему нравился, тем больше Дима хотел понравиться ему сам, и еще не совсем угасла надежда организовать элегантную, как в кино, трехстороннюю беседу. Продолжали сыпаться имена – теперь полузнакомые, и он знал, что это имена знаменитостей.
Дима давно привык, что вокруг постоянно порхают такого рода полузнакомые имена, сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи, и это его давно уже почти не тяготило, а в период Юны и подавно. Он понимал, что захоти он погнаться за свободой во владении этими именами, то есть за умением сказать пять слов по поводу каждого, – с повышением культурного уровня придется покончить. Однако сейчас каждое такое имя отзывалось болью в сердце – бойкость была слабой броней. Каждое такое имя напоминало ему: чужой, чужой… и почему, собственно, ты здесь сидишь?
Вот когда его допекали незнакомые слова – когда он только приехал в город. Обо всем надо спрашивать, а слова, которыми объясняют, сами незнакомые: вам же сказали – на «семерке» доедете до «Щорса». А что такое «семерка» – автобус или трамвай и что значит «Щорса» – улица или сквер, но им это ясно из того, что «семерка» доходит до «Щорса», а раз ты этого не знаешь – значит, дурак, ведь дураки незнание считают дуростью и своих мнений не скрывают. А в какую сторону ехать на «семерке», если даже это трамвай? Пытаешься прочесть на табличке на трамвайном боку, там указаны начало и конец маршрута, и читаешь: РКЗ – ОМЛТУ. В трамвае билетов не продают, все вкладывают какие-то бумажки в какие-то приборчики, и тебе суют такую бумажку и просят: «Закомпассируйте» – а что это такое? И где берут билеты? Отвечают: абонементы у водителя, – вероятно, эти самые бумажечки. Проталкиваешься к двери, где за темным стеклом чуть чернеется водитель, а в стекло видишь, в основном, свое же отражение. Из стекла торчит половина чашечки, кладешь туда свои три копейки, он их видит – и ничего. Просишь – сквозь стекло не слышно, – он отвернулся и поехал, громче просишь, пытаешься стучать – он кричит что-то гневное, но сквозь стекло не понять. Снова просишь, стучишь, толчешься в дверях, всем мешаешь, затравленный идиот, смотришь на свое черное глянцевое отражение и разгневанный силуэт водителя, и наконец какая-то потерявшая терпение добрая душа объясняет, что талоны продают по пять штук, нужно положить пятнадцать копеек.
Все это Дима видел сейчас как живьем. И понял: мучительнее всего тогда было не то, что он выглядел дураком, а что был чужой среди своих. А при другом темпераменте мог бы почувствовать себя и врагом. И перед врагами потерял бы и долг и стыд – стал бы свободным: свободно бы кидался в трамвае занимать свободное место и рукой через проход придерживал сиденье для попутчика. А еще ведь, могло случиться, услышал бы «понаехали» от какого-нибудь паразита, которому кажется, что все его нехватки от понаехавших, которые, уж стоило оно того или не стоило, понаехали за чем-то, на что имеют не меньше прав, чем сам паразит. Сейчас Диме казалось, что именно поэтому встречаешь остервенелых среди таких, как он. В его родне были такие. А приди к ним домой, приди как свой, и увидишь: хороший мужик. Как почти все люди со своими, если из-за какой-нибудь ерундовины им не покажется, что перед ними не свой.
Сейчас ему казалось, что люди становятся не своими только из-за мелочей, – опять мелочность.
Дима почти обрадовался, что наконец понял, чего всегда ему не хватало: быть своим. Тем-то и неприятно всякое незнание того, что все кругом знают, пусть знанию этому цена копейка в базарный день: перестаешь быть своим. Так и эти полузнаменитые имена, которые он только что слышал и перестал слышать, оттого что задумался. Очнувшись, он порадовался, что так задумался, это удачно вышло: они болтают, а он спокойненько думает про свое – совершенно равноправно.
И еще бойчей поглядывал на Беленку, то и дело меняя непринужденные позы, разок даже прошелся по комнате, раскачиваясь и проворачиваясь на носках, как циркуль, без нужды трогая вещи и вообще от непринужденности делая много лишних движений, – он становился разболтанным, желая быть всего лишь непринужденным. Качнувшись, снова взял со стола розовый ликер, развязно осмотрел этикетку и прочел вслух.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































