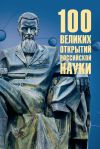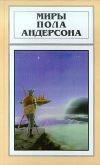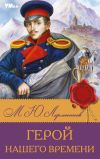Текст книги "Саваоф. Книга 2"
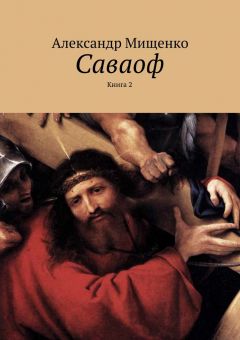
Автор книги: Александр Мищенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Сон у меня был с кошмарами. Причудилась вдруг встреча с энлонавтами в серебряно-шелковистых комбинезонах.
– Откуда и кто вы? – спросил я.
– Космическая полиция. Созвездие Весов. Красная звезда – наша родина, – отвечали они, перемигиваясь глазами-электролампочками.
– Ваша цель?
– Это зависит от центрального Господаря.
– Можете ли вы переместить меня на вашу планету?
– Это безвозвратно для вас и опасно для нас.
– В чем же опасность?
– В ваших мыслях живут бактерии. И мы давно уже знаем, что мысль – зло. Удивляться тут нечего. Отчего ваш поэт Есенин был пьяницей! А Савельев? Пудами писал стихи под Есенина. А что из этого всего получилось? Нет, мысль – натуральное зло.
– Ничего не понимаю!
– Ваш мир очень опасен. Он похож на человека тем, что у него есть зад.
– У мира есть задняя сторона?
– А вы посмотрите на ваши отравленные леса, воды, поля. Суд божий при дверях…
И шел на Голгофу я. Рядом двигались стражники в медно-красных шлемах. Бесконечный поток людей ящерицей втягивался на гору. Из пустыни наносило нестерпимый зной. Горели факелы. А на самой вершине в алом свете виделся мне крест, на котором распинали Христа. Прибивали гвоздями руки ему, а невидимый хор пел: «Радуйся, радуйся, радуйся! Где нет страдания, там нет и счастья. Огнем любви святой учит Христос!..» И вплетаясь в эту мелодию, во мне зарождался и жил древний стих: «Они идут, они идут, они идут, гуськом, гуськом. А впереди покойник сам и подпевает нам».
Кто-то потом допрашивать стал истекающего кровью Христа, и слушал я, как гулкие слова разрывали небо:
– Что есть истина, истина, истина?
Иисус отвечал:
– Истина это любовь, и бог хощет любви, а не жертвы.
– Не считаете ли вы себя царем?
– Кто живет истиной, тот и царь.
Потом Иисус громко возопил:
– Ели, ели, лама сабахтаки.
А мне слышалось: «Бог мой, бог мой! Для чего ты меня оставил?» Звучало и противоречивое во мне: «Так и всякий вопиет, чтоб пронесло его с бедой, когда неохота на ежа голой срацей садиться». Но голос в толпе сбил с этого мелкого:
– Илью-пророка зовет он. Бедный Гамлет я держал тебя на руках ты играл со мной и смеялся Но куда денутся эти губы после поединка еще недавно шептавшие Быть или не быть Теперь они шепчут илилилилилилилил или Элои Элои лама сафахони Боже мой. Боже мой» Зачем ты меня оставил – Это он Илию зовет – сказали стражники у креста (Разговор черепа Йорика с черепом Гамлета. «Метаметафора». Константин Кедров). Но последуем за мыслью поэта: «Если бы Иисус, будучи Отцом и Сыном одновременно, разрешил себе отказ от распятия, он бы утратил себя, перестал быть собой. Спустя ж 1600 лет, Гамлет уже не должен и не может выбрать. Он и есть «или». Гамлет выбравший «быть» – это Дон-Кихот. Гамлет, выбравший «не быть», – это Будда. Гамлет – Христос полтора тысячелетия спустя и до наших дней. «Или» – пространство свободы, где размещается человек. Между «есть Бог» и «нет Бога» целая бесконечность и в этой бесконечности душа человека. Это утверждал Чехов. Леви-Брюль в книге «Пралогическое мышление» открыл, что логика «да или нет» свойственна дикарям. Цивилизация это и «да» и «нет» одновременно. Я бы сказал она вся в нюансах между этими полюсами. «Верую, Господи, помоги моему неверию», – самая великая молитва». Обращенная к тому, кто поднялся над «да» и «нет». Это уже мудрость Бога «Люби ближнего как самого себя Да минует меня Чаша сия Быть или не быть…?»
Дилемма «да» и «нет» вселенская. «Нет» замораживает жизнь, «да» открывает семафор к безразмерной свободе. По золотому сечению идет глиссада прыжка у моего Вани-электрона – в хомут необходимости, вертеть колесики Мироздания, единясь в солидарном множестве электронов. Трудиться, работать, созидать. Иного пути нет в живой Вселенной. И пушкинское «Пока свободою горим» мыслится, конечно же, в контексте Бога.
Как пишет философ-поэт, Гамлет – первое новое слово в культуре после моления о Чаше в Гефсиманском саду. Иисус молит Себя-Отца: «Да минует меня Чаша сия», и он же сам принимает решение ее испить. Это Выбор. Это свобода. У Софокла, Эсхила и Эврипида все решают за человека боги. Здесь не жребий, а личный выбор решает все. «Познайте истину – истина сделает вас свободными. Вы куплены дорогой ценой – не делайтесь рабами человеков».
Иисус взмолился:
– Пить, пить. Как без воды жить рыбе? Кто выпил мое Тысячеозерье? Пить.
И склонив голову, испустил дух свой.
И вновь разрывает небеса чей-то глас:
– Царство божие похоже на то, как рыбак протягивает по озеру сети и захватывает всякую рыбу. А захватив, отбирает ту, которую нужно, ненужную же опять выпускает в озеро…
Утром я отпаивал Толю огуречным рассолом, а он лишь постанывл от ломоты в висках:
– Отойду я, отойду, ниче, душу не заморозил я. Мозги болят только. Уехать бы куда, бля. Но я ж сельский. Тут люди и природа виднее. Мне без деревни – хоть в петлю из пенькового вервия.
Но пока Толя жил на родной земле. Обжился уже в кочегарке, куда ушел после рыбинспекции. Сутки шуровал уголек в топку начальник кочегарки, а трое был свободен от вахт и начал писать новый рассказ, который перерастал в повесть, а затем и в роман. И мне вспомнилось в один из моментов тогда признание одного классика в том, что он на своем опыте понял: романы и повести планируют, садясь за стол их писать, лишь посредственные писатели. Такие вещи нарастают в душе, как морской прилив, и вовлекают в движение глубинное все в авторе.
На машинке Толя мог только клопа давать, и я несколько дней в ту пору помогал ему печатать рукопись, а он в отдарок за это уволок меня на подледный лов, заявив:
– Давно, Саня, не баловался я рыбалкой по синему льду.
Свет чуть падал на Боровлянские плесы. Мы шли напрямую по пятнистому, вытаявшему лугу и вскоре выбрались на обрывисты берег старицы. Лед на реке был ноздреватый, корявый. И – непонятного цвета: то ли черный, то ли темно-синий. Ближе к берегу густо выкрапились лопушки кувшинок, лимонно впаялись они в стекло льда, и сверху казалось, будто стадо коров по нему накопытило.
Дошагав до пологого спуска, где чернели старые осокори, мы спустились вниз. А ближе к средине горбилась рваная изломистая трещина. Ее льдистые края радужно отсвечивали в лучах проснувшегося солнца. Толя оглядел излучину, и мы осторожно перебрели через подернутое рябью разводье. В этом месте старицу пересекал невидимый гребнистый перекат. С малых лет друг мой с дедом таскался сюда на рыбалку, но вот уже три года как не бывал здесь.
Толя оглядывал берега Боровлянки и, как я понял, не узнавал их. Оттого, оказывается, что поредели старые осокори: вырубили их, выжгли рыбачки-любители. Половодьями круто подмыло, кроме того, высокий берег, и черными жгутами-жилами обнажились корни осокорей. Это за три года-то! А что станется здесь лет через десяток!
Мне приходилось с Игорем Созиновым охотиться на уток на двойных Яровских озерах, на перелете дичи через перешеек их, заросшую камышом «мокрую перейму». Тут же мы и рыбоводничали. И я несколько сезонов считал березки в рощице их на вдающемся в межозерье мысочке. Катастрофически исчезали они. Сейчас там штук семь березок осталось. В общем, понятно мне было Толино замешательство
Толя собрал бур и принялся сверлить лунки. Потом я сменил друга, тянул их рядок наискосок, стараясь держать на выгоревший в развилках осокорь-гигант. Кто-то шутки ради развел на высоте сажени в мощном разветвлении стволов костер, и вековое дерево погибло, окостенело и оцепеневше смотрело сейчас на плесы, на сидящих тут и там кучками рыбаков обугленными глазами-раковинами.
Для Толи оно было родным. Помнил он всегда наказ деда:
– С эфтого места, дескать, стреляй во-он на ту лесину. Вишь, какая махина раскарякалась. А за спиной держи во-он тот мысок. Это и есть самое песчаное окунево место. Такая у них там игральня – я тебе дам.
Толя время от времени поглядывал на осокорь. Хоть и выгорело нутро этого старикана, вмертвую вцепился он многометровыми корнями-жилами за родной берег. И не под силу было уронить его ни буреломному дикошарому ветру, ни смыть шалой большой воде.
По-разному течет время для людей, одних оно разрушает, подтачивая основы натуры, в других идет какая-то подспудная кристаллизация мысли и действий, и это помогает осознать, что он являет собой в мире, для чего на свет божий явился.
После рыбалки Толя достал с полки амбарную книгу, пояснив, что это подарок местного картофельного инженера, агронома.
– Возьми-ка с собой, – сказал он. – Это дневнички мои. А ты, я знаю, с молодости их любишь, все героев с дневниками ищешь. Так вот, старик, я хотел бы тебе помочь в литературном твоем деле. Свое готов отдать, значит. Вижу ж, как изморочился ты с подлыми этими издателями и со своими вещами.
Я хотел категорически отказаться и отвел Толину руку в сторону, к чему, мол такое. У меня самого написанного – гора, и пухнут архивы. Но он запротестовал.
– Бери, бери, может, используешь где-нибудь в повести или в романе.
Сейчас я думаю, что внутренние движения души моего друга будто кто свыше определял. Я привычно для себя именую это резонансной связью человека с Мирозданием, а стало быть, с мировым информационным полем или мировым интеллектом. С Ноосфером. А Толя был человеком с глубокой интуицией, т. е. действовал бессознательно, поступал по природе, природосообразно. Так случилось, что не издал он ни одной книжки. Куда делась объемистая рукопись его романа, страниц на пятьсот – не знаю. Отыскал я в архивностях у него рукопись небольшой повестушки «Августовские зори» и отдал дочери, Савельевой Лене. Может, она и издаст ее, но истинного масштаба писательского дара Анатолия Яковлевича Савельева по ней читатели не почувствуют. И это не он, а бог сам словно бы передал мне в руки его дневники, зная как бы расписание дней и ночей его жизни. Слава всевышнему, что эта тетрадь у меня осталась, и нет другого сейчас, более убедительного свидетельства крупного таланта моего друга, чем это.
10 октября
Солнечно, ветрено, тополя и березы облетели, хотя ветви их пашут и пашут по ветру – листья сбились и вспархивают будто воробьиные стайки, перелетают, проскакивают мелкими скоками. Интересно наблюдать их в заветрии – листья шевелятся, вспрыгивают, катятся. Раскачивается по-мужски, всем корпусом старый, могутный тополь, Микула Селянинович Приалабужья. И лишь сирень еще не облетела, треплется на ветру, зеленая, гибкая. Не унывают ромашки: цветут, будто не чуя близкого ненастья, мороза. И еще какая-то травка расцвела сиреневым цветом, доверчиво и беззащитно тянется к холодному осеннему солнцу.
А по квартире гуляют сквозняки.
Небо холодное, голубо-белесое, с редкими серыми островками облаков.
Вода в Алабуге чуть-чуть убыла, и кромка черно-лакового, «палехского» льда белеет кружевными узорами. На стыке с землей лед ноздристый.
Над вечерним горизонтом серый абажур неба чуть приподнялся, и проглянула под ним узенькая золотистая полоска.
Из колка потрусила ярко-рыжая Патрикеевна с легкой рябью на бедрах и на хвосте. Лисы у нас теперь – явление редкое.
14 октября
Воистину, Покров. Как тебя не величать, Пресвятая Дево и тя, святый Андрей, видевший богородицу на воздусе! Грязь подмерзла, и первый снег заплатами лег на неуютную черную землю. День Покрова. Лег снег на рассвете и до вечера пролетал бесконечным маревом белых мух. Белые островки его то здесь, то там высветили неуютную осеннюю грязь. Низкие облака, цепляясь за лес, тянулись на восток куда-то. Это первый снежный день. Солнце пробивалось яркими пятнами и казалось лампочкой в молочной матовой оболочке. Маленькое пятнышко разгоралось, и молочный свет лился обильно, будто слепой дождь. А снег все пролетал, вился, падал. Слепой снег?!
Сейчас нет русских печей, а миллионы ведь было их по России. И какая музыка звучала из вьюшки. Тянет, воет! А в избе тепло. На улице непогодь, грязь, ненастье. Труба тоскливо плачет, почти завывает. Ветер прибойно ударяется о близкую стену, откатывается.
Унылая поздняя осень. Тоскливо тому, кто не убрался. Но отдых и успокоение, любование тем, кто все сделал, выложился до конца в срок. В этом-то и благодать осеннего ненастья! На стекле отпотело, как вздох. Противно только от вида застиранных и заношенных джинсовых брюк на стуле.
О природе хорошо писать не на природе: там слишком много ее, потеряешься и наврешь.
18 октября
Ночью хорошо вызвездило, и утром сегодня попал я на Алабугу, как в Палех: черно-лакированный лед контрастирует с серебром заиндевелого леса. Весь прибрежный пейзаж очеловечен лишь одиноким следом на мыску. Вот-вот взойдет солнце. В заспанной и смурной душе растет предощущение счастья и света. Только и воскликнуть остается Автору: какая ж перламутрово-тонкая, светоносная живопись у Анатолия Яковлевича! Такою любуюсь я, когда открываю створки своего Лувра – «Энциклопедического словаря западной живописи от средних веков до наших дней» и упиваюсь картинами мастеров Возрождения. Подобный Савельеву художник слова придумал название для одной из райских птичек – лилово-шапочный расписной малюр.
У Юрия Казакова есть фраза: «Человек живет надеждами». Да, без надежды и жить не хочется. Помню, первый свой рассказ принес в газету, а мэтр литературный мне говорит:
– Старик, у собаки снега на носу быть не может – нос у нормальной собаки мокрый.
Ах, дядя-дядя, это только носопырочка у собаки влажная, а сам-то нос ведь большой, и на нем может быть все – грязь, снег, лед, солома… Когда-то я начинал со стихоплетства, но моя судьба – проза. Только бы вывернуть мне себя наизнанку, не сюсюкать, а иначе… Искусство – половина святости, говорят, уменье – половина спасенья. Грести и грести нужно, нарабатывать литературное мастерство.
24 октября
О таком унылом дне одно скажешь: на брюхе прополз он. Несподручно же мужику заниматься стиркой и варевом. Сколько времени на пустяки идет! А у женщин?! Но отдаем ли мы, мужики, им должное в этом? А кто-то из французов говорил, что лучшие прачки и повара – мужчины. Может быть… Делать-то что-то надо. Нужно как-то содержать комнаты свои в божеском виде, а то обломишься в обломовщину (поиграть хоть словом). А реальное подсобное хозяйство из двух свиней! Не держи их, так с хлеба на квас будешь перебиваться. А картошечка! Не будь ее, карандаш я бы сосал…
Правил, правил сегодня важную мысль-фразу, усиливал, уточнял, облагораживал ее до тех пор, пока все написанное ранее не оказалось лишним. И из нового лишь предложения, намека каждое слово – намек, вычитал мудрого одного языковеда стал вырастать законченный сюжет. Истинно, проза настоящая – вырастание, ветка и почки, вернешься назад, шевельнулись словцо или фраза, и почка раскрываться стала. Сейчас я называю это, впитав в кровь Деррида, деконструкцией. А литература глубокая и прочувствованная – есть, по сути, живая глубокая деконструкция. Нынешний мой «Дом под звездами» – деконструкция «Закона мира».
Иди к себе…
Лет двадцать тому назад я написал 1000-страничный роман «Закон мира», из которого и прородилось, как из зародыша, это повествование, и благословил меня на него, так уж случилось, Юра Скоп, «зарубив» пухлую мою и сырую, маловразумительную в том варианте прозу: не созрела она еще, не поспела, я сам убил ее дремучим, как дебри тайги, журнализмом. Рецензия на рукопись была розгромной. Жестокий отлуп получил я за роман. А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб. Начинается она так: Послушайте: Билли Пилигрим отключился от времени. А кончается так: Пьюти-фьют? (Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход для детей).
В рецензии Ю. Скоп писал:
«Композиционно у вас роман в романе, Саша. Подобная двухэтажность не оригинальна для отечественной литературы. Та же «Мастер и Маргарита» строилась по такому проекту. Эссеобразностью рукопись напоминает внешне «Русские ночи» Владимира Федоровича Одоевского. Но исполнение у вас скверное. Скучно. Затянуто. Многословно. Трепливо. Тягуче. «Русские ночи» великолепны своей мыслью.
Не надо пижонства, Саша. Не сводите счеты кличками. Без развития все. Свалка, винигрет, окрошка какая-то. Монтаж кусков. Как устаешь от всей этой рванины! Вас победил замысел. Он сжег вас.
Прыжки какие-то пошли. Каша это овсяная, Саша. Ка-ша! Правденочка, а не правда. Не умеете вы заканчивать главы, они у вас сворачиваются как-то. Кислое молоко. Понимаешь окончательно, что романа нет, а есть слова.
Хорош диалог с Пушкиным, но это – остров в романе.
Стр. 489 – уморил окончательно
Не воюете с пустотой. Пересол страшенный. Скоропись. Слов куча – характеров нет.
Стр. 620 – Саша милый, что с вами? Где ваш внутренний контролер? Не строчите. Вы льете не мысль, а слова. Даже жена ваша, как понял я, возопила. Эх, друг вы мой, тут бы просто книгу создать, а? Куда уж там «сферическую-то».
Стр. 709 – Решил прекратить постраничные замечания.
Вы погребли замысел, дорогой Саша. Наберитесь мужества и спокойно решите, что делать дальше. Начните с того хотя бы, что разгребите все до замысла. Почему у вас в романе нет центра, точки отсчета? А ведь вы хорошо знаете Тюмень, жизнь. Уйдите с периферии собственного мышления. Не городите городки. Будьте смелее. Не мудрите. Ваше бессилие – сила.
Вам предстоит РАБОТА. ОГРОМНАЯ. СТРАШНАЯ. И тем – ПРЕКРАСНАЯ. Забирайте рукопись без зла на меня. И вперед, с Богом! Идите к себе. К тому, что знаете. Не бойтесь этого знания. Не бойтесь!..»
– Не достучался ты до меня, – сказал страдательно мне Скоп и по-доброму, глубокодонно добавил: – Иди к себе… В книге «Запечатлённое время» Тарковский пишет: «В „Зеркале“ мне хотелось рассказать не о себе, вовсе не о себе, а о своих чувствах, связанных с близкими людьми, о моих взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и своей несостоятельности по отношению к ним – о чувстве невосполнимого долга…» «В этом фильме я впервые решился средствами кино заговорить о самом для себя главном и сокровенном, прямо и непосредственно, безо всяких уловок…» Тарковский в эти годы был на перепутье, он хотел понять, как ему дальше-то жить, что он вообще такое есть. Ему нужна была исповедь, и такой исповедью стал фильм «Зеркало». Это был прыжок в самого себя, «самообнажение». Это «безумие самообнаженья», считает Николай Болдырев, «на самом деле не самообнажение вовсе, не болезненный или тщеславный эксгибиционизм, а попытка прорыва в сновиденческую свою родину» (Николай Кофырин. В зеркале Андрея Тарковского).
31 октября
Дни стоят теплые, а ночью стеклит все морозец. Стала Алабуга. На завтра на рыбалку дернуть, поблеснить для души. А где в городе было так блеснить Толе? В кафешке или в винном отделе магазина рядом с его домом. Чую, что стал писать раскованней, интересней. Прозревше почувствовал я в какой-то момент, что слово – искра в выражении мысли и ловить надо эти искры. Но что-то держит еще, тормозит. Крестьянское все во мне еще верховодит, вилы в руки, соху – это роднее покуда, чем вспашка со словом. Но азарт берет свое. а может быть, авантюризм. Как бы то ни было, но извилины свои надо напрягать ежедневно. Неверно медицина утверждает об отмирании клеток мозга в связи с возрастом. Отомрут десятки тысяч – тренировкой же разбудятся новые сто тысяч. Вот так! А не иначе. Может, и кратно больше, Толенька. Это – природное: пчелы раздаивают цветы и больше те дают взяток меда, чудно раздаиваются коровы у доярок, да и сами они – в «молочную пору», кормя младенца не из бутылочки, а грудью, сисенькой. Кажется, я назвал это где-то Законом нектара. Писал, по крайней мере, в романе-словаре «Жизнь»: «Воды, озера, реки, моря, водные бассейны, одним словом, суть «поля, которые удобряются (притекающей водой с органическими остатками) … и которые, вследствие плодучести рыб доставляют количество семян, не только соответствующих этому количеству удобрения, но даже и излишнее. Человеку остается лишь жать» (Карл Бэр). Жаль только, что «русский рыбак ловит рыбу беспощадно», как страдательно писал об этом великий естествоиспытатель. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», – сказал Христос (Ев. от Иоанна, 10:10). Этот Божий замысел, конечно же, можно понимать расширительно, что подтверждается состоянием всей природы, разные сферы которой являют нам «жизнь с избытком». Хорошо об этом у Поэта:
Кругом природы д а р о в и т о с т ь,
Трав благовонье, злачность их,
Бразды колосьев золотых
Одно остается только: научиться пользоваться этим даром Божиим, «жать» умно и с добрым сердцем так, как пчела споро и украдисто «пожинает» нектар цветов, которые становятся от таких взяточников еще благоуханнее и плодоноснее. И если говорить непосредственно о воде, в результате многолетней своей работы на озерах я давно уяснил: вода больше человека.
Сеогдня явление в свежей «Тюменке» «рыбачки Тони» Левадной, которая оперативно, беря народ на абордаж, дала на полосу репортаж об энтуизастах-рыбниках из моего НИИ. Вновь тронулся лед с рыбоводством. Молодь муксуна разводят в заводских условиях. В вотчине Валеры Страхова, в Сладковском районе, есть озера, в которых не выловили ни одной «посеянной» там рыбки-пелядочки. А все оттого, что личинки сьедает сорная прожорливая верховка. Кандидат технических наук, заслуженный изобретатель РФ, доцент кафедры аквакультуры Тюменской сельхозакадемии Николай Павлович Слинкин: «А вот если ту же пелядь подрастить в цехе, подобном нашему, до массы 40 мг (возраст 3—4 недели), она уже становится недоступной для хищника, и вылов возрастает до 50%. Того же карпа можно так с эффектом подращивать. Самая трудная часть пути эксперимента позади». Сбалансированный корм только получают новаторы из Санкт-Петербурга. А нужно давно бы построить здесь на месте свой комбикормовый завод для рыб. И море было бы деликатесной рыбы. Это то, о чем грезил-мечтал, двигаясь к этому будущему, Игорь Анатольевич Созинов.
Доктор биологических наук, профессор двух вузов, крылато возгласивший некогда, что главный рыбовод на Земле – Бог, Игорь Семенович Мухачов, заявил в подверстку Слинкину: «Муксун, конечно, не карась, выращивать его хлопотно и трудоемко. В Ленинградской области в специализированном хозяйстве лет двадцать выращивают товарного муксуна в бассейнах с проточной водой, содержат маточное стадо, а икру и личинки закупают в Тюменской области». И это верно. Нас, тюменцев, только ленивый не укоряет, вы мол, на муксуне, как на ките, сидите тут и ушами хлопаете. «И вот этот удачный, смелый опыт с муксуном», – заключил ученый, сподвижник Игоря Созинова.
9 февраля
Новый год распочат. Не тает, но в наших окрестностях ширится уже день гусиными лапками. До того бело от свежего пухлого снега, будто глаза слепит теплый объемный свет. Березы белее молока и снега. Как-то теплее уже светает. Снега днем кажутся насквозь просеченными солнечными лучами.
Пора идти на кочегарскую смену, к огню и уголечку, на жизнь зарабатывать. Как зарабатывал, убирая лед и снег на питерских улицах, ровесник века, ленинградский дворник, философ и тайновидец, смыслоискатель Яков Друскин. Так он мне по душе пришелся после рассказа Саши Мищенко о нем. Тот же читал о нем в «Параллельных мирах» у Константина Кедрова. Спасибо Саньке, что выписки какие-то сделал для меня и прислал письмом. Занозила меня судьба родственного мне по духу бесприютного Якова Друскина. Вижу мысленно, как голодал и мерз, сидя в избе с выбитыми стеклами при минус 50 градусов, этот преподаватель математики и писал в дневнике: «Мне снилось: напрасно я беспокоюсь о смерти, ведь смерть не может наступить, так как среди квадратов состояний нет ни одного пустого».
Казалось Друскину, что нашел он формулу гениальности, эту вот: «Необходимое условие гениальной вещи – некоторая чистота. Для чистоты требуется, чтобы автор чувствовал себя только посредником, передающим то, что он увидел, не добавляя ничего от себя». Не о том ли у Аввакума, который заявлял, что высшими философствами не обык мысли красить, понеже не словес красных господь бог слушает, но дел наших хощет.
17 апреля
Вчера увидел на скворешне первого весеннего гостя – ярится, свистит, мурлычет воробьем, чивкает, каркает, крякает… Что он только ни вытворял. Да яро так, восторженно-громко радовался, что дома. Сколько тыщ километров ведь пролетела птаха! Как же звонко балагурил скворец, расскворчивая нам, где побывал и что слышал в дальнем краю. Я впервые нынче топил баню и долго слушал этого весенника. А он почти над головой орал во все свое горлышко, захлебисто, ядрено, сочно свистел. Далеко соловью до скворца. У этого больше искренности. И похож он в этом на друга моего Валеру Страхова, сухопутного ныне моряка из соседнего Сладково: у него душа живет искренностью моря. А соловей – что? Он сугубый землянин. Навыком консерваторским берет. Скворец же сам – звучье музыки. День будешь слушать, и все по-разному, то перелив другой, то тембр новый, то нотки неведомые…
Ли-хой певец! О-ох! Досталось тебе, наверное, жаленушка мой, на чужбине. Как Страхову некогда на «неизвестной войне» в Египте… После чужбины и радуешься ты оглашенно сибирской весне. Поешь, поешь, свистишь, заливаешься… Буйство света, светопад с неба. Отражения света от зеркал воды. Стреляющие золотом крапины его и радужные блестки на поверхности озера. Лучи солнца идут вглубь вод, струятся там. Так струится во мне и радость весенника.
25 апреля
На южных скатах крыш снег сошел, воздух над ними струится, играет. В затишливых местах на солнце снег уже мокрый, расквашенный.
Приснилось, что Федосеева-Шукшина привезла Василь Макарыча умирать сюда, на берега Елабуги. В глазах его дума и боль, как на этом фотопортрете у моих книжных полок. Руки – жилистые, крестьянские, одним словом. Случилось так будто: в дом к Шукшину ворвались какие-то пьяные хулиганы, сдернули с него джинсы и били ногами в лицо, визжали: «Голова будет болеть – баллончики к вискам приставляй. Импортные. Импортные… С джинсами их шлют. С джинсами…» А в угол комнаты вжался пацаненок какой-то, и Шукшин лишь выкрикивал хулиганью: «Мальчишку, мальчишку уберите, сволочи!» Это для того, чтобы не видел он такого зверства. Был Василь Макарыч в гимнастерке. Как жил, так и закатные дни жизни встретил – в бою. Господи, когда хоть жить мирно будем? Ну, не вечная же это гражданская война… А в моем сознании голосом мамы зазвучали пятидесятые годы в Райчихе, слова ее, обращенные к нам, ее детишкам: «Хоть бы не было войны. Чтоб никогда ее не было на земле». Думаю сейчас: это же самый что ни настоящий «глас народа». Представляю, что было бы, если б в одно сердце сказали б так народы все на планете и все люди! Думаю: что-то бы сменилось в организмах у агрессоров, прошла бы переполюсовка всех их минусов на плюсы, зла на добро.
С березами неразрывен для меня Василь Макарыч. Щемит сердце, когда смотришь в «Калине красной», как Егор Прокудин гладит ствол березы-невестушки. О Толстом Льве Николаевиче вычитал я подобное. Рассказывал он Горькому в березовой роще в Ясной Поляне про Шопенгауэра и ласковою рукою гладил сыроватые, атласные стволы берез… Видя их мысленно, думаю и я, Толя, о Василие Макарыче. Более, чем любой другой трагический наш современник, сказал Шукшин нам о сути писательского труда. И так я это понимаю, переводя на свои смыслы: не будет течь кровь с пера – не вызрело твое Слово, чтоб можно было сказать на суде вышнем, как определил для себя это Юрий Казаков: «Это я написал, Господи!» Магия его прозы волнует и завораживает. Разгадался он вмиг мне в письме своем в «Знамя» к «крестной» Софье Дмитреевне:
«Пишу я Вам из дер. Летняя Золотица. Деревня эта стоит на берегу Белого моря, напротив Анзерского острова (из группы Соловецких островов). В бинокль остров хорошо проглядывается, видны даже каменные белые церкви…
По Белому морю, примерно километрах в 5—8 друг от друга стоят рыбачьи избушки – тони. В них живут там по 3—4 дня, ходили вместе с рыбаками в море осматривать ловушки, били острогой зубатку и (нрзб.), ели с рыбаками за одним столом и говорили с ними.
Так вот жизнь страны, Москва, в частности, совершенно не касается здешних людей. Тема разговора во всех домах, где пришлось нам побывать, забегает ли в ловушки и невода рыба и т. д. и т. п. Рыбаки ловят и сдают ее в рыбопромышленные пункты. Там рыбу взвешивают, «сортуют» и записывают выполнение плана каждой бригаде рыбаков. Бригады здесь от двух до 5—8 человек. Потом рыбаки получают деньги за выловленную рыбу… Рыбак старается выловить побольше, а так как цена рыбы неодинакова, то все упирается в семгу. Идет семга, идет заработок, нет семги, нет и заработка. За все дни, проведенные с рыбаками, мы не слышали от них ничего о колхозе, ни слова о «повышении», «усилении», о «перевыполнении и прочем, что так любят преподносить многие очеркисты, газеты вообще, да и литература (рассказы, романы). Погода непосредственно влияет на ход рыбы, на технику и трудность ловли, поэтому тут бесконечно толкуют о погоде, о ветрах, о приливах и отливах, о привычках рыб или весьма нецензурно упоминают о каком-нибудь весовщике, который недосчитал им что-то, или о председателе колхоза, который не прислал им водки к празднику, как обещал (водку здесь пьют часто и помногу). Эти рыбаки с удовольствием послушают, если Вы расскажете им о Москве, о чем-нибудь интересном. Но слушают они об этом так просто, как о чем-то не главном, далеком, для них не обязательном и ненужном. На тонях здесь получают газеты, но знаете, что читают в газетах? Читают, кто, сколько и где выловил рыбы, и если где-нибудь выловлено много, завистливо говорят: «Вон поперло-то, чертям, заработают норато»…
Лучше всего, если Вы сами бы увидели все это. А повидать Белое море было бы для Вас очень интересно! Поэзии здесь уйма – белые ночи, море, леса и реки, в которых водится форель, озера, лесные избушки, массы комаров и прочие удовольствия. Ну и люди, конечно, прекрасные, язык очень поэтичный, особый, северный.
Что же касается современности, так сказать, внешней, то возле нашей избы крутится ветряк, который дает ток колхозной рации, в колхозе есть клуб (жалкий, правда: гармошка, газеты, домино), над берегом часто пролетают военные реактивные самолеты, иногда на горизонте видны дымки пароходов, да еще о современности напоминают частые расспросы оперуполномоченных и военных моряков о том, кто мы, откуда едем и т. д. – здесь, говорят, в окрестностях Онеги много лагерей».
Плотна и вещественна проза Юрия Казакова, как и все, что окружает нас в мире, Луна, планеты и звезды, скалы, камни, цветы, травы и деревья, ягоды, яблоки, колосья ржи и пшеницы и хлебные караваи. Говорили мы об этом в Переделкино с уральцем Костей Скворцовым. Ждешь счастья, как удара топора – открывать можешь врата неба. Не исполнился таким мужеством – пиши цветы, а Родину оставь, как звучит это в стихе у Скворцова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?