Текст книги "Саваоф. Книга 2"
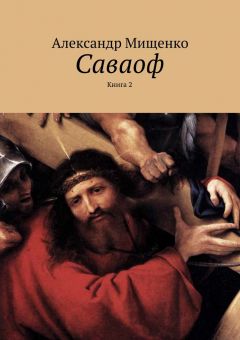
Автор книги: Александр Мищенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
А Савельева Бессолов сшиб подлой подсечкой. Пригласили Толю отметить бессоловский день рождения на озере и там упоили в усмерть самогонкой. Несколько дней провел Савельев в хмельном угаре. Голова была настолько очугуневшей, что о работе не помышлял даже. А Бессолов его с треском и выгнал за три дня прогулов, расколоколив о пьянке своего подопечногог на всю область. Савельева ошарашило вероломство шефа, оправдываться он ни перед кем не стал и подался на временную работу в районную кочегарку начальником кочегарки, биниалится с «начальником Чукотки», с блеском сыгранным популярным артистом Михаилом Кононовым. Я его спросил: «Что ж ты за помощью никуда не обратился?» А Толя как отрубил: «Нет квалификации на жалобы у меня». Мог бы и сам я, владея пером, вывернуть эти события наизнанку, но не надеялся на успех. Рыбная верхушка крепко меня пасла. Ловкую систему отработали там для обезвреживания моих критических бомб. Рыбный «генерал» звонил дружку своему, второму секретарю обкома партии, ведавшему среди прочих и рыбной отраслью, что сотрудник НИИ такой-то подготовил материал в газету, в котором все переврал. Как не поверить такому деятелю, когда на пикниках и спецдачах он душа компании, центнерами шурует тебе презенты из осетров, икоркой подкармливает. Обо всем аппарате заботится. Как в сказке туей щедринской: медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отправил. Разве не оценишь такого, который без утайки признается тебе, что пять тонн деликатесов передержали сверх критических норм хранения (это значит, что начнут накапливаться в них канцерогены) и пришлось выбросить их народу, в торговую сеть… Вот и поднимает трубку «генерал-губернатор» по рыбе и связывается с газетой. А когда я прихожу туда, редактор, кругленький, обычно золотисто-сияющий, как поджаристый колобок, напускает на себя мрачность Генерального прокурора и заявляет, что принес я клевету на честных людей, что из обкома, мол, был сигнал и вообще мне поостеречься надо. На положительном ярком опыте надо вести людей, воспитывает он меня, а у тебя, говорит, погоня за жареным, непонимание линии партии. А это, мол, дружок, серьезно, к тому клонит, что с душком работаю, так и до антисоветчины можно скатиться. Такая примерно схема. И в завершение редактор выдает что-нибудь подловатое. Один раз невзначай будто об отце напомнил: «Слышал я, что врагом народа был он у тебя, в тюрьме сидел, и нет у него реабилитации». Не созрел я тогда еще до забот в этом направлении.
Не знаю, что за прочность в действительности была у той стены, о какой в наших политических катехизисах можно было прочесть, что ткни, мол, ее – развалится, но та, которая перед нами вставала во второй половине двадцатого века, требовала многотонных зарядов ярости. На своей шкуре чувствовали мы этот парадокс (а может, закономерность истории?): когда фанатики-отцы возводят храм, а дети в итоге наследуют мрачную тюрьму. Тяжелой, ох, тяжелой становилась моя кровь, когда скрежетал я зубами от бессилия помочь другу. «Эх, – думалось мне, глядя на колобка-редактора, – отковать бы такую пику, чтобы, как шашлыки, пронизать ею всех кровососов, паразитирующих на теле народа. Но лучше бы Земной шар раскрутить до того, чтобы посрывали их центробежные силы с планеты без крови…»
ЛК: ИЗ «МОЕГО ДАРВИНА»:
«Как отмечено в моей записной книжке, „удивительные и красивые цветы паразитных растений“ неизменно поражали меня своей новизной среди этого грандиозного пейзажа».
Уверен был я, не смотря ни на что, однако, что все равно не было у меня иного пути, как писать правду, оставаться в Слове верным самому себе, своей совести, будь это литература или журналистика. Для этого надо чувствовать всегда себя в шкуре жизни. Не будешь рыбой – сердце не понять, как говаривал Генри Миллер. Да, надо быть и рыбой, и птицей, и лосем, проникнуться состоянием былки, которую треплет ветер и вместить в себя боль мира. Не мог я мыслить и жить по иному, прочувствовав отношение к творчеству того же Ивана Михайловича Ермакова или Анны Митрофановны Коньковой. Ни за что б ведь не вставила она ложь в свою сказку. Заявляла ж со стойкостью декабристки: «Стоя пусть и похоронят меня, чтоб кости мои не отдыхали». И я не мог прочить иного своим костям…
И вот Савельев заглушил уже стального своего коня и вперевалку идет к нам по земле, как по палубе, протягивает, приветствуя нас, шершавую лопату-ладонь. Весело пожурил Игоря за ежиковатую щетину, с неделю уже не знавшую бритву. Вновь разожгли мы костер, крепенького, чаю-купчика на ночь, можно сказать, заварили. И не один час пробеседовали. С милахой своей он раздрайно жил и в струю ему был наш настрой. Первое, к чему пришли: русский «семейный купорос» – ядреный. Иностранные же показывают по телевизору – молоко даже в холодильнике скисает. Далее – более. Рассуждения Толины оказались для нас с Игорем весьма интересными. Жизнь, мол, есть явление мужское и, естественно, явление женское. Ну, ежели жена – курица, то муж-то петух, че ж забывать об этом, да нам, дескать, живущим в деревне… Разница между мужчиной и женщиной: ж <енщи> на, старея, все более и более углубляется в бабьи дела, а мужчина, старея, все более и более уходит от бабьих дел (А. П. Чехов. Записная книжка). О многом мы проговорили в ту ночь, опорожнив чуть ли не ведерный чайник. Мощно мыслил Толя. Живьем слушали мы с Игорем то, что у Савельева так или иначе разворачивалось в большую книгу. Мощный был наш друг физически и прожитым всем, прочувствованным и прописанным уже в большинстве глав.
И в голову мне не могло придти на Чебачьем, что не издаст Толя роман, что все это уйдет в могилу. Незавершенная книга. Незавершенная жизнь. Незавершенная судьба. Как незавершенные искания моего сына Сергея, который ушел из жизни в расцете ее. Я, по крайней мере, так это воспринимал. Как ни прискорбно это сознавать, но можно было сказать о его кончине по-чеховски: «Умер от алкаголя и добрых приятелей». Из приятельниц была у него некая Раиска одна, такая оторва, что я, увидев ее, готов был придушить эту сучку… С другими женщинами Толя не знался. Попросту объяснил мне однажды свою бобыльную жизнь: «Деньги у меня не шелестят, а нонешние бабы гоняются за купюрами больше». «Может, ты их не видишь, нормальных-то. В романе утонул, как Аввакум стал. Все ишешь словечки, „что речено просто“. „Может быть“, – ответил он и рассказал анекдот от общего нашего друга, замечательного фотокора „Тюменской правды“ Юры Чернышова. Такую ситуацию тот изобразил. В аптеку приходит женщина, очень красивая, в хорошей шубке, в прелестной шляпке. В прекрасных сапогах и т. д. Потом открывается перед фармацевтом абсолютно нагая, под ее шубкой ничего нет. Фармацевт удивленно смотрит. „Я месяц не видела мужчин“ – объясняет она. „У нас недавно поступили очень хорошие импортные глазные капли“ – слышит ответ. „Мне, мол, без разницы“, – завершил анекдот Толя, что растолковал ему Чернышев: – О том же говорит фармацевт даме: посмотри, мол, куда смотришь, перед тобой же мужчина…» «Ты, Толя, как эта женщина ведешь себя», – пожурил я шутливо друга.
За неделю до смерти был у меня Толя дома. Не знаю, сколько гулеванила в холостяцкой его обители навязчивая мужская бражка, но лицо его было будто вывихнутым, тулово в области живота являло собой как бы перетянутого по поясу муравья. Что я мог тогда? Одно: натолкал в сетку картошки, лука, да еще чего-то из сьестного. А дружки-нахалюги вновь нагрянули к нему домой. И в глубоких недрах ночи где-то остановилось его сердце. Притих, он в общем, на диване. Когда гулеване обнаружили это, новый прилив пьянства начался, теперь уже «за упокой»…
В родительский день недавно мы съездили с женой на Толину могилку и посадили там выкопанные на даче цветущие мускари. Головки цветов их на холмике друга в редколесье берез и сосенок у часовенки светятся теперь, как васильковые глазки неба. Вновь будто воскресла та ночь у костра на Чебачьем. И у могилки Толи зазвучал в моей памяти глуховатый его голос. Поначалу – о семейном, о мужеском явлении и женском:
– Мне лично родней и понятней первое. Это – беседы с женой. Высокотемпературное, надо сказать, занятие. И у меня оно чаще утреннее. Со стороны жены хладнокровное и профессиональное, как скубление, значит, курицы. «Допечешь ты меня пьянками, допечешь, – заявляет она сегодня утром. – Вот всажу нож в такое место, откуда не вынешь его, и ничего мне не будет: я же на учете как нервеная, невменяемая, и отвали, сударь». Объясни попробуй этой скаженной бабе, что значит встретиться с другом молодости, с которым не виделся тридцать лет. Понятно, конечно, что петух может и потоптать курицу. Дак что может – должен! Она ж значит – обязана яйца нести… Разнополюсны, в общем, жизнь мужская и женская, и энергетика напряга у них вечная. Сие есть драматизм, но не драма. Это, как говорится, из другой оперы. Ну, а любовь? В такой схеме ей вроде бы и места нет. Но это с первовзгляда только. Любовь – не фигли-мигли и через равенство не совершается, как заметил один мудрец. И я с ним, значит, солидарен. В том, что равенство мужа и жены некрасиво. А также в другом: любовь требует иерархии, то есть мужской власти, с одной стороны, женского содействия ей, со второй… Вспомнилось мне это на даче. Да так пронзительно, что диво дивное прям-таки. Началось же все с птички-невелички. Жаркий июль, плюс 32. Сушит зелень всю добре. Бросаться поливать надо. Но внезапная остановка. Услышался сразу, как только ступил в садок свой, стрекот цикады. О ней подумалось. Но где они в Сибири? Понял потом у куста рябины, что это птичка. Чечетка обыкновеннейшая. Метрах в трех так вскочила на ребро металлического забора. Покачивается и звонко так «цикадит». Различил уже точнее звучок ее: «че-чет, че-чет, че-чет». Че-че, в общем, мил человек? Спрашивает будто: «Как я вам нравлюсь, сэр?». А потом: «фи-ю-ии, фи-ю-ии». И вновь цикадное. Будто красуется и напоказ миру себя выставляет, как та бабушка в рассказе у Бунина, что заявляла: «Человек рождается напоказ жизни». Подобное в трелях чечетки читаю. Красотка, обаяшка-птичка. Грудь малиново-красная (самчик). На горле под клювом черное пятно, как бабочка у художника-франта.
Ринулся потом к озерцу на задах дачи, мостик оборудовать, чтоб насос – воду качать на полив картошки – спускать было сподручнее. Тяжелую скамью банную устраиваю. Сосед Володя дал бродни, и я, выкладываясь всей мускульной силешкой, занимаюсь водолазным делом. До прострелов в спине. Жена ж отвлеклась тем временем на чечетку. Тот же, наверное, самчик обжил «прихожую» дачи – у елей с раскидистой липой и черноплодки-рябины. С захлебом потом живописала соседке Валентине Андреевне, которая сменила неизменную свою тельняшку на цветную кофту с пальмами из Дубайи (дочь Алла привезла в подарок). Жалковала моя благоверная, что фотоаппарат в сей раз не прихватила, до этого был он с ней, и наснимала она цветочный рай свой во всех видах. Хороша была бы в ансамбле цветов художественно выразительная чечевица. День завершился баней, к полуночи поустраивались мы с женой каждый на своем диване на сон. Благостно гудела уставшая моя спина. Нинуля моя в который раз уже читала «Белый Бим черное ухо» Троепольского.
– Послушай, послушай! – воскликнула она. – «Лохматый пес, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем это означало: миру – мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался быстрее и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:
«Ты приходил когда-нибудь сюда», – сказал Бим и попрыгал дальше.
«Эх, работа…» – сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.
Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемье сумерек, без людей ему стало тоскливо-тоскливо». Жена смолкла, впечатлённая читанным, но затем снова полыхнулась:
– Слушай, слушай. «Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! Жжих-жжих! Бим не знал, что это такое – жжих! жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора с тем же ведром вошла женщина. Из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим никогда не чуял, ни разу, а это – другое дело, но все же молоко – это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коровой».
По-новому открывал я для себя в эти минуты писателя, который кроме всего прочего был дорог мне тем, что воронежский он, а это родная мне с юности земля, и здесь обрела последний покой моя мама. Так вот истинную правду говорил Гавриил Троепольский о корове и деревенском и городском молоке. Подумал я, что стал он переводчиком Бима на человеческий язык не просто лишь потому, что сопереживал за него, а и по той пичине, как я разумею, что он счел как человек, как хомо сапиенс, обладающий даром письма, долгом своим выразить внутренний мир собаки. Не те же ли чувства охватывали Сергея Есенина, языком которого говорила сама природа? То же у гениального чувствователя Чехова: «Шел по улице такс, и ему было стыдно, что у него кривые лапы». Солидарно звучала моя мысль и в отношении себя любимого: это и мой долг на земле – быть выразителем жизни, души и мысли всех братьев наших меньших, растений, начиная от былки до баобаба. Ту же былку-горемыку, продутую и продуваемую всеми вселенскими ветрами, кто прострадает? Писатель.
Но жена меж тем продолжала читать:
– «А здесь все это смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей обаятельной, какой-то розовой пахучестью».
В сознании моем вспыхнуло: «Как это реминисцирует с Сергеем Есениным»:
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
– «Не будем спорить, – слушал я далее Нинулю свою: – уж если человек иногда отличает молоко от „молока“, то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешены с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро, да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима».
Потом разговорилась жена о чечевице, устроившей ей вернисаж. Припомнила общение с желной, крупным живописным дятлом. Я подумал, что вполне она могла бы писать довольно-таки симпатичную прозу. Но – живописание дятлих, тут-то она и выдала такой коронный номер, что сонливость мою как рукой смело:
– Все в трусиках, одна ж в стрингах, пися еще как-то прикрыта, а попа голая.
Я захлебнулся в смехе. Отпад прямо-таки. Как моя женушка разглядела там писю, каким образом виделась ей птичья попа? Я век бы не додумался увидеть такой «патрет» птицы. В стрингах… Слабо это любому мужику. Ну молодкой-человечихой любоваться – другое дело, стринги-бринги здесь, как у дачной соседки Аллы, не помеха, а даже наоборот. Тут-то и вспомнился мне Толя Савельев. Истинно, разные это создания, мужчины и женщины. То же скубление курицы-мужика Толиной женой – сугубо женское дело. Так что пиление мужиков и прочие бабские штучки жен наших – высокий их профессионализм, особая своя ментальность. Ясно мне стало до бубочки, что разнополюсны ум мужской и ум женский, ментальности их. Обмыслив, однако, «космическое» Евангелие от Фомы, внес я для себя лично и коррекцию. Не все неравенство женщины и мужчины. Брезжит свет в конце тоннеля на путях движения общества к идеалам Богочеловека. Вдумаемся в Иисусово. Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним как молекула, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когдав вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, – тогда вы войдете в царствие. Незаживающая рана для меня Толя Савельев. Такой бы романище мог сотворить он о деревенской своей жизни. Но не успел. А жернова его романа ворочались в нем, и много «муки» он уже намолол, и вспоминается друг мне всегда слитно с Чебачьим, где купался я в рифмах волн. На гребень жизни хотел вывести Толя сшибку женского и мужского начал в жизни. Толстой из него, конечно б, не получился, да и хорошо б было: Савельева могли б заиметь мы в Отечественной литературе. А что пронзал бы он читательские сердца до боли щемительной – сомнений у меня и быть не могло: знал я Толину прозу.
Настоящий художник слова он, певучий. Последние золотые денечки августа у него, молодое бабье лето – тревожны и трепетны своей тихой и неизбывной любовью к убегающему лету, они сыты им, и они беременны… Будто беременная, ширится, округляется, полнеет и замирает тихим глубоководным омутом река. Такой хоть живописный штрих из рукописи повести «Августовские зори»: «Кое-где еще в домах светились окна, расстилая через грязную улицу желтые широкие половики света». Вовсю золотится над деревней, где живут герои повествования, выспевшая луна, лучится она в молочной пыли ярко, звонко. А в летнюю пору на лугу ворчливо, будто старые свекры, скрипят полуночники-коростели. Вот теплая, сухая осень: в солнечном мареве невесомо, расплывчато плавают белесая камышовая шелуха, ватные паутинки, кочуют, купаются в прогретом воздухе мелкие паучки-путешественники. И плотная синь неба, и морозная пыль посеребренных берез, и мохнатые грачиные гнезда в развилистых вершинках – это все Боровлянка. А гуляют как в Боровлянке! Будто сено мечут – хватают, торопятся, словно в последний раз на этом свете… Речь героев повести оценить можно по-аввакумовски: «что речено просто», то и хорошо, «понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет».
Частенько бывал он у нас на Чебачьем. Вечером подгадывал, по окончании рыбинспекторских дел, под костерок, как правило. Очередной такой приезд вновь был ознаменован большим костром. Игорь подбросил березовых комлей в него, и он запостреливал, взвилось в небо веселое пламя.
– Ведро чая выдуем? – весело спросил Савельев.
– Два не хочешь? – хором почти ответили мы с Игорем. И пошло у нас ночное празднество. И словно бы кослородом задышала измаянная душа Толи Савельева, заискрились, зажглись тусклые в последнее время его глаза.
– Ребята, ребята мои дорогие, какой поэт объявился в нашем райцентре – обалдеть можно! – восторженно сообщил он. – Олег Дребезгов. Тихо редакторствовал он в райгазете, значит, фунциклировал как бы. Я ж вытащил его за заседание своего литературного кружка при редакции. Он, значит, и выдал по першее число нам. Так Виктор Петрович Астафьев в Вологде, когда работал в депо где-то, огорошил литобъединенцев классным рассказом.
И Толя с жаром, покачиваясь, выпуская словно птиц, строфы с лопастистых ладоней, стал декламировать:
Кто вы и кем вы согреты,
Дела мне в общем-то нет.
Сволочи вы, не поэты,
Сволочь и я, но – поэт!
Разве не вы после оргий,
Веруя только в рубли,
Дохли от слез и восторга
У нефтяной струи.
Господи, вы же люди!
Вслушайтесь в плач осин,
Или вам душу выжег
Экспортный керосин?
Что вам хлеба и овины,
Что вам олений мор,
Варвары и – властелины,
Мать вашу в Самотлор!
И потом читал еще, как замираем мы понемногу в отчей стране и скрипит флюгерами на юг и восток взбалмошный ветер Отечества, как стонут по холмам дерева, очумев от пожаров, молчат в трауре гари. Светятся безучастно тусклые от дымов над планетой звезды, будто дозы наркоты приняв. Хмелеют они от тоски во вселенских туманностях, пульсируя, мерцая, светясь и вспыхивая. Опуская с них душу райцентровского поэта, друг наш закончил экспромт прозой.
– А чудик он, оказывается, какой, ребята мои дорогие. Приехал ко мне из Тюмени, значит, прозаик божьей милостью Зот Тоболкин, и свел я его с Олегом. Сам побежал в свою кочегарку, а они поддали нехило да пошли по Казанке вечерним воздухом подышать. А сумерки уже. Остановился Олег у райкома партии, в аккурат напротив окна секретаря по идеологии Аржиловского Василь Сергеича. У него только и горел свет. Олег возьми да и запой «Боже, царя храни!» Это ж все равно, что в Ватикане затянуть «Эх, дубинушка, ухнем…» А Зоту того и давай, шкодный же он мужик. И они вдвоем уже заголосили гимн царю. Аржиловский-то добрячий мужик и таких мужиков он любил, писатели его, по сути, только и навещали в райкоме. Раскрыл Василь Сергеич оконные створки и кричит певунам весело, просит в «трио» его принять. Я, дескать, тоже хочу петь. Помру без вас я с тоски партейной…
– Весело с тобой, Толя, – сказал я ему, – мастак ты на это дело.
– Леща бросаешь, Саня, яврей ты яврей, как говорит твоя мама, хитер и мудер.
– Дай мне Бог дожить сто лет с этот самый ум, – парировал я шутливо и продолжал: в том же духе: – Ну, ладно, уговорил. Слухайте анекдот про яврейские подходы к жизни. Встретились Абрам и Мойша. Первый собрался убраться к богу. Прощание. Все, мол, я сделал, все тип-топ у меня, со спокойной совестью могу предстать пред Господом. Мойша ему: «Ну, счастливого тебе пути, Абрамоша. Только с Христом встретишься там – про меня ни гу-гу, ты меня не видел. Не ви-дел!». «По рукам».
Дружное всеобщее гы-гы-гы…
Толя, конечно же, заночевал у нас, а утром я попросил его поснимать пейзажи для книги мне.
– Как чувствовал, что придется фотографировать, и захватил с собой аппарат, – разулыбался он чисто и искренне, без потайки выказывая свою душу. – Дак я вообще почти не расстаюсь с ним, в крови живет газетная моя фотокоровская работа.
Поехали с Толей на Безгустково. Он не гонит мотоцикл, идем ровно, высматирвая «кадры». Толя неторопливо, наклоняясь ко мне, рассказывает:
– Веди в записках твоих такую линию: перегибы, значит, случаются у нас с рыбоводством, как с сельским хозяйством было в коллективизацию. Зарыбляют и добрые озера, и лужи, но не все осваивают потом. А это не фигли-мигли тебе. Будь моя власть – я б дал рыбхозу все, что требуется, но с условием – облови все озера, если зарыбил, не выловил – отвечай по суду. Помню, значит, с рейдом приехали мы на одно озеро. А рыбари там – старик со старухой. Она в старых подшитых валенках, поношенной затертой фуфайке, опоясана бельевой веревкой. Руки иссиня-красные, как лапки гусиные, судорогой сведены, она, значит, дует то на одну, то на другую. У старика одна нога деревянная, на торце ее резиновый кружок. Инвалид войны дак. Тоже задубел, как старуха. Наловили они ведра два карася-желтячка. Я спросил: «Отчего пелядь не ловится?» Старик изумился: дак она ж, мол, того, сгорела от замора. А людям половить не дали. И сами не гам, и другому не дам. И как не согласиться со стариком этим, что рыбхоз, как собака на сене! «Домашнее, под боком у села озеро, и не порыбалишь, – жаловался он, – а в магазине – шаром покати. Мойву выбросят – в сельпе душиловка, бежит деревня, будто пожар случился». Грязный трактир у станции. И в каждом таком трактире непременно найдешь соленую белугу с хреном. Сколько же в России ловится белуги! (А. П. Чехов. Записная книжка). Ну, и что, должен был я штрафовать этих двух рыбаков. Дескать, браконьеры старик со старухой? Может, хищники-то – деятели рыбхозовские. Весной приехал на то же озеро, а к берегу прибило мертвых сазанов, пелядок, тупоголовых, как мины, карпов. Ужас! А чайки что делали на кормежке! Воздух, казалось, стонал от них.
На ферме падеж скота – виновных найдут, до неба ор разведут, накажут, а тут разбой форменный, а не несут люди наказания. Развращаются, как развратился бывший директор Козюля Иван Ефимыч. Не Козья ножка, а Козюля, это не фунт изуму! Потому что носились с ним как с писаной торбой. Как же, не боится все на себя взять, энергичный, решительный. Заехал я в контору рыбхоза однажды, а Ваня со вторым секретарем райкома бутылочку в аккурат раздавили, и гость его только подхваливает, что повезло району с таким руководителем. Боевой, мол, мужик! Вот он и убивал живое дело, инициативу людей глушил – дак мало ли таких сейчас! Надо было убирать человека с директорского поста, а его только гладили по головке: молодец, мол, Ваня… Медвежью услугу оказывали, честолюбие его разжигали…
Ты знаешь притчу о лжи и правде? Заспорили они, кто, дескать, лучше из них. Ложь говорит: «Я людям больше пользы приношу». Правда, значит, не соглашается с ней. Решили на практике спор разрешить, че, мол, воду словесную лить. Пошла ложь к сапожнику. А тот отвратно работает. Подметки от сделанных им сапог отлетают. Ложь его расхвалила: какой ты молодец, мол, быстро работаешь. У сапожника, значит, настроение поднялось, и он хлеще того сапоги стал тачать. Заходит ложь к пекарю. У того хлеб то сыроватый, то с перепеком. Ложь ему комплиментов наговорила, и пекарь, ободренный-то, живей еще заработал. Направилась ложь к хлеборобу, а у того поле сорняками заросло. Тоже, значит, только хорошее говорит ему ложь, подхваливает. Мужичек, знамо дело, усерднее заработал. Сменила ее правда. Высказала она сапожнику все, что о нем думала. У того, значит, руки и опустились. К пекарю подошла – тот с расстройства хуже еще пропекать хлеб стал, к пахарю – этот вообще духом пал, и выше его сорняки вырастать стали. Тут, значит, и спрашивает заводила спора: «Так что ж лучше – ложь или правда? Где я прошла – усердие у людей появилось, а где ты – сникли люди, разорство в делах…» Жизненная ситуация. После лжи сапог больше. Но каких? Худых. Хлеба больше непропеченного. Нет, если от правды горькой и опустятся руки – на время. Потом все равно лучше будет. С правдой, значит, жить надо, по совести… А то вот дохвалили Ваню… Встретил его недавно – наклюкался он до ультрафиолетовых соплей. По сударкам, значит, пошел, семью терять, детишек рассеивать. Кому как, а мне дак жалко Козюлю. Козью ножку-то еще пуще. Много ж доброго было в нем, но загубленный он теперь человек…
Через несколько дней Толя, вновь колеся по району, завернул на Чебачье к нам со страшной вестью. Потерялся дружок его Ваня, ночь дома не было. Утром жена пошла в коровник, а он там на крюке висит. Повесился. Вынули из петли – голова, как у птицы убитой, свалилась на грудь.
Сообщив нам об этом, друг наш обхватил руками чубатую свою головушку. Зрачки глаз его сжались и поблескивали, как свинцовые ядрышки. Я ж подумал тогда с горечью: «Эх, Толя, Толя, ты бы хоть сейчас с резьбы не срывался». Что ж это за жизнь такая, что ни талант, то нескладуха всякая, как и у Созинова с Савельевым. Но Толя в водочку ударяться стал. Вот с женой и расплевались они. В таком виде застал я его однажды в его халабудистом жилище.
Толя облапил меня, беззвучно заревел, а потом, нечесаная хмельная головушка, он стал покачиваться у стола, бормоча осовело:
– И вот я встал и вышел за ворота, где простирались желтые поля. Это, старик, Коля Рубцов встал и в опустевшие поля подался. Как жестоко, бля, эти строчки жизни стоят.
Что-то рвалось в его душе, корчилась и выстанывала она:
– Это страшная песня. Простенькое сочетание слов, а бьет в сердце. Как и такие строчки другого уже поэта.
И завзмахивал он лопатами-крыльями своих ладоней, декламируя:
Ни домов, ни огней —
Я по лесу бреду.
Вот уже столько дней
Снега первого жду.
Кто травой, кто звездой
Мерит времени бег,
Я снегами живу,
Для меня время – снег.
Почему-то светло,
Как от ласковых слов,
Почему-то тепло
Мне от новых снегов.
– Дай мне бог такие слова найти, – говорил Толя, продолжая покачиваться. – Ущемили меня, да? Костью в горле я им стану еще.
Он поднял голову и глядел на меня мутными расширенными глазами. Осознав вновь, кто же перед ним, вскриканул:
– Старик! Ты для меня живая вода.
И подобие улыбки полыхнуло на его лице. Он обмяк вдруг, опять маятником стало ходить его тело. Он запел в такт качаниям:
В горнице моей светло-оо,
Это от ночной звезды-ы.
Качания одни, немой волной Толя стал, и опять песня:
Матушка-аа возьмет ведро-о,
Молча принесе-ет воды.
Точка. Стоп-кадр. Прочувствовать бы мне всю глубину этих его слов! Слов человека со дна. Они ж есть истина. А я так или иначе посодействовал переезду Толи в Тюмень. Невесту ему подыскал. Хорошая женщина. Все было вроде нормально. Но засыхал он без озер, березовых колков, без искренности деревни, где люди, души их на виду. Это все было его кислородом. Да пьянь всякая навалилась на холостяцкую квартирешку Савельева. Благо, что участковый у него никогда не появлялся и с милицей друг мой дела не имел, а то мог бы попасть он в такой протокол, на какой горазды иные из тюменских правоохранителей. Один обнародовали в «Тюменской правде» под рубрикой, слава богу, «Улыбается Фемида»: «Установлено, что гр. Михайлов ведет себя нецелесообразно». У нас в Тюмени драки и те весьма тихие и нареканий особых со стороны населения не вызывают, «целесообразные», одним словом. Как у свидетеля некоего по делу: «О поведении моих соседей ничего плохого сказать не могу, так как дерутся они всегда молча». Но «гражданина без поводка с двумя собаками без намордника» увидеть все ж можно. Вообще псины в Тюмени особые. Вот из одного милицейского протокола явствует, что некий гражданин «Завел большую собаку, которая бегает по двору, на замечения жильцов отвечает нецензурной бранью». Хорошо хоть собаки наши не закусывают детишками, как это случилось однажды где-то под Кемерово. Но один мощный рассказ о тополе, который качался перед его окном, скрипел, когда разыгрывалась непогода и ветра мощно трясли старое дерево, он все ж написал. Корни, благо, держали. Толя в городе оказался без корней и без ветвей, естественно… А я ведь тащил его энергично в город. Причиной считал одно: здесь у него появлялся хоть какой-то шанс напечатать свой роман. В общем, внес свою лепту, чтобы сорвать его с места, где все питало натуру Савельева и творческие его искания. Но мог же убедить и оставаться на месте. Верю, что смог: слово мое он ценил. И чувствую сейчас вину за собой. Не написать об этом тоже не могу: с неба чайка, бабушка Анне наверняка поглядывает на меня. Она бы хрен когда вставила благородную ложь в свою сказку: не гнется сосна – так, не погнувшись, жила и Анна Митрофановна. Потрясающе же это ее заявление, сто раз готов его повторить: «Стоя пусть и похоронят меня, чтоб кости мои не отдыхали»…
Живописал я ранее гостевание это свое у сокровенника по озерному братству. Как забутылили мы. Как размахивая по-вороньи, словно крылами, лопатистыми руками, опустился он на старую щербатую табуретку и, выпялившись на меня, заговорил со злостью. Что сон видел про Пастернака. Будто треснул он его чем-то, тот тоже его – хрясь по черепку. Вновь звучало в моем сознании про неприемлемую им грохочущую слякоть, весну черную, про ветер, что криками изрыт… Что урбанизм, мол, это, шутовизм, что, похлебку из металлических стружек на курином бульоне сварить, дрист желтый…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































