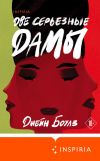Текст книги "Сумма поэтики (сборник)"

Автор книги: Александр Скидан
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Свобода отрубленной головы[82]82
Впервые (без названия) – в виде рецензии: Критическая масса. 2002. № 1.
[Закрыть]
Александр Бренер, Барбара Шурц. Апельсины для Палестины. – СПб.: Преодоленное искусство, 2002. – 91 с
Может быть, они установили царство Террора. Но воплощенный в них Террор исходит не от той смерти, на которую они обрекают других, а от той, на которую они обрекли себя. Ее черты они несут в себе, думая и принимая решения с грузом смерти на плечах, – вот почему мысль их холодна, неумолима и наделена свободой отрубленной головы.
Морис Бланшо
Книга ставит в тупик. Формально перед нами, вроде бы, поэзия, но назвать «Апельсины для Палестины» книгой стихов не поворачивается язык.
Почему? Потому что стихи здесь, по признанию самих же авторов, далеко не главное. Тогда что же?
Сами по себе, без теоретической рамки, каковую составляют предисловие и статья «Необходимость культурной революции», они воспринимались бы просто как восходящие к площадному театру и скоморошеству, не лишенные остроумия, хотя и тенденциозности тоже, опыты, новизна и оригинальность которых (впрочем, относительные) – в контрастном соединении «низовой», устной культуры с «высоколобым» (политэкономия, шизоанализ, права меньшинств, классовое сознание) материалом; ходульного раешника – с проблематикой cultural studies и революционной теорией; частушечной рифмовки – с экстремистскими лозунгами; обсценной лексики – с наукообразной терминологией; обличения империализма и военщины – с инвективами в адрес политического и художественного истеблишмента, от Мизиано до Пригова, от Курицына до Буша. Агитпроп; лубок; возрождение традиций пролетарской поэзии, народной по форме, интернациональной по содержанию? Почему бы и нет; претензии к подобного рода ангажированной поэзии общеизвестны: она поддается пересказу, тяготеет к иллюстративности («вбивание готовых идеологических гвоздей»), опасно близко подходит, рискуя подменить их собой, к газетной передовице, памфлету, речевке для коллективного скандирования. Далее, и это, возможно, более весомый упрек, она остается в плоскости говорения, не порывает с дискурсивностью, не выходит за пределы актуального порядка истины; то есть пребывает в потоке господствующих стратегий вульгарной коммуникации. Такая поэзия держится на удачных каламбурах, на инерции легко запоминающегося ритма, нарочитой грубости приемов, опираясь на культ прозрачности и общедоступности. Опять-таки, почему бы и нет; можно, в конце концов, не любить стилизацию под фольклор, прямолинейность, патетику, дидактизм, предпочитать другие, не столь профанные формы поэзии и в то же время – отдавать должное юмору, лихости, изобретательности, с какой поэтическими средствами решаются внеположные поэзии задачи.
Американский президент – фашист и болван…
Азиатский президент – паршивый баран…
Латиноамериканский президент – банан…
Африканский президент – окровавленный чемодан…
А сам ты, поэт, – пустой барабан!
Это хорошо; и параллелизм, и внутренние рифмы, и саморефлексия, – всё на месте. Или, в ином регистре:
Когда проект Критики и Просвещения во Франции сходит на нет,
В Газе остается надеть динамитный пояс и послать Аллаху сердечный привет!
Эти и другие строки и отдельные стихотворения вполне работают, они убедительны, даже по-своему виртуозны.
Все, однако, осложняется, как только мы переходим к предисловию и статье. Словно предвосхищая угрозу незаинтересованного, эстетического восприятия, авторы выстраивают контекст, блокирующий возможность эстетического суждения как такового. Более того, они насильственно, чтобы не сказать – авторитарно, отказывают эстетической сфере в самодостаточности, лишают ее суверенности: «Мы, вообще говоря, не верим в автономность поэзии, не верим в ее самодостаточность, мы считаем поэзию действенной лишь постольку, поскольку она включена в политический праксис и встроена в материалистическую и историческую методологию, направленную на революционное преобразование мира».
Для начала ограничимся замечанием, что действенность революционной риторики, ее эффективность сегодня не менее проблематична, чем, например, риторики традиционалистской поэзии, если, конечно, не предавать забвению (само)убийственный опыт воплощения марксизма-ленинизма в жизнь в одной отдельно взятой стране. В ряде стран. Некритическое возвращение подобной устрашающей фразеологии, воинственное бравирование ею рискуют привести к обратному эффекту: не политизировать эстетику, а эстетизировать политический дискурс. Забегая вперед, скажем, что наиболее уязвимым местом теоретической «рамки» представляется как раз отказ авторов от всякой попытки осмыслить провал коммунистического проекта в Советском Союзе или хотя бы удерживать его как горизонт размышлений. Оба текста пестрят респектабельными иностранными именами: Фуко, Грамши, Адорно, Дебор, Терри Иглтон, Лукач, Батлер, Джеймисон, Лиотар, Альтюссер… и при этом обходят молчанием Ленина, Троцкого, Сталина, коллективизацию, ГУЛАГ. Слишком неблагозвучные имена? Слишком близкий и травматичный опыт? Но именно он-то и взывает к анализу, к проработке в психоаналитическом смысле. Последствия его философского замалчивания самым трагическим образом сказываются на судьбе наследия Маркса, на наследниках Маркса.
Наше беспокойство только нарастает, если обратить внимание еще на одну деталь. В выходных данных, там, где обычно помещают название издательства, стоит: «Преодоленное искусство». На шмуцтитуле это словосочетание выделено жирным шрифтом и выглядит как уточняющий подзаголовок, относящийся к названию, но его функция, разумеется, шире. Если угодно, оно-то и задает «тупиковый» режим чтения книги, режим двойного зажима.
Каковой, возможно, а отнюдь не стихи сами по себе, и есть наиболее интересное в книге.
В любом случае, все разыгрывается между: а) предисловием; б) стихами; в) «Необходимостью культурной революции»; и г) «Преодоленным искусством».
Констатация: «Преодоленное искусство». Что это: фирма; корпорация; тандем; фракция; торговая марка? Или, может быть, проект (артистический? экзистенциальный?)… Или все это вместе, разом?
Уже преодоленное. Вот этими вот стихами, каковые, стало быть, являют собой пример, образчик «преодоленного искусства»? Не только. Но и стихами тоже? И нет и да.
Нет, потому что «стихи – это еще не всё и отнюдь не самое главное, а в первую очередь необходимы революционная теория и сопротивленческий праксис, критическая мысль и освобождающее действие».
Да, потому что «поэзия – оптимальная речевая структура для выражения анархического бунта и глубоко осознанного революционного усилия».
Итак, поэзия не самодостаточна, не автономна, она вообще «не главное»; поэзия отвергается. Но она может послужить революционному усилию, делу угнетенного класса; «поэзия – это преходящая форма исторического сознания, которую нужно мобилизовать сейчас для борьбы скапиталом и мировой нищетой»; поэзия мобилизуется (экспроприируется), тем самым становясь революционной поэзией.
Так понимаемая (экспроприированная) поэзия превращается в инструмент, инструментализируется: жест, вписывающийся в определенную идеологическую традицию, идеологический жест.
Между тем вся «Необходимость культурной революции» посвящена борьбе с идеологией. При этом молчаливо подразумевается, что существует только одна идеология, а именно «буржуазная», каковую и надлежит разоблачать. Так, словно разоблачающий находится в некой нейтральной точке, точке «объективной истины»; словно не существует – не существовало – никакой другой системы идей (идеологии), обеспечивающей эту «точку» теорией, методологией, критическим инструментарием, аппаратом (интеллектуального) подавления и т. д. То же «слепое пятно» в сердцевине аргументации, то же забвение травматического советского опыта. Та же логика двойного захвата.
Она распространяется и на культурную революцию. В статье о ее необходимости не только ни разу не всплывает имени Мао, не только не упоминается реальная культурная политика «великого кормчего», включавшая в себя репрессии и погромы, – но на щит поднимаются француз Рембо с его лозунгом «Изменить себя!» и вся «так называемая авангардистская сопротивленческая культура (дадаизм, сюрреализм, ситуационизм и тому подобное)». Однако авангардистская традиция, на которую ссылаются авторы, возникла отнюдь не в стране «победившего социализма»; в Китае и в Советском Союзе, где действительно совершилась культурная революция, эта традиция преследовалась, а от радикальных художников и поэтов избавлялись. Это отнюдь не означает, что не надо читать Рембо, Батая или Арто, – это означает, что их нужно читать наряду с Платоновым, Введенским, Мандельштамом, Шаламовым.
Захватывая, экспроприируя маоистский концепт «культурной революции», авторы изымают его из конкретного геополитического контекста, лишают реального исторического содержания. Одна – сопротивленческая, авангардистская, диссидентская – линия при этом валоризуется, тогда как другая, принадлежащая той же «левой», «коммунистической» серии, – репрессивная, тоталитарная, сектантская – вытесняется.
С тем чтобы триумфально выплеснуться в финале. Ибо наиболее важным и актуальным источником «левой культуры» объявляются в конечном итоге «РАФ, черные пантеры, анархисты, палестинцы, сапатисты». Тон авторов становится ликующим, экстатичным: «Посмотрите, сколько в этих бунтующих, порвавших с институциями, телах эротизма и железной необходимости! Сколько опыта! Это бесконечно круто, у этого стоит учиться и переучиваться». Круто? Эротизм? Скорее, Танатос. Зеркальное отражение государственного террора. Амнезия и анестезия. Амнезия: Нечаев, народовольцы, «Черный передел», Савинков, Азеф, провокаторы, двойные агенты, слияние с криминальными структурами и спецслужбами, тактика запугивания своих и чужих, насилие как единственное, универсальное средство, как оборотная сторона политического бессилия, расправа с инакомыслием, продразверстка, трудодни, подавление рабочего движения, полное презрение к пресловутым массам. Анестезия: боли. Собственной, когда рука берется за оружие, и – другого, когда направляешь это оружие ему в лицо. Нечувствительность к боли превращает революционера в фашиста: железная необходимость.
Предисловие завершается следующими строками:
Да здравствует революция!
Да здравствует самоопределение протестующих масс!
Да здравствует свобода и справедливость!
Да здравствует жизнь! Смерть смерти!
Нетрудно показать, что если революция, идущая в этом списке первой, – верховная, абсолютная ценность, не подлежащая обсуждению, то всякое дальнейшее самоопределение мгновенно лишается смысла. Равно как свобода и справедливость. Они уже стоят под знаком революции, подчинены ее логике, не оставляющей выбора: «справедливость» может быть только революционной, т. е. карающей, а «свобода» – ограниченной революционной необходимостью, т. е. несвободой. Да здравствует жизнь? Но «жизнь» также принесена в жертву, подверглась отрицанию во имя превышающей ее ценности. Отрицание отрицания – «Смерть смерти!» – диалектическая увертка, направленная на спасение концепта «жизнь» и одновременно совершающая перенос, трансфер «смерти» за пределы революции. Как если бы смерть, которую несет с собой революция, была хорошей, праведной, необходимой смертью, убивающей плохую, неправедную, не необходимую; как если бы революция, эта благая весть, дарила бессмертье: смертью смерть поправ.
Что толку уличать авторов в демагогии? В революции, как и в благой вести, действительно присутствует абсолютное, если угодно – абсолютно великое: обетование, завет. Беньямин прав, в учении о бесклассовом обществе Маркс секуляризировал представление о мессианском времени[83]83
Беньямин В. О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // НЛО. 2000. № 46. С. 89.
[Закрыть]. Это представление утверждает справедливость по ту сторону закона и права: утверждение, которое необходимо хранить, которому необходимо быть верным. Но также необходимо освободить от всякой догматики. Справедливость не восстанавливается ни местью, ни наказанием, ни диктатурой пролетариата, выступающего в роли мессии; террор ввергает впорочный круг, в дурную бесконечность экономии насилия: высшая несправедливость. Террористы, эти рыцари чистой негативности, жрецы ничто, служители культа революционного Танатоса, не хотят считаться с возможностью ожидания без надежды, мессианского утверждения без мессии. По словам Бланшо, «желая абсолютной свободы, они знают, что тем самым они желают своей смерти, осознают отстаиваемую ими свободу как осуществление этой смерти, так что вследствие этого еще при жизни они действуют не как живые люди среди живых людей, но как существа, обделенные существованием, как общие мысли, как чистые абстракции…»[84]84
Бланшо М. Литература и право на смерть // Он же. От Кафки к Кафке / Пер. с фр. Д. Кротовой. М.: Логос, 1998. С. 30.
[Закрыть].
В рассуждениях Александра Бренера и Барбары Шурц чувствуется налет зачарованности террором, его героической, жертвенной стороной. Может статься, ими движет не поза, не карьерные соображения (на художественном рынке сегодня ничто не пользуется таким спросом, как радикализм), а искреннее нетерпение, подлинные ярость и гнев. Однако тот же эмоциональный экстремизм (если только он) подводит авторов к двусмысленной крайности пропаганды. Пропаганда манипулирует языком и людьми, поскольку озабочена не истиной, а вербовкой сторонников. В этом смысле, действительно, она «преодолевает» искусство: тем, что превращает его в функцию, в инструмент. Обделяет существованием. Чистое заблуждение – или лицемерие – думать, будто с помощью подобной операции можно изменить мир.
Конец перемирия
Заметки о поэзии Кирилла Медведева[85]85
Впервые опубликовано в: Критическая масса. 2006. № 1; в качестве препринта опубликовано также на сайте «Полит. Ру» 20.03.2006 (http://www.polit.ru/article/2006/03/20/medvedev/).
[Закрыть]
Кирилл Медведев. Тексты, изданные без ведома автора / Сост. Глеб Морев. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 232 с (Серия «Премия Андрея Белого»)
Погоди
я посмотрю
как идут
облака
как идут дела
Всеволод Некрасов
О новой книге Кирилла Медведева невозможно говорить без двух предыдущих. Между ними есть очевидная преемственность, но есть и разрыв (даже разрывы). Разрыв – это всегда симптом. Симптом развивается, этим и интересен. Собственно, Медведев и начинал как такой симптом. Чего? Сумятицы, растерянности, подспудного ощущения, что произошло что-то непоправимое, притом что вроде бы ничего не произошло. Всё хорошо. И всё плохо. «Разброд и шатание», если воспользоваться идеологической формулой, еще вчера прозвучавшей бы в лучшем случае издевкой. (К проблеме идеологии надо бы вернуться, в том числе и в разрезе «идеологии художественной формы». Пока отметим мимоходом, что 1990-е прошли под знаком «конца идеологии», распада экзистенциальных территориальностей и аксиоматик, торжества частного над общим во всех сферах, солидарного ухода от солидарности, по удачному выражению Артемия Магуна; это важно – как исторический фон, формировавший умонастроение поэта и той среды, из которой он вышел. Таков, в общих чертах, background.) А что же литература?
<…>
а литература предала читателя
а может и наоборот – читатель предал литературу —
он обменял ее на вульгарные развлечения
дешевые приключения
переключения
политика мистика
психология
компьютер
кинематограф
пляски святого Витта
дикие судороги обреченных
на краю преисподней огненной
геенны кипящей
и я думаю
что взаимное предательство произошло
Тут важно, кто говорит, откуда (и, разумеется, как). В отличие от сходных – по смыслу – сетований и инвектив, частенько раздававшихся в те же 1990-е со страниц толстых журналов, стремительно терявших тиражи и символический вес, инвектив, исходивших от бывших властителей дум, махровых «логоцентристов», здесь говорит человек совсем другого контекста, другого поколения. У которого вроде бы не должна болеть голова по поводу таких смешных категорий, как «литература» или, тем более, «предательство». И не потому только, что это поколение без труда вросло в новые медиа и доминирование аудиовизуальной культуры, в ущерб традиционной письменной, воспринимает как должное. Как изящно написал в своей рецензии на первую книгу Медведева «Всё плохо» (из нее и взята вышеприведенная цитата) Николай Кононов: «Пишущие молодые люди простодушно и нелукаво вдруг стали акционерами, сценическими деятелями, престидижитаторами, диджеями и даже наперсточниками. <…> Этот контекст воистину свеж»[86]86
Кононов Н. [Рец. на кн.:] Медведев К. Всё плохо // Критическая масса. 2002. № 1. С. 18.
[Закрыть]. Для полноты картины к этому списку надо добавить тех, кого прямо называет в своих текстах Медведев: «молодую буржуазную интеллигенцию», дизайнеров, фотографов, журналистов, копирайтеров, завсегдатаев модных клубов, «бобо» (буржуазию + богему). И вот, номинально от лица этой новой публики – но и ей же в лицо – выступает Медведев. Мобилизуя соответствующие средства, чтобы проняло (вспоминается фраза Флобера: «…литература для меня уже не более чем искусственный фалл, которым меня пялят, а мне даже некончить»[87]87
Цит. по: Нанси Ж. – Л. В компании Бланшо / Пер. с фр. В. Лапицкого // Бланшо М. Ожидание забвение. СПб.: Амфора, 2000. С. 6. – Флобер одним из первых, после Бодлера, столкнулся с бессилием литературы перед лицом товарного характера общественных отношений. См. знаменитое вступление к «Цветам зла», заканчивающееся обращением к читателю-лицемеру, и комментарий Вальтера Беньямина: «Поразительно видеть лирика, обращенного к этой публике, самой неблагодарной. Объяснение, разумеется, напрашивается само собой. Бодлер хотел быть понятым: он посвящает книгу тем, кто на него похож» (Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма / Пер. с нем. С. Ромашко // Он же. Маски времени: Эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 172). Пройдет немного времени – и ван Гог, докладывая брату о своих делах, будет называть публику, приходящую на вернисажи, не иначе как «холодной сволочью».
[Закрыть]). Проняло. Но… «Пишешь, чтобы тебя любили, но оттого, что тебя читают, ты любимым себя не чувствуешь; наверное, в этом разрыве и состоит вся судьба писателя»[88]88
Барт Р. Литература и значение // Он же. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 296. – К слову, в размышлениях Барта это сквозной мотив: «Знать, что для другого не пишут, знать, что написанное мною не заставит любимого полюбить меня, что письмо ничего не возмещает, ничего не сублимирует, что оно как раз там, где тебя нет, – это и есть начало письма» (Барт Р. Фрагменты речи влюбленного / Пер. с фр. В. Лапицкого. М.: Ad Marginem, 1999. С. 259).
[Закрыть].
Слишком ладно все сошлось, благополучно совпало в книге с неблагополучным названием. Начиная от нескромного предисловия Дмитрия Воденникова (впрочем, сегодня оно читается несколько иными глазами) и заканчивая приемом, оказанным самим текстам, очень дозированным, очень ловким, балансирующим на грани. Даже унифицированный строгий графический рисунок стихотворений, корсетом стягивающий готовую пойти вразнос речь, выглядит как магический кристалл, оберег, страхующий от срыва. Немного битнической развинченности, немного рэпа с его агрессивной уличной лексикой и напором, немного надсады, метафизического сквознячка, последней якобы прямоты, – и потрафляющая нашим и вашим поэтика «новой искренности», о которой так много говорили, что она и впрямь замаячила долгожданным (на руинах-то социума) социальным заказом, готова.
После столь многообещающего дебюта перед автором открывался путь в «Гришковцы», в душещипательную благонамеренную групповую психотерапию, «гундеж». Кирилл Медведев выбрал другое. «Вторжение», его вторая книга, закладывает крутой вираж, и там, на высоте рушащихся башен Всемирного торгового центра, этом оптовом небе Аустерлица, зарождается то, что станет «Текстами, изданными без ведома автора».
* * *
«У Жуковского всё – душа и всё для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальной Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных; Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими. Делать теперь нечего. Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах»[89]89
Цит. по: Литература факта. Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Захаров, 2000. С. 164.
[Закрыть]. Это написал не Писарев, не Белинский, а князь Вяземский в 1821 году. Через головы непосредственных предшественников и учителей – Чарльза Буковски, Михаила Сухотина[90]90
Я имею в виду прежде всего его поэму о первой Чеченской войне, построенную как прямое обращение к Глебу Павловскому.
[Закрыть], Александра Бренера, минималистов-лианозовцев – Медведев актуализирует давно, казалось бы, похеренную, дискредитированную традицию ангажированной поэзии. Сумбур политического бессознательного кристаллизуется в осознанный политический жест. Что-то подсказывает, что такой ангажемент придется не по нутру поклонникам раннего Кирилла Медведева. Да и не поклонникам тоже.
Тут самое время заняться «идеологией художественной формы». Но сначала еще несколько слов о «Вторжении». Это книга переходная, рваная, с розановским вывертом; по-детски испуганная и в то же время бесстрашно присягающая на верность «живому анахронизму»: «крикливым московским или питерским подпольным поэтам 60 – 70-х, нелепым, полусумасшедшим литературным неудачникам». Помимо этой неожиданной верности проигранному делу, в книге меня еще порадовало то, что можно назвать «литературным коммунизмом»: братание с текстами самого разного пошиба, промискуитет, подразумевающий, что «свое слово» всегда состоит из экспроприированного «чужого». Такой подход противоположен постмодернистской цитатности, хотя формально и напоминает ее. (Когда-то, отталкиваясь от опытов Владимира Эрля, я применил подобный метод в романе «Путеводитель по N.», заставив сошедшего с ума Ницше, прожившего, как известно, десять лет в состоянии прогрессивного паралича, говорить голосами авторов ХХ века – говорить и тем самым становиться поистине «последним человеком», человеком в наморднике литературы. В глубине души мною двигало желание прожить вместе с ним его агонию, желание его воскресить.) Судя по датам, «Вторжение» писалось параллельно с текстами, вошедшими во «Всё плохо», но между ними словно бы прошла трещина. Понятно, свою роль тут сыграли вкусы редакторов, отбиравших тексты; однако важнее видеть, как эта трещина захватывает территории и области, успевшие к концу 1990-х сложиться в автономные, отделенные друг от друга четкой, хотя и прозрачной, границей.
В статье «Доминанта» Роман Якобсон описал генерирующий художественную эволюцию принцип как трансформацию, сдвиг в системе господствующих ценностей. Этот принцип работает и на уровне отдельного стихотворения, и на уровне школ, направлений, целых литературных эпох. Не последнюю роль играет он и в понимании изменений, происходящих во взаимоотношениях различных видов искусств, между искусством и другими тесно соотнесенными с ним культурными областями, между которыми идут интенсивный обмен и борьба за гегемонию. Так, например, роль доминанты в стихе может выполнять рифма, или ритмическая схема, или установка на звучание (фонетику), или – как в свободном стихе – интонационная цельность. Все эти элементы, будучи выдвинуты в центр стихотворения как системы, деформируют остальные. Отсюда и определение поэзии как затрудненной речи, речи, порывающей с прозрачной коммуникацией, нацеленной на донесение сообщения (пресловутая эстетическая функция). Постоянные сдвиги в системе ценностей подразумевают соответствующие сдвиги в оценке тех или иных явлений в искусстве. «Нормы, к которым с точки зрения старого искусства относились с пренебрежением или порицали за несовершенство, дилетантство, заблуждения или просто неправильные приемы, нормы, считающиеся еретическими, декадентскими, недостойными появления на свет, новой системой принимаются в качестве позитивной ценности»[91]91
Якобсон Р. Доминанта // Он же. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. С. 124.
[Закрыть].
По сути, Якобсон описывает здесь стратегию – или идеологию – авангарда. В 1990-х она начинает давать сбои, поскольку все меньше остается еретического, маргинального, табуированного. При этом сами эстетические нормы, вслед за социальными, оплывают, теряют четкие очертания. В России это произошло в особенно концентрированной, болезненной форме. Во-первых, в силу стремительного, а не постепенного, как на Западе, вхождения в режим свободы высказывания; во-вторых, по причине разрубленного одним махом, одним падением Берлинской стены, узла, исторически связывавшего авангард эстетический с политическим авангардом. Характерны в этом смысле такие фигуры, как Александр Бренер[92]92
См. статью «Свобода отрубленной головы» в этом издании.
[Закрыть]и Ярослав Могутин. Ультралевая истерика одного зеркально отражает ультраправое эстетство второго. И тот и другой действуют как террористы. 11 сентября 2001 года эта террористическая стратегия одиночеккамикадзе терпит крах де-юре. Но де-факто он был запрограммирован гораздо раньше. Это с одной стороны.
С другой, к «газетам» эпохи Вяземского сегодня прибавились радио, телевидение, Интернет; поэзия конкурирует и обменивается «доминантами» с кинематографом, поп-, рок– и электронной музыкой, с актуальным искусством, трэш-беллетристикой и прочей культуриндустрией, частью каковой становится и политика в расхожем смысле, как манипуляция общественным мнением. Прорыв, осуществленный Кириллом Медведевым, безусловно связан с этим новым положением дел, при котором сдвиг может стать эффективным только тогда, когда проходит по границам сразу нескольких чувствительных зон.
Так, я уже упоминал возвращение «наивной» проблематики «шестидесятников». Совсем не наивной ее делает то, что она попадает в перекрестье других рядов и взаимно остраняющих деформаций: расхристанного стиха со сбитым дыханием; иной языковой и социальной фактуры, предельно конфликтной; взбаламученной лексики, в которой огромную нагрузку несут служебные частицы, междометия; отсутствия броских поэтических формул, вообще сколько-нибудь законченной, закругленной фразы; стих сделан, как будто снят трясущейся камерой в стиле «Догмы». Одновременно, на другой доске. Используя, как до него Бренер и Могутин, верлибр, бывший до этого в русском контексте преимущественно элитарной формой, формой социального эскапизма и/или саботажа, Медведев также прибегает к «дневниковому», интимному высказыванию – но при этом без каких-либо «ультра». Он человечнее, демократичнее, «нормальнее», если под «нормой» понимать ценности классической русской литературы, «критического реализма», ставшие сегодня еретическими, почти непристойными. Бренер и Могутин декларативно асоциальны и брутальны, им нравится трансгрессия, нравится говорить с позиции силы; Медведев подчеркнуто социален, открыт множеству голосов, и это голоса не притеснителей, а притесненных: «великого отстоя», «отбросов». Наконец, при всей разноголосице, его стих музыкальнее, чувственнее, он питается не только пафосом, но и плотью языка, «виноградным мясом», его ошметками.
<…>
и я иногда думаю, какой нужен бюджет, чтобы
быть по-настоящему
объективным?
какой должен быть бюджет у оператора,
чтобы снимать искренне – красиво и
непредубежденно,
но не так чтобы жаловаться почему мы здесь
с вами одни?
где наш режиссер, костюмер, продюсер? —
и почему? —
мужчины несут пивко,
реальность прыгает, дергается,
западает.
она исчезает —
и проклятость никому не дается сейчас по праву рождения,
по праву вероисповедания,
по праву деторождения,
или гражданства,
она не дается никому —
и реальности нет в Берлине,
ни во Франции, ни в США,
ни в странах Балт… – вот русский язык
это такое ебаное искреннее существо:
когда хочешь сказать корректно,
всегда получается фальшиво,
так вот, в Прибалтике реальности нет —
как и везде,
и ее нет в России —
остатки мужского, женское, отцы,
евреи, геи, мусульмане,
интеллигенты, гестапо, русские —
как и везде – чумные выбросы,
это жалкие останки,
бред —
сгустки, отбросы;
это the great dreg —
великий отстой,
останки идентичностей —
как недовыскребанные,
и их нужно выскребать
как выскребают остатки плода
после аборта
<…>
(«КОНЕЦ ПЕРЕМИРИЯ (КОНЕЦ ОБЪЕКТИВНОЙ ШКОЛЫ?)»)
Во «Всё плохо» К. Медведеву словно бы не хватало сопротивления материала, он проходил как нож сквозь масло. Вторжение «публицистической» и вместе с тем «автобиографической» прозы в «Тексты…» сталотем детонатором, что вызвал тектонический сдвиг в сопредельных языковых пластах. Обнажилась тема: пересмотр, передел границ между частным и общим, собственным и несобственным, политикой в реакционном, массмедийном понимании и политикой как революционным становлением «снизу». Это последнее по необходимости подразумевает бытие-в-совместности, каковое входит в противоречие с индивидуалистическим характером культурного производства. Так возникает вторая тема: критика «новой буржуазной интеллигенции», выдавшей искусство рынку и превратившейся в мелких собственников, извлекающих прибавочную стоимость в виде успеха, карьеры, имени, авторского права, отчислений и проч. Структурно они могут находиться в оппозиции к власти, но лишь в той мере, в какой та наступает на их интересы: свободу слова, передвижения, вероисповедания и прочие «права человека»; иными словами, когда власть угрожает их средствам производства (символического и несимволического капитала). Таким образом, буржуазная интеллигенция, эти наемные работники нематериального труда, смыкается с (нео)либеральной оппозицией крупных собственников, для которых свободы и права личности важны как универсальное алиби их частной предпринимательской деятельности на свободном рынке. Ни те ни другие не ставят под вопрос имущественные отношения, обеспечивающие их привилегированное положение в обществе.
Но среди наемных работников нематериального труда есть и те, кто примыкает именно к власти как главному собственнику и работодателю. С рвением, напоминающим времена не столь отдаленные, с подлинным административным восторгом они принимаются обслуживать ее интересы. Наконец, есть третья культурная и политическая сила, поднимающая на щит радикальные ксенофобские, националистические лозунги, заигрывающая с религиозным фундаментализмом и – параллельно – с левацкой риторикой. (Тут следовало бы напомнить, что нацисты тоже были «социалистами» на свой манер, их популизм расколол немецкое рабочее движение, что и позволило им законно – в результате демократических выборов – прийти к власти в 1933 году.)
Принимая все это во внимание, я считаю совершенно логичным и мужественным шаг Медведева, о котором он заявляет в своем «Коммюнике» от 2003 года, открывающем «Тексты…»: «В такой ситуации мне кажется невозможным как-либо участвовать в литературной жизни, публиковаться даже в симпатичных мне изданиях, использовать расположение ко мне тех или иных людей и институций… Я отказываюсь от участия в литературных проектах, организуемых и финансируемых как государством, так и культурными инстанциями. Только книги или другие носители, выпущенные своим трудом и за свои деньги, публикации на собственном сайте в Интернете.
Я отказываюсь от каких-либо публичных чтений.
Это не героическая поза, не пиар-акция и не желание наладить собственный издательский бизнес. Это некоторое необходимое мне ограничение».
Разумеется, спекуляций не избежать. Кто-то, прежде всего те, кто издавал Медведева и споспешествовал его известности, – будет задет, и больно. Кто-то захочет применить фрейдистскую логику и скажет, что отрицания «не» следует читать как раз наоборот: героическая поза, пиаракция. Найдутся и те, кто не преминет уличить автора в непоследовательности, бестактности и других грехах. Их можно понять. Как можно понять тех, кто рассказывал анекдоты про десятины Толстого и оплакивал или освистывал Блока «Двенадцати» и «Интеллигенции и революции». Нам, сегодняшним, тем более трудно поверить в искренность публичной фигуры (а Медведев, благодаря своим выступлениям и первым двум книжкам, стал таковой); мы циничны и любопытны, за любым публичным жестом нам мерещится скрытая личная выгода. Между тем что может быть яснее и проще слов Блока о писателях из его обращения 1918 года: «Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, “бестактными”: слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра»[93]93
Блок А. Интеллигенция и революция // Он же. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: Госиздат, 1962. Т. 6. С. 19.
[Закрыть].
Парадоксальным образом, но этот парадокс только кажущийся, вместе с «анахронизмом» советского подполья 1960 – 1970-х – в текстах Медведева ожили все списанные со счетов, сданные было в архив комплексы и фрустрации русской интеллигенции, обусловленные ее промежуточным положением, статусом «прослойки», которая к тому же не едина, а расслаивается внутри себя. И это тоже симптом. Того, что, совершив мертвую петлю, страна в очередной раз, под сурдинку модернизации, на другом уровне оказывается отброшенной в прошлое со всеми его антагонизмами. Шаг вперед, два шага назад. Вновь разночинцы втискиваются в рассохлые сапоги. Вновь Герцен и Огарев приносят клятву на Воробьевых горах.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?