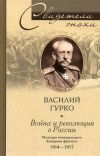Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
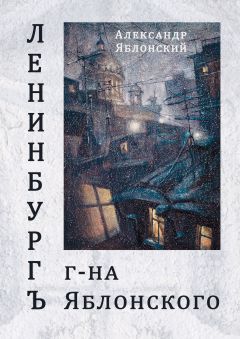
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Духовики в «Заслуге» были самого высокого класса. Один Вениамин Марголин чего стоил с его пониманием звука как нравственной и эстетической категории! Его труба звучала совершенно отлично от других (в Европе это явление называли «русским звуком» Марголина), технические возможности трубача были безграничны. Так, как он «свистел» (играл практически невозможные для исполнения) верхние ноты в «Поэме экстаза» Скрябина, было непосильно для лучших трубачей филармонических оркестров мира (поэтому до Марголина «Поэма экстаза» в Европе почти не исполнялась). Плюс к этому Вениамина Марголина отличала высокая природная культура, чувство стиля и… юмор. Король! Не случайно в Денвере в 2005 году он получил «Нобелевку» для трубачей – «AVARD OF MERIT». Или семья валторнистов Буяновских – Михаил и Виталий – выдающихся мастеров, об одном из которых – о сыне – Дмитрий Шостакович писал: «/ Виталий/ – один из наиболее ярких представителей советской исполнительской школы». То же можно сказать и о других звездах духовой группы оркестра Мравинского, таких, как Аким Козлов – концертмейстер тромбонов, чей «могучий и красивый звук придавал особую окраску звучанию оркестра» (Натан Рахлин), или более молодой Виктор Сумеркин. Упоминаю звезд медной группы, но и среди «дерева» были виртуозы мирового класса, великолепные оркестранты и солисты: Борис Тризно и Александра Вавилова – флейта, Владимир Курлин – гобой, молодой тогда Валерий Безрученко – кларнет, Дмитрий Еремин – фагот… Удивить этих первоклассных музыкантов было невозможно. Однако… Постичь, каким образом медь, к примеру, звучит так идеально – как струнные – слитно, подобно единому инструменту, причем не только слитно по времени звучания, но единообразно по тембру и, в то же время, столь разнообразно, дифференцированно, так интонационно выверено и технически точно (ни одного кикса) и, главное, так красиво, – постичь это чудо было трудно. Конечно, сказывались вековые традиции и принципы исполнительства на духовых инструментах, присущие европейским, прежде всего, англосакским школам; давал результат тот усиленный интерес и особое внимание, уделяемые подготовке духовиков в западных, прежде всего, американских и английских Университетах и Консерваториях. Главный секрет все же заключался в тех инструментах, на которых играло духовенство приезжавших оркестров, – инструментах, о которых в середине 50-х наши уникальные музыканты в лучшем случае только слышали.
…В конце 1917 года демобилизованный сержант американской армии, профессиональный трубач, бывший дирижер военного оркестра Союзных войск и руководитель Школы горнистов, восемнадцатилетний Винсент Бах (Шроттенбах – под этим именем он родился в далекой Австрии) купил за 300 долларов токарный станок. Бог наградил его не только даром превосходного музыканта, но и не менее одаренного инженера. Сочетание уникальное. Плюс – Винсент стал настоящим американцем, то есть инициативы, энергии и смекалки ему было не занимать. Во время своей армейской службы, а затем, работая в оркестре театра «Риволи» в Нью-Йорке, он понял, что играть на трубе, используя допотопный мундштук – «деталь для рта» – уже невозможно. Вообще, качество «меди» и особенно мундштуков было ужасающе низким. Поэтому, купив станок с ножным приводом и сняв помещение, он открыл фирму по производству мундштуков. Через шесть лет он продумал новую концепцию трубы и в 1924 году выпустил первые экземпляры. Нью-Йоркские музыканты, опробовав новые инструменты своего коллеги, пришли в восторг: мундштуки действительно стали деталями для рта, прирастали к губам, перед исполнителями открылись невиданные ранее технические возможности, соответственно, расширились красочные и интерпретационные горизонты. Изменились принципы использования меди и у современных композиторов.
Новые трубы и корнет-пистоны окрестили именем «Страдивари». Так появилась всемирно известная фирма Bach Stradivarius. Через несколько лет появились тромбоны этой же фирмы. Музыкальный мир преобразился.
Но у России – свой, особый путь. Третий Рим.
Гибридные семена – залог высоких урожаев кукурузы!
Все это – про инструменты Бах-Страдивари и аналогичные новации у других представителей семейства духовых – было известно ленинградским профессионалам. Более того, думаю, у кого-то были эти чудо-инструменты: война, трофеи, подарки союзников… В Ленинграде были уникальные мастера, подтачивавшие, подлаживавшие мундштуки советского производства, совершенствующие отечественные инструменты. Однако это были индивидуальные попытки; основная же масса музыкантов – часто самого высокого класса – шлифовало свое мастерство на продукции единственного в стране завода – бывшего «Циммермановского», ныне Завода духовых инструментов на ул. Бела Куна. Удивляло и восторгало, и обескураживало не то, что на Баховской и аналогичной продукции играют звезды. И наши гиганты – Тимофей Докшицер или Вениамин Марголин, Виталий Буяновский или Аким Козлов – могли играть на идеальных трубах, валторнах или тромбонах. Был непостижим тот факт, что на заоблачных инструментах играло всё западное духовенство, независимо от ранга, рейтинга, реноме и прочих условностей: к нам приезжали тогда не только прославленные коллективы, но и студенческие оркестры (великолепные!), ансамбли, Брасс-квинтеты – высочайшего класса, и все дудели на Бах-Страдивари.
…Эти непостижимые явления и обсуждали на Крыше. Надо сказать, что мы в те времена во – второй половине 50-х – на Крышу не забредали. Наше время было впереди. А пока что мы учились выпивать, ещё ездили на каток, а летом – купаться.
Вопрос: «Предыдущий раз вы не отрицали поносных слов в адрес любезного отечества нашего, говоренных в трактире Палкина, что на углу Невской першпективы и Большой Морской».
Ответ: «Поносных слов не произносил, ибо не имею чести знать, что под ними разумеется».
Вопрос: «Г-н Боровков, как кажется, к вам расположенный, записал с ваших слов, что в присутствии генерала-аншефа Петра Богдановича Пассека вы, будучи в легком подпитии, громогласно-де заявили, будто бы все заботы государства лишь к тому сведены, чтобы майор гвардии Шипов со всей строгостью следил, дабы к каждым семи кобылам, наличным и здоровым, по одному жеребцу, и при этом старание иметь, чтобы вышеупомянутые кобылы в нынешний год без плода не остались».
Ответ: «Слов сих не помню, но и не отрицаю, что могли быть произнесены, ибо коннозаводное дело есть приоритет в государственной политике, Е.И.В. сама изволит патронировать Е.И.В. созданный Конный Гвардии полк и самоличное внимание оказывает получению лучших кобыл и жеребцов неаполитанских, турецких, персидских кровей, как и разных европейских заводов. Его светлость герцог Курляндии и Семигалии в этом соратник Е.И.В. и изволит совместно с Е.И.В. коннозаводское дело в превосходное состояние приводить».
Реплика правителя дел Следственного комитета для изысканий о злоумышленных обществах г-на Боровкова Александра Дмитриевича: «На сей вопрос дан удовлетворительный ответ, что может служить для снисхождения при дальнейшем рассмотрении участи».
Вопрос: «Далее, вы в присутствии м-м Куракиной де заявили, что водружение Е.И.В. на лошадь не сильным образом возвысит кавалерию любезной Отчизны. Так ли это?»
Ответ: «Искусство верховой езды Е.И.В. мне неизвестно, по сему поводу мнения составить не мог и высказывания по поводу того, как управляет лошадью Е.И.В., говорить не смел».
Реплика: «Ответ записан».
Вопрос: «Однако вы, надеюсь, не запамятовали свою мысль, высказанную тут же, что, имея лучших в Европе кобыл и жеребцов в конюшенной Е.И.В. и герцога Курляндии и Семигалии, военному ведомству приходится закупать лошадей у степняков Прикаспия и Приволжья, и наша кавалерия – одна из худших в Европе?»
Ответ: «Войны нашего Осьмнадцатого столетия показали, что лошади у нас плохие, наездники – лихие… Не помню, впрочем. Был в подпитии».
Реплика: «Все у нас почему-то в подпитии. Вот и Антон Мануилович все на подпитие кивает. Забыл, видимо, что не при Петре-батюшке живем, а при благодетельнице Анне Иоанновне, долгих лет Е.И.В.; ныне подпитие усугубляет. Ответ невразумителен. Однозначного отрицания сказанного нет. Занести в графу Признание».
Голос из темного угла: «Ты что, не понимаешь, на что он клонит?! Мол, всегда у нас в Смольном ананасы жрут, а они, мол, в блокаду умирают, сука!»
Ответ: «Ты мне подлянку не шей, начальник. Будешь давить на дыхалку, уйду в глухую несознанку».
Голос из темного угла: «Куда ты уйдешь! Голубчик, позвони графу Андрею Ивановичу на Литейный, пусть подскочит к нам, в Петропавловку. Я за ним свой Мерс вышлю. На дыбе у Ушакова не так запоешь!»
Заключение коллежского асессора г-на Липпанченко: «Провокационная мысль о том, что всегда, якобы, в России вершки – верхам, а корешки – низам. У членов ЦК, якобы, лучшие персидские лошади, а русский солдат на сивых меринах ковыляет. У них-де трубы Баховские у школьников, а у нас – только у звезд, да и то – у евреев. По поводу евреев – мысль развить, ссылаясь на откровенные показания подследственного. Однако в целом подследственный юлит, откровенности не проявляет. По прибытию подследственного в Город посадить в камеру с бывшим полковником Пестелем. Тот научит откровенности. Копии допроса – Старшему Майору Госбезопасности Города барону Зильберману – Зильберовичу и капитану Миляге – младшему, заранее уведомив писателя Войновича о плагиате. И озаботьтесь, о чем давеча толковали в ресторациях».
Помню: хорошо выпив, заканчивали ужин на Крыше «Европейской». Музыканты, упаковав свои инструменты и микрофоны, покинули эстраду. Мы расплатились. Надо бы уйти, но душа рвалась к искусству. Поэтому мы с Ромочкой – моим самым близким и любимым – полезли на сцену. К роялю. Б…дь, приспичило. Мы тогда забавлялись некоторыми музыкальными экспромтами в 4 руки и нам, видимо, было необходимо поделиться своим юмором с оставшимися в зале нетрезвыми меломанами. Долезли. С трудом уселись, открыли крышку. «Три-четыре». Начали. Не успели сыграть первую фразу, как к нам подвалили. Сначала официанты. Но этим с нами было не совладать. Не оторвать от искусства. Потом очень оперативно появилась милиция. Мы крепко держали оборону, намертво ухватившись за рояль фирмы «Красный октябрь». Кто-то из наших выкрикивал: «Так это ж доцент консерватории», – это про Рому. Однако гордое звание доцента не помогло. Короче, нас скрутили и оттащили на второй этаж в маленькую темную комнатку. Сдали какому-то человеку в штатском. У человека были бесцветные глаза и серое лицо. Естественно: кругом кипела жизнь, пьяные шальные жены бродили по вестибюлю в поисках минутного приключения, взмыленные официанты выныривали из зала в поисках ускользнувших клиентов, раскрасневшиеся клиенты поспешали в туалеты – кто по естественной надобности, а кто за сигаретами «Мальборо» или «Винстон», которые всегда имелись у туалетного «портье» и стоили три рубля пачка (самые дорогие доступные сигареты – болгарские «ВТ» стоили 40 копеек пачка), профессионалки стайками группировались в холле, степенно попивая кофе, обсуждая новости культурной жизни («О, Лебзак была потрясающа!», «Девочки, на Третьем этаже отреставрировали Писсарро: это – улёт!») и присматривая перспективного клиента, в зале гремела музыка – «Ах, Одесса, / Жемчужина у моря», ритмично сотрясались перекрытия между первым и вторым этажами, швейцары сдерживали рвавшихся в сладкую жизнь «Европейской», знаменитый в Ленинграде Саша Колпашников со своей командой отрабатывал очередного «карася», усилители вибрировали с силой в десять баллов по шкале Рихтера, «Летний сад, Летний сад, / Белой ночи аромат», поцелуи, мордобой, пьяные слезы и хохот, жизнь шумела, бурлила, заходилась от восторга, – а тут сидишь в комнатке со спертым воздухом – посереешь личиком. Мы пустоглазого явно не заинтересовали, и он нас с Богом отпустил бы, но мне приспичило – свои 300 грамм я все же принял, и они – эти граммы – бурлили и искали выхода, – так вот, приспичило вспоминать недавнюю отечественную историю, в частности, трудовую деятельность товарища Берия Л. П. Глаза серого человека проснулись. Думаю, могло плохо кончится, ежели бы не Лена. Как тигрица ринулась она – не на серого человечка, а на нас: «Перепились, сволочи, ну я им задам! Что вы смотрите на них, товарищ полковник! (почему она произвела сероликого в это звание, не знаю). Надо же так нажраться! Ну, я им покажу дома! У – уу, Козлы!!!» Серолицый полковник, польщенный, видимо, новым званием, а возможно, понимая, что в подвалах их учреждения нам будет комфортнее, нежели в руках разъярённой жены Ромы, но скорее всего потому, что мы были не по его части, нас отпустил, не услышав, якобы, мои триолеты по поводу тов. Берии Л. П. Однако пока Лена демонстрировала свою ярость по отношению к зарвавшимся музыкантам, я, временно протрезвев, заметил, что комнатка, в которой мы находились, была, скорее, предбанником. Из этого предбанника была видна другая большая комната. Дверь в нее была открыта. Серомордый не ожидал визита доцента консерватории со товарищами и дверь не прикрыл. Во второй большой комнате я разглядел в полутьме внушительное количество металлических коробок, составленных друг на друга, с малюсенькими лампочками-глазками. Большинство глазиков дремало, то есть глазки были безжизненно серыми, под стать серым кожухам коробок и физиономии «полковника», но некоторые подмигивали зеленым или красным светом. Это естественно. Основная масса посетителей свою норму приняла, закусила и поплелась домой отдыхать или поскакала к дамам. Лампочки погасли. Но некоторые клиенты ещё вели беседы. Что же означали эти красный и зеленый цвета «глазков», я не догадался. Однако опохмелившись и придя через несколько лет в себя, никаких умных разговоров в ресторанах я больше не вел. Не из-за страха иудейского, а потому, что всё, что я думал, там, где надо, наверняка уже знали. Не бином Ньютона и не закон Бойля-Мариотта.
Мы вышли на свободу. За нами гремело: “When the Saints Go Marching In”. Сотрясались перекрытия между первым и вторым этажами «Европейской» гостиницы что на улице Бродского – художника-ленинописца.
Когда Святые маршируют,
Когда придет парад Святых,
Хочу в строю быть с ними, Боже,
Когда придет парад Святых…
………………………
А когда придет парад Святых?..
…В ресторациях в мое время толковали свободно. В мое время… В лучшее мое время вообще все было хорошо. Относительно последовавших времен.
В мое время температуру воздуха определяли по шкале Реомюра.
В мое время с нетерпением ждали новый роман Тургенева.
В мое время ездили в Павловский вокзал на концерты Штрауса-сына на поезде и волновались, не опоздают ли и доедут ли.
В мое время были городовые, и детей ими пугали, но, чуть что, кричали: «Городовой, городовой!».
В мое время было модным кататься на роликовых коньках. На Марсовом поле находился клуб American Roller Rink. Быть членом этого клуба могли себе позволить только состоятельные люди. Но стремились туда все. В этом клубе не только посетители, но и официанты передвигались на роликах.
В мое время фраза «Мужчина, угостите даму папироской» означала совсем другое, нежели вы думаете, отнюдь не желание закурить. Многие дамы, особенно из деревень, были некурящие. Александр Михайлович Скабичевский писал: «Я не запомню, чтобы в Петербурге было такое обилие проституток, как в первые годы по освобождении крестьян. Стоило пойти вечером по Невскому, зайти в любой танцкласс или биргалле (пивную), чтобы встретить доходившую порой до давки толпу погибших, но милых созданий». Особым расположением этих чудных дам-камелий пользовались Александровский парк у Народного дома (ныне Балтийский дом), открытая часть Таврического сада, окрестности «Виллы Родэ», «Луна-парка», ресторанов Невского проспекта и Николаевского вокзала.
В мое время Лавка Петра Елисеева размещалась в четырех комнатах в Доме Котомина на первом этаже – дом 18 по Невскому проспекту, и объявления в газетах о поступивших свежих товарах особого внимания не привлекали. Большое дело! «У Полицейского моста в доме купца Котомина в лавке № 6 продаются полученные на днях Крымские свежие груши и разное Киевское фруктовое варенье, крупные пупырчатые финики, виноград, свежайший кишмиш, швейцарская сухая дуля, сыр пармезан лучший по 7 рублей фунт, швейцарские, голландские и английские лучшие сыры, да Архангелогородские копчёные гуси, Коломенская медовая пастила, Кольская мочёная морошка карага, Кольские солёные рыжики, голландские сельди, свежая и мешочная Астраханская лучшая икра и прочие товары».
В мое время, помню, ещё не было лампочки Эдисона, люди спали по 10–11 часов в сутки – что ещё делать ночью, особенно в пожилом возрасте! Так что звукозаписывающей или усилительной аппаратуры не было и в помине. Сиди и беседуй. Слушай артистов, если хочется. Залов, как правило, было много. Так, в самом знаменитом ресторане Палкина (а ресторанов у этой семьи в Петербурге было предостаточно – трактир на углу Невского и Большой Морской, известный хорошим погребом; на углу Разъезжей и Николаевской; на Фурштатской – как господ гвардейцев не попотчевать! – на углу Невского и Литейного, в доме купца Алексеева и пр.), что на углу Невского и Владимирского (там, где в мое другое время размещался кинотеатр «Титан») было 25 залов. В большой зале со сценой выступали артисты – как правило, румынский оркестр или итальянские певцы, предпочтительно из Неаполя. Значительно позже, уже в 90-х, когда заведение перешло к купцу В. И. Соловьеву (имевшему в соседнем доме самый большой в Петербурге винный погреб), который устраивал «воскресные обеды с музыкой», там играл оркестр лейб-гвардии Преображенского полка – того самого, помните? Так что хочешь – слушай, хочешь – веди беседу. И, конечно, наслаждайся кухней. А кухня была замечательная. И разнообразная. Конечно, у «Донона», что на Мойке, 24, или у «Кюба» – на Большой Морской, угол Кирпичного переулка, кухня была превосходная, публика изысканная. Великие князья, Мамонтов, Дягилев, Нижинский, Шаляпин – у «Кюба» (бывший «Café de Paris»); «Кюба» был излюбленным местом встреч балетоманов – там давали банкеты в честь Кшесинской, Дункан и прочих богинь… У «Донона» собиралася компания другая. Завсегдатаем был Тургенев – он жил за углом, на Конюшенной, 13, Костомаров, Салтыков-Щедрин; у «Донона» были превосходные раки по-бордосски – любимое блюдо гениального вице-губернатора Рязани. Гапон, Распутин, Азеф, опять-таки, великие князья… И кормили отлично. Там были отменные супы: скажем, «Пьер ле Гран» (Петр Великий) или консоме-борщ. Потом можно было откушать камбалу в соусе «нормань», седло барашка, донышки артишоков по-парижски; отдохнув, заказать перепелки жаренные, пуляры, спаржу, салаты. На сладкое хорошо шарлотку Помпадур с ликером… Умели готовить в то мое время, ничего не скажешь. Однако лучше всего, естественнее, чувствовал себя наш брат у Палкина.
…Со стороны Владимирского проспекта в здании работала типография Траншеля, в которой печатал свой журнал «Гражданин» Достоевский (1873–1874 гг.) Так что, думаю, Федор Михайлович с особым удовольствием пользовал русскую кухню Палкина. В путеводителе по столице говорилось, что никто не накормит лучше «коренными русскими блюдами», нежели повара у Палкина. Особо славились куриные котлеты «по-палкински», палкинская форель или индюшатина. Можно было также отведать стерляжью уху, селянку, расстегаи и кулебяки, гурьевскую кашу, котлеты из рябчиков. Задолго до визитов к Палкину автора «Идиота» Фаддей Венедиктович Булгарин писал: «А все-таки нигде вам не сварят такой русской ухи, таких щей, не спекут таких вкусных блинов, пирогов и не изготовят селянки, как в русской ресторации!.. И если вы любите эти народные блюда, то непременно должны, хоть в раз в жизни, пообедать в одном из лучших русских трактиров, заказав обед сутками вперед и приказав, чтоб белье было свежее». Абсолютно относится к ресторациям Палкиных. А если добавить к этому, что хозяин и архитектор А. К. Кейзер догадались кухню расположить на последнем этаже, дабы кухонный чад не проникал в залы, а блюда подавались вниз специальными столами-лифтами; если вспомнить про огромный бассейн со стерлядью, зимний сад, стерильную чистоту, музыку не громче mezzo forte, вышколенных половых, толстые «Винные листы» и многостраничные «Menu Magazines», то, вспомнив все это, поймешь, что столь заманчиво описанный ресторан «У Грибоедова» – затухающее эхо «Палкина», пародия на подлинное ресторанное величие, индикатор другого общества и другой культуры. Да и публика другая. Другая планета. Полагаю, что вся сцена с Иваном Бездомным в кальсонах «с чужого плеча» – не что иное, как реминисценция – оппозиция известного Булгакову (а Михаил Афанасьевич был человек старой формации, то есть блистательно эрудированный) эпизода с С. Н. Сергеевым-Ценским. Автор «Севастопольской страды» описывал: «Приезжаю к Палкину, в самый фешенебельный ресторан Петербурга. Двое величественных лакеев, белогрудых, в новеньких черных фраках, бросаются ко мне, и один снимает мое пальто, а другой не вешает его, а держит в руках и говорит укоризненно: “Извольте одеться. В таком костюме к нам нельзя”. Я приехал одетым так, как ходил обычно, в пиджаке поверх косоворотки – глаженых рубах я не носил. “Чудесно! – сказал я, снова одеваясь. – Только скажите в зале, где меня ждут профессора Батюшков, Зелинский, Аничков и писатель Куприн, что приезжал писатель Ценский, но его не пустили”. Метрдотель с длиннейшими рыжими усами, слышавший, что я сказал, изрек вдруг: “Писатели к нам могут входить даже без панталон”».
И писатели входили. Правда, в панталонах. Кто здесь только ни бывал! Николай Васильевич Гоголь вполне мог лакомиться чиненой грибами репой и поросенком с хреном; Николай Семенович Лесков – бараньим боком с гречневой кашей, запивая это ледяным квасом. Половые, подававшие русские блюда, были в кумачовых рубахах, скользили бесшумно, виртуозно, грациозно, но с достоинством. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин любил слушать музыку и любоваться на стерлядей, плавающих в просторном бассейне с подсветкой. Николай Алексеевич Некрасов предпочитал французскую кухню. Слышу его говорок: «Любезнейший, не сочти за труд, э…э, пожалуй, суп-пюре Сан-Гюбер с бокалом “Шабли”, затем э…э таймень а-ля Шамбор, или можно седло дикой козы а-ля гранд (веньер), соус поврат – по твоему, голубчик, вкусу с “Бордо” 60-го года или Перегюль, пунш Ромен, жаркое – каплуны, рябчики и перепелки по минимум-миниморумому, фонд артишок и горошек и, “на посошок”, – пломбир “Меттерних”! И… э. э “Хлебной слезы”, малый графин, нет, пожалуй, средний, как всегда…во льду…». Я тоже любил «хлебную слезу». Это была отличная водка, ее гнали из высококачественного зернового сырья и гнали в особом технологическом режиме – «тихим погоном».
Среди завсегдатаев «Палкина» – Фет и Панаев, Бунин и Блок, Куприн и Мережковские, Горький и Кузмин, Чехов и Белый, Мей и Крестовский. Эти пары, как правило, не соединялись. Мережковские предпочитали сидеть в одиночестве (вместе, конечно, с Философовым). Бунин никогда не сел бы с Блоком, поэзию которого, да и самого поэта, на дух не выносил, а Чехов просто по времени и обстоятельствам жизни не мог чокнуться с Белым. Горький с Кузминым случайно присели бы за один за столик, но понять друг друга не смогли бы ни в коем случае. Они говорили и мыслили не только на разных языках – на языках разных планет. Однако все они выпивали и закусывали, как и подобает соотечественникам, землякам, единоверцам. «…Любезнейший, ещё один большой графин!..И сюда!..Пиво три кружки и балык один!..Господа, за здоровье великолепной и несравненной Веры Федоровны!..»
Не подумайте, что исключительно писатели оккупировали этот райский уголок. Только направишься в туалетные комнаты (идеальной чистотой, блестящими медными крана́ми, ароматным французским мылом и белоснежными похрустывающими полотенцами и салфетками отличались эти интимные апартаменты), только настроишься, сдерживая естественный порыв, а тебе навстречу Каратыгин, или Юрьев, или Сумбатов-Южин из Первопрестольной пожаловал. Пока изумление и восторг выкажешь и учтивости и комплименты произнесешь – а артисты это любили во все времена – забудешь, за чем шел. Или, бывало, расправишь на груди белоснежную ткань, как из-за соседнего столика тебе приветливо взмахнут белой изящной рукой Репин или Ребиков, Римский-Корсаков или Врубель, Дягилев или Сапунов. Ну как не подойти, не раскланяться. Потом снова заправляй белоснежную… А там – в дальних углах или соседних залах и Нувель, а это – «Мир искусства» (вещь полезная), «не гласный, но уважаемый», по словам Бенуа, участник этого проекта, и Суворин, и Фидлер, и Боборыкин – «Бобо». Петр Дмитриевич здесь нечастый гость, Москву он покидает редко, а ежели и покидает, то прямиком в Париж. Ныне он в большой известности и славе. Намедни – в 1892-м – вышел его роман «Василий Тёркин» и имел сильный успех. Петр Дмитриевич – стерильно чистенький, холеный, подлинный барин старой закваски, не натужно наигранной, в белоснежной, туго накрахмаленной рубашке и в смокинге, – рассматривает меню. Носик маленький, лысина огромная, голова похожа на череп. Внимательно вчитывается, что-то мысленно подсчитывает. К нему подсаживаются – вот и Потапенко подошел. Боборыкин мил, его все любят, даже язвительный Бунин, вспоминая Бобо, скажет: «хороший был старик». Бог писательским даром обделил, но кого это волнует: не он первый, не он последний, до сих пор все пишут, пишут. Эрудиция автора «Китай-города» поражает своим объемом и точностью, он в совершенстве владеет множеством европейских языков, причем не так, как господин Бальмонт, а истинно. Не случайно – почетный академик. Главное же, он – блистательный собеседник. Любого заговорит до обморока. Но интересно: никто, пожалуй, не знает так, как он, подробности быта купечества или Замоскворечья, модных течений в литературе или в дамских нарядах, хитросплетений отечественного или европейского оперного и балетного мира, особенностей жизни в среде рабочих, кокоток или мещан, парижских новостей, сплетен, новаций, ибо на короткой ноге и с Ги, и с братьями Жюлем и Эдмоном, и с господином Флобером, – поэтому и подсаживаются. Петр Дмитриевич отвлекается от изучения пухлого «Винного листа», оживляется. Слышится: «…Встречаю Гюстава в Большой опере и… разговорились о Карфагене… почитали бы вы… прекрасный документированный труд… а то Карфаген у вас какой-то театральный получился…». В дверях появляется Федор Иванович Шаляпин со свитой. Появление шумное, значительное, бенефисное. Так появляется ещё только молодой Алешка Толстой – кутила…
Вечер в разгаре. Писатели, художники, музыканты, издатели, критики. И все в панталонах, и все беседовали. И, естественно, под коньячок Шустова.
Чудный был коньяк, как, впрочем, и вся продукция смекалистых, рисковых и удачливых Шустовых. В 1881 году винодельня Шустова имела 18 рабочих и производила около четырех тысяч ведер хлебного вина – водки – в год. Всего-навсего 16-е место в винокуренной России. Однако Николай Шустов пошел по пути революции в качестве и оригинальности продукции – им были придуманы и запатентованы новые напитки: «Запеканка», «Зубровка», «Спотыкач», «Рижский бальзам», «Рябина на коньяке» и другие вечно живые настойки и наливки. А в 1899 году фирма сделала самый удачный ход – приобрела Ереванский коньячный завод Нерсеса Таирова. Завод был убыточен, но братья Шустовы усовершенствовали оборудование, технологию, маленько своровали – Леонтий Шустов инкогнито выехал во Францию в провинцию Коньяк, поработал там на одном из коньячных заводов, узнал все тонкости…Вскоре коньяку Шустовых не было равных в России.
Я обычно сидел в соседних залах и к беседам пишущей братии не прислушивался. Иногда выходил в буфетную, услышать новый mot от Щербины или взглянуть на набиравшего популярность Петра Чайковского…
Империя Палкиных просуществовала долго – дольше многих других империй. Открытый купцом Третьей гильдии, ярославцем А. С. Палкиным, трактир в 1785 году начал свою историю, март 1917 года – положил ей конец. Однако многие постоянные клиенты ресторана Палкина, равно как и их новые товарищи, ещё долгое время пребывали в этом здании (вернее, в двух зданиях: на углу Литейного и на углу Владимирского – один напротив другого): господа револьюционэры свозили туда арестованных, так как мест в царских тюрьмах катастрофически не хватало. То, что загадили в полчасика, сомневаться не приходится. Краны господа-товарищи револьюционэры открутили. Ароматным мылом пытались закусывать коньяк Шустова. Только пузырей понапускали. Зеркала побили, под пальмы нассали, бархат содрали на платья жинкам, стерлядь скормили котам, в бассейне мыли сапоги, по люстрам палили из наганов на спор, кто попадет после третьего стакана. Фраки лакеев, рубахи половых растащили по домам, чтобы в революционные праздники наряжаться. Я как предчувствовал – в последние годы перед катастрофой редко бывал у Палкина.
Чаще всего я посещал «Вену» на Малой Морской – это было более «по карману». К примеру, «поздний петербургский завтрак» стоил 1 рубль 70 копеек, его счет включал: сам завтрак – 75 копеек, графинчик водки – 40 копеек, 2 кружки пива – 20 копеек, чаевые официанту – 20, чаевые швейцару – 15 копеек. Вообще-то «Вену» возлюбили игроки. Игроки всех мастей и калибров. В 1870 году появился бильярд, привлекавший тогда невиданное количество любителей. Крутились букмекеры, составлялись темные, то есть полулегальные тотализаторы, шуршали ассигнации, раздавались стук бильярдных шаров, пощелкивание киев и приглушенный звук сталкивающихся тяжелых пивных кружек. А в 1884 году здесь появился на свет «Первый шахматный клуб России», на торжественной церемонии открытия которого присутствовал великий М. И. Чигорин. Шампанское, фраки, манишки, монокли, пенсне, ладьи в человеческий рост. По соседству закусывали обыкновенные шулеры.
Наибольшую известность получили, однако, не «поздние завтраки» и не обеды, сервировавшиеся обычно на 500–600 человек с 3-х часов пополудни до 6-ти, а ужины, на которые после одиннадцати вечера, то есть по окончании спектаклей, съезжались знаменитости – цвет моего Петербурга.
…9 октября Чайковский покинул Клин и направился в Петербург на премьеру своей последней, Шестой симфонии. В столице остановился на сей раз не в гостинице «Дагмара» или во «Франции», но на Малой Морской в квартире Коли Конради. 16-го ноября состоялся концерт. Успех симфонии был приличен, но без восторгов. Глазунов молчал, у Римских хвалили, но натужно. Чайковский был в недоумении. Однако в Петербурге ему было впервые хорошо. Поэтому на другой день – в оперу, потом к Палкину или к Лейнеру, может, и к цыганам за город. Однако вечером другого дня решил с молодежью ехать на любимого с юности Островского, давали «Горячее сердце», а потом ужинать в «Вену» – всё ближе к дому. В то время «Вена» принадлежала Лейнеру, который откупил ее у купца Ротина. По пути Чайковский упрекает своего любимца Боба в слабости к женскому полу… В «Вене», как всегда перед сном, ест мало – овощи, макароны по-неаполитански, и пьет умеренно – молодое белое французское вино разбавляет минеральной водой. Всю жизнь он провел в трактирах, ресторациях. Своего угла практически не было. Своей кухни. А в трактире и половые суетятся, и незнакомые кланяются и смотрят с восторгом, и знакомые подсаживаются – вот Ларош, а вот и Кашкин подходит. Серьезный преданный Танеев. Котек, Брандуков, Николай Григорьевич Рубинштейн кутит, как всегда, в окружении очаровательных женщин… И постоянно томящее чувство одиночества отступает. Будто и он – Чайковский – причастен к этому беспечному веселому шумному миру. В «Вене» Петр Ильич заканчивает свой ресторанный путь. Навсегда. Ночью на 25 октября он отходит… 1893 год.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?