Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
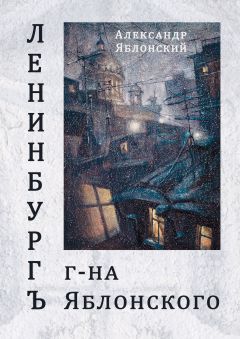
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
В народе «Вену» называли «писательским рестораном» и уверяли, что писатели имеют там кредит и хорошую скидку. Возможно. Я к писателям тогда не примыкал, да и ныне лишь графоманю, но видел их предостаточно в клубах сигарного дыма, раскрасневшихся, улыбчивых, закусывающих, хмельных. Тогда веселых, молодых. «… Ах, в “Вене” множество закусок и вина / Вторая родина она для Куприна!» Не только для автора «Поединка» – чрезвычайно модного тогда писателя, постоянного посетителя, как правило, приезжавшего непременно со своим приятелем – клоуном Жакомини, но и для Агнивцева, Ал. Толстого, Шаляпина, Гумилева, Ремизова, Мейерхольда. Вот – Сергей Городецкий прекрасно потчуется ботвиньей с рыбкой и раковыми шейками, Леонид Собинов – только с благотворительного концерта – заказал уху из стерлядок и расстегайчики; Леон Бакст размышляет, а Сергей Найденов уже решил: корнишончики малосольные, рыжики, вчерашние щи, телячья голова, перепела, соус татарский и большой графин… Я взял малый графин, икры кусок в четверть фунта, моченых яблок, консоме Принцесс, филе де беф а-ля Жардиньер, две кружки пива. Для начала хватит.
Если «Вена» – центр притяжения театралов Мариинского театра, то «Медведь» – это уже Дворянского собрания, Александринки, Михайловского театра. «Медведь» на Большой Конюшенной, 27 – родной сын известнейшего «Трактира Демута» (вспомним здесь Пушкина! – первый адрес поэта в Питере, здесь он остановился со своим дядей перед отправкой в Лицей). При входе стояло чучело медведя с подносом в лапах, куда бросали ассигнации; медведь подмигивал электрическими глазками и благодарил, кивая башкой. Сюда устремлялись любители отведать хорошей русской кухни и…западных новшеств. В 90-х ресторан откупил бывший владетель московского «Яра» А. Судаков, начинавший карьеру буфетным мальчиком в московском трактире. Он обожал размах и новации. При нем впервые в России появился «американский бар» с высокими табуретами и барной стойкой. Это было в диковинку. Сидеть на них было неудобно, вернее, непривычно, но какой «шарм»! Ещё больший интерес и у солидных завсегдатаев, и особенно у молодежи вызывали «смешанные напитки». Эти смеси имели забавное название – «петушиный хвост» – cock-tail. Поначалу посмеивались, а затем попривыкли, стали различать, что такое аперитивы – крепкий коктейль перед едой для возбуждения аппетита, что такое диджестивы – способствующие пищеварению во время еды, или long drink со льдом… Уж эти американцы. Напридумывали.
В кафе «Доминик», которое размещалось там, где впоследствии возник «Лягушатник» – (Невский, 24), помните? – так вот, в «Доминик» ходила – забегала разная публика. Это кафе, конечно, уступало по части изысканности и элегантности кафе Излера, которое размещалось в бельэтаже Армянской церкви (Невский, 32). Да вы и сами это замечали. Однако именно «Доминик» пережил всех своих конкурентов и закрылся по естественным причинам – приспичило! – лишь в октябре 1917 года. Причем следует оговориться, что конкурентами «Доминика» были не все «ресторанные заведения». Этих заведений было (до открытия «Доминика» в мае 1841 года) пять категорий. Трактиры – для людей «в ливреях, армяках, смурых кафтанах и нагольных тулупах», то есть для простолюдинов. Все остальные – кофейные дома, гостиницы, харчевни и рестораны – были открыты для благородных сословий. Приличные дамы могли посещать лишь гостиницы. В 1840-м году швейцарец Доминик Риц-а-Порта, прибывший в столицу и записавшийся в «Санкт-Петербургское купечество кондитерского цеха», испросил разрешение открыть новый вид трактирного заведения – ресторан-кафе «для удовольствия публики, высшего класса». Тогда, надо сказать, примерно четверть кондитеров Петербурга составляли швейцарцы – лидеры европейского кондитерского искусства. В апреле 1841 года Сенат определил свое мнение и появилось уложение, по которому было дано разрешение открыть новый – шестой – вид трактирного плана. Там предписывалось иметь, как и в ресторанах, горячие блюда, но только «потребные для легких закусок», то есть пирожки, расстегаи, кулебяки. Сладкие блюда и прохладительные напитки – как в кофейных домах. Дозволялось иметь все российские и иностранные газеты, шашки, шахматы, домино, а также прислугу «в немецком платье». В эти немецкие платья одевали молодых татарских парней, которых исключительно пользовали в «Доминике». Публика была самая разношерстная. Было шумно, в соседних комнатах стучали бильярдные шары, за бильярдной располагалась шахматная комната. Посетители не раздевались. Тут были и шулера, и аферисты, и артисты, и писатели, испуганные провинциалы и неудачливые комиссионеры, студенты, чиновники. Забежали, согрелись, выпили чашечку кофе, откушали кулебяку, запив кружкой пива (у стены располагалась ванна со льдом, где постоянно охлаждались два бочонка с пивом) и побежали дальше. Салтыков-Щедрин писал: «в дверях постоянно толпились порыжелые личности, /…/ народу пропасть. Входят, выходят…». Однако сам был завсегдатаем. При всей этой толчее здесь настоялся свой дух – «доминиканский», образовалась неповторимая атмосфера «демократичной аристократичности», своеобразной домашней уютности. Горел камин в столовой. Окна буфетной выходили на освещенный яркий Невский. Прямо в буфетной на треугольной стойке с мраморным покрытием стояла медная водяная баня, на которой согревались кулебяки, знаменитые пирожки, другие блюда (неизменно 15-ти наименований). Ниже – ледник для холодных закусок. Было просто. И дешево. За 40 копеек можно было закусить вполне даже прилично. Я, бывало, сиживал здесь и за 30. Антон Павлович мог позволить себе и шикануть на 60 копеек. «Отправились к Доминику, где за 60 копеек скушали по расстегаю, выпили по рюмке и по чашке кофе», – писал он брату Михаилу в апреле 1886 года. Тогда он, правда, подписывался: Чехонте. «Статистики знают, что курица не птица, кобыла не лошадь, офицерская жена не барыня» – помню, сымпровизировал он как-то в «Доминике»…
И почему швейцарцы любили открывать свои заведения близ церквей? Доминик Риц-а-Порта – около Петропавловской лютеранской (Петрикирхе), его зять – Излер – через пять домов по Невскому, около Армянской церкви. Может, так принято в Швейцарии: сочетание духовной пищи с телесной…
Было где закусить и потолковать в Петербурге. А ежели душа разогреется, то – прямиком за город, на «Виллу Родэ». Располагалось сие заведение на Черной речке, невдалеке от места дуэли Пушкина. И вообще, это было излюбленное место дуэлянтов. Здесь, к примеру, стрелялись Гумилев и Волошин. (Уж эта Черубина!) Промазали. Вернее, пистолет Волошина дважды дал осечку, а Гумилев первый раз промахнулся, а от второго выстрела отказался. Там не только стрелялись. Тогда это был ближайший к городу дачный поселок. Здесь родился сын Пушкина – Александр, будущий генерал, мой сосед. На даче Шишмарева работали Брюллов и Кипренский, навещая своих соседей – Глинку, Тургенева. Да и ресторанов здесь было много. Удобно… Ныне на месте самого известного ресторана – станция метро «Черная речка», которая ведет под землю.
«Вилла» имела несколько скандальную репутацию, а посему притягивала. Там был прекрасный большой летний театр, летняя эстрада-ресторан. Во время обедов и ужинов играл венгерский оркестр, выступали лучшие певцы – Собинов, Шаляпин. Позже появлялся Вертинский. Тогда его обожали. Он был неотъемлемой частью предвоенного Петербурга, баловнем и любимцем этого города. И цыгане! Адольф Родэ или «Адолий», как его называли постояльцы, все предусмотрел при строительстве ресторана. Его столики, вытянувшиеся по залу пятью рядами, с одной стороны примыкали к эстраде, с другой – к стене, драпированной тяжелыми портьерами, за которыми располагались «отдельные кабинеты».
Как-то Виллу посетили именитые гости: Александр Куприн со своей первой женой Куприной-Иорданской, актриса Лилия Яворская с мужем князем Барятинским, Щепкина-Куперник, адвокат Карабчевский. Встретил сам Адолий и проводил в отдельный кабинет. Одна из дам поинтересовалась, что же находится за аркой, задернутой тяжелым плюшевым занавесом. Как писала Мария Карловна Куприна-Иорданская, «занавес раздвинулся, там оказалась огромных размеров низкая кровать с откинутым одеялом, застланная белоснежным бельем». Александр Амфитеатров язвительно писал: «Видел во сне Адолия /…/ Развеселаго, жизнерадостнаго, толстомордаго, толстопузаго Адолия Родэ, до октябрьской революции хозяина “Виллы Родэ”, после октябрьской революции – милостью Горького – хозяина “Дома Ученых”. Там, в недрах “Виллы Роде”, и обрел Максим Адолия. Пришел, увидел и решил: “Вот истинно добротный опекун для русской науки. Лучшаго и искать не надо: в самый раз!”». Напрасно юморил Амфитеатров: людям науки тоже нужно отдохновение и покой.
Хорошо было на «Вилле Родэ». Музыка, цыгане, великие князья (как они всюду успевали!); Феликс Михайлович Блуменфельд – прекрасный пианист, ученик Ф. Ф. Штейна и Н. А. Римского-Корсакова, учитель Льва Ароновича Баренбойма; Григорий Ефимович Распутин – самоучка; Блок; незнакомки…
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.
Свободу Луису Корвалану!
Я редко ездил купаться с ребятами. Несколько раз. Обычно ездили в Озерки. Это было удобно. Трамвай № 9 делал остановку на Литейном, около Петра Лаврова, а это рукой подать от нашей школы и домов, в которых все наши жили. Ехали до кольца у Поклонной горы. Сюда, как говорили, шведы послали послов «с поклоном» о заключении мира. Петр был доволен… На горе стояла полуразрушенная церковь, кажется, превращенная в склад. На крыше церкви росла молодая береза. Мы бежали вниз к цепи из трех озер: Верхнего, Большого и Среднего Суздальского. Купались до посинения. Знаю, что ребята ходили к Петропавловской крепости. Однако я там ни разу не был. Нева в 50-х была относительно чиста, хотя белые бочки с водой уже давно не громыхали по булыжным мостовым города. В невскую воду не тянуло. Что-то отталкивало. То ли миазмы ужаса, исходившие от стен казематов Петропавловки, то ли тогда ещё редкие, но все разрастающиеся пятна мазута, перламутром поблескивающие под ярким летним солнцем. То ли рассказы о трубах, протянутых из 3-го или 4-го подземного этажа Большого дома, по которым стекала кровь из пыточных и расстрельных камер этого шедевра в стиле «конструктивизма» архитекторов Н. А. Троцкого, Н. Е. Лансере (над проектом работавшего в «шарашке), А. И. Гегелло. А может, потому, что вода в Неве всегда была холодная. Пару раз ездили в Ольгино. Почему в Ольгино, не понимаю. Думаю, более мелкого места в Маркизовой луже было не найти. Собственно, Ольгино непосредственно переходит в Лахту, а Лахта – lahti – в переводе с финского – небольшой мелководный залив. (У Даля: губовина, заливец.) Казалось, можно шлепать по щиколотку до Кронштадта. Я избаловался купаньем в Куоккала, которое с 1948 года стало «Репино». В те времена дух Финляндии еще не выкурили из отдельно взятых Куоккала, Териоки и Келломяки и не засрали эти чудные места. Было чисто, спокойно, уютно. Крупный песок на покатых дюнах взморья отсвечивал розоватым цветом при рассвете или закате; в него зарывались, когда полу денное июльское солнце раскаляло это рассыпчатое золото, и наслаждались жарой, столь долгожданной в ленинградских широтах, запахом этого разогретого песка и освежающими дуновениями, долетавшими с рябоватой поверхности Финского залива; в зарослях камыша можно было играть в индейцев, прятаться, лежа на бархатном чистейшем песке; у самого берега колыхалась ароматная теплая тина, вода была прозрачна; пройдя две отмели, мы могли уже плыть до третьей отмели, становилось глубоко – по грудку, а затем – и с головой; мы ныряли в воде с открытыми глазами, и были видны волнистое песчаное дно, напоминавшее стиральную доску, мелкие камешки и ракушки, шныряли рыбешки, водоросли неспешно и задумчиво вальсировали, и казалось, что подводный мир радушно приемлет нас. Нам было тогда лет семь-восемь…
Самым модным курортом считались Териоки. Там было дороже и престижнее. Пару раз взрослые возили нас в Зеленогорск, как обозвали Териоки. Один раз мы ездили на экскурсию – смотрели отстроенный новый вокзал. Это был 1950 год. Налюбовавшись на помпезное строение с внутренней росписью, изображавшей счастливый советский народ с серпами, снопами, грудями и румянами, мы пошли на «Золотой пляж». «Вход платный» – это запомнилось. Возможно, и в Репино вход на пляж «Чудный» стоил какие-то копейки, но мы ходили на дикий, который ничем от «Чудного» не отличался и, главное, никак не был отгорожен. В Териоки чистота также сохранялась идеальная. Было немноголюдно. В отгороженных загончиках загорали и купались ребятишки из пионерских лагерей и детских садов. Запомнились тяжеловесные женщины, бродившие по пляжу в цветастых шелковых, думаю, китайских халатах. Мужчины играли в преферанс. В основном деловые люди отдыхали тогда в Зеленогорске – торговые работники, труженики Промкооперации, цеховики, «трикотажники». Многие потом переселились в места не столь отдаленные. Кого-то расстреляли. Жаль. Они не только делали деньги (по тем временам баснословные), они одевали, обували, кормили и обустраивали быт голодного и никому не нужного советского человека.
У нас не было близких знакомых цеховиков или «трикотажников», мы были далеки от этого мира. Позже мы узнали, как жили эти «баловни судьбы», жены которых шили платья только у модных портных в Таллине или Риге, куда летали на примерки необходимое число раз, дети которых учились музыке, языкам, фигурному катанию только у самых лучших педагогов и тренеров, не знали отказа ни в чем и не подозревали, в отличие от родителей, что их ждут нищета, позор и отторжение. Родители же фланировали по пляжам Зеленогорска, Сочи или Гагр, обильно обедали вечерами на втором этаже Европейской или в «Астории», в «Жемчужине» или «Гагрипше», обсуждая удачный прикуп или новости эстрадного мира – о делах в ресторанах не говорили, прятали под кроватями у друзей, живших в пещерных коммуналках, чемоданы с деньгами, прислушивались к шагам на ночной лестнице, утром планировали новые схемы, предлагали свежие идеи, искали эффективные пути сбыта продукции и новые каналы получения сырья. И ждали, ждали… Они жили странной, иллюзорной, бешеной и обреченной жизнью, из колеи которой они не смогли бы вырваться даже при всем своем желании.
Когда начались процессы, подсудимые особых симпатий не вызывали. Помню, взрослые в разговорах (родители об этом почти не говорили; при мне, во всяком случае) с пониманием относились к обвинениям. Русский менталитет всегда основывался на антипатии к разбогатевшим, энергичным, предприимчивым. Советская власть эту антипатию усугубила, привив «классовую» ненависть к «кулакам», и окончательно закрепила в сознании гражданина страны Советов основной закон жизни – «жить не высовываясь». А «эти» высунулись, хотя… за трикотажными изделиями подсудимых охотились, это был дефицит – модный, удобный, вожделенный, недорогой. Таких изделий госпредприятия не выпускали. Схемами советских дельцов акулы западного бизнеса восхищались, недоумевали, пытались использовать. Несколько позже, в 61-м году, ходили слухи по поводу сделок – эффективных и нетривиальных – Яна Рокотова: будто бы в Западной Германии ему была присуждена премия за лучшую схему финансовой сделки послевоенного времени и предрекали Нобелевскую премию по экономике. Возможно, это были слухи, но то, что в Нью-Йорке есть улица имени Яна Рокотова – это факт. И «цеховики», и «валютчики» явно законов не нарушали, почти не нарушали, старались не нарушать. Умные, ушлые, талантливые были люди, но наивно верили, что в стране есть законы… Они искали лазейки, зазоры, нестыковки между законами, используя их несовершенство или устарелость, играли на противоречиях между законом и прецедентом, нащупывали способы повысить прибыльность производства, что естественно и закономерно для здорового предпринимательства. Иначе говоря, шел органичный для нормального мира соревновательный процесс: бизнес искал огрехи в законодательстве, законодательство эти огрехи ликвидировало, пытливая мысль предпринимателя нащупывала новые возможности минимизировать свои затраты, государство эти возможности сужало, в результате законы совершенствовались, зазоры уменьшались, лазейки замуровывались.
Бизнес крепчал и окончательно легализировался. Интересы государства и предпринимателя постепенно приходили в соответствие. Но это – «у них». «У нас» действовал и действует – смотри процесс Х(…) – другой – свой, особый, естественный и органичный процесс: «Я ему цитату, он мне – ссылку». Это – в лучшем случае. Ян Рокотов Нобелевку не получил. Его, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева расстреляли. Это был 1961 год – далеко не самый мрачный год современной истории России. Всё помню. Память – моя Родина.
Май, Мир, Труд!
1961 год – переломный в моей жизни. В этом году я стал студентом. Новая жизнь ошеломила, соединила курительный и питейный периоды, синтезировав оные с новыми – возвышенными и низменными – сторонами интимной жизни homo sapiens sapiens’а, озадачила профессиональными проблемами на неведомом ранее высоком уровне. И постепенно начала приобщать к вопросам, которые волновали студенчество, выделяя его из инертной массы большинства лояльных граждан страны победившего социализма. Сквозь частоколы и заросли споров и суждений о виртуозных уроках Самария Савшинского или Натана Перельмана, блистательных лекциях Павла Вульфиуса или Михаила Друскина, успехах своих звездных соучеников, будь то Владимир Атлантов или Елена Образцова, Юрий Темирканов или Филипп Хиршхорн, восторгов по поводу выступлений приезжих знаменитостей или своих – питерских – гениев, непризнанных, забитых начальством, таких, как Абрам Давыдович Логовинский или Марк Комиссаров, – сквозь джунгли всех проблем студенческого возраста, главной из которых было: идти на лекцию или в гастроном – сквозь всё это исподволь, робко, незаметно стал пробиваться вопрос, который со временем определил дальнейшую жизнь многих из нас: где мы живем, в чём мы живем. Поразительно, что таким еле ощутимым «подземным толчком» являлись не политические процессы – до зоологического по тупости суда над тунеядцем Бродским было ещё три года, над Синявским и Даниэлем – четыре года. Пробушевала травля Пастернака, вяло гнобили Дудинцева, но это были всплески общественного негодования уралвагонзаводовского уровня. Никого не посадили, никаких юридических последствий не случилось ни для этих авторов, ни для, скажем, Паустовского, чье выступление 22 октября 56-го года в Центральном Доме литераторов было в разы сильнее романа «Не хлебом единым», – выступление, напугавшее и расстроившее автора этого невеликого, но нашумевшего в середине 50-х романа. Нет, таким толчком стал процесс над Рокотовым и его коллегами, то есть процесс экономический – «никакой политики». Все это нас мало волновало. Мы прислушивались к разговорам взрослых, взрослые – родители, прежде всего, – старались говорить тише и подальше от нас, но у нас ушки были на макушке. Эти экономические эксперименты были им чужды и приговоры по ним понятны и в целом одобряемы. К тому же народ настолько попривык к крови, насилию и воинствующему беззаконию, которые так успешно прививала советская власть с момента разгона Учредительного собрания, что, казалось, удивить было нечем. И вдруг! – Оцепенение и какая-то оторопь. «…Этого не может быть… Даже в 37-м такого не было…» Что такое «37-й год» мы знали; доклад Хрущева на XX съезде растаскали на цитаты, заклинали ими на всех властных уровнях с тупой настойчивостью девственных шаманов. Так что с возвращением к ленинским нормам было понятно, споры в народе и среди интеллигенции велись главным образом о том, знал ли об этих отклонениях Пахан – главный блюститель ленинских норм, или «оказался наш Отец не отцом, а сукою».
Оцепенение и оторопь вызвали не срок, данный Рокотову и партнерам за валютные операции. Первоначально они получили максимальный срок, полагавшийся по 88-й статье, действовавшей на момент преступления, – 8 лет. Затем рассвирепевший Хрущев распорядился изменить закон, и хотя закон не имеет обратной силы – «против кремлевского лома нет приема». (Дорогому Никите Сергеевичу в Германии на его гневные филиппики супротив загнивающего капитализма возразили, что и в Москве, у него под носом, творят экономические чудеса в лучших капиталистических традициях.) Рокотову и подельникам дали пятнашку. 15 лет фактически могли стать для него пожизненным сроком: Рокотов уже отсидел первый раз 8 лет (с 1946 года) по 58-й статье и выжил с трудом. В «режимной бригаде» его систематически избивали за невыполнение нормы – он был «худ, слаб»; от побоев он потерял память и способность к ориентации на местности. Лишь выйдя на свободу, он восстановил свое психическое состояние, но был, как вспоминали, «худенький, болезненный, слабый юноша». Один глаз у него был выбит. Поэтому новый срок уже по «экономической» статье мог стать для него смертным приговором. Дмитрий Яковлев был тяжело и неизлечимо болен, так что даже следователи ходатайствовали о замене расстрела тюремным сроком. Но Хозяин закусил удила… Приняли Указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях». Специально для троих была вписана высшая мера – расстрел.
Такого, действительно, в 37-м не было. Даже тогда не применяли закон, принятый после совершения преступления, ибо «нет закона – нет преступления». В те славные времена власти предвкушали и планировали преступления и заранее удосуживались подготовить нужные указы и постановления. Здесь же основополагающий принцип мировой юриспруденции был нарушен, причем дважды.
Главенство настроения или минутного побуждения над законом было константой нашего бытия. Дело Рокотова и К˚ не являлось единичным исключением. В мае 1958 года, за несколько дней до открытия чемпионата мира по футболу, был арестован Эдуард Стрельцов – «русский Пеле» – уникальный футболист, кумир не только болельщиков, но, пожалуй, всей страны. Было изнасилование, не было, – никто особо не расследовал. Подала заявление некая Марианна, затем отозвала, «простила»… Никакого значения это не имело: Хрущеву под горячую руку доложили, он гаркнул: «Посадить!.. И надолго!». Генпрокурор Руденко взял под козырек. (Слава богу, не в Америках жили!) Посадили. Дали 12 лет. В документах органов исполнения наказаний была пометка: «использовать исключительно на тяжелых работах». (Я никогда не был футбольным болельщиком, более того, никогда не был на стадионе. Стрельцова я видел по телевизору уже в середине 60-х, после его досрочного освобождения из лагерей, а Никиты Сергеевича от должности. Он – Стрельцов – был отяжелевший, уже не бегал, а передвигался, но виртуозность обводок, точность пасов, ударов были непостижимы. Не случайно в 1967 и 1968 годах был признан лучшим игроком страны – это после восьмилетней отсидки. Такого футболиста в России не было. Его пушечные удары с обеих ног, его потрясающий пас пяткой, умение видеть поле и находиться в самой оптимальной для удара точке, импровизационность и легкость перемещения по полю в молодые годы были уникальны). Дело и Рокотова со товарищи, и Стрельцова – Огонькова – Татушина – знаковые, типичные дела, никак не единичные. И не только (не столько) периода «царствования Никиты». (В скобках отмечу лишь то, что при нем за подозрение в изнасиловании беззаконно сажали, но самим изнасилованием на самом высоком уровне все же не восхищались, насильнику не завидовали – помните: «мощный мужик, десять женщин изнасиловал, мы все ему завидуем…».)
То, что мы живем в стране, социуме, традициях, никогда не знавших, что такое закон и принципиально противопоставлявших закон справедливости и так называемому «революционному правосознанию», мы уже постепенно начинали понимать и к этому привыкать. Мы живем, под собою не чуя страны. Значительно позже я осознал, что дело не только в этом.
«Может монарх Государь законно повелевать народу, не только все, что к знатной пользе отечества потребно, но и все, что ему ни понравится, только бы народу невредно и воле Божией не противно было». Что же «народу полезно и воле Божией не противно» – «судией является сам Монарх». Это – Феофан Прокопович – одна из наиболее талантливых, образованнейших, омерзительных и жутких фигур русской истории. Ориентируясь на Петра, Феофан выстроил логичную, опирающуюся на произвольно выхваченные и трактуемые мысли Спинозы, Лейбница, Бэкона или Декарта систему, обосновывающую бесконтрольный деспотизм как единственно работающую модель власти в России. Даже не абсолютизма, а именно деспотизма, когда самодержавный властитель (монарх, президент, диктатор) есть не правитель государства и подданных, но их хозяин – деспот. Подданные же деспота, – по словам Аристотеля, – «суть рабы его». Принципы, изложенные Прокоповичем в «Правде воли монаршей», не только сформулировали суть государственного устройства России в прошлом, апогеем которого был кровавый деспотизм Ивана Четвертого, но и определили все дальнейшее существование власти в будущем. Бывали относительные исключения. Известен диалог между Павлом и, кажется, Кутайсовым (или Куракиным), когда Павел отдал приказ, а его фаворит осмелился возразить: «Этого сделать невозможно!» – «Мне нельзя?! Ты спятил!» – «Закон не дозволяет. Измените закон, Ваше Величество, исполню!» – «Э, нет, братец, так нельзя. Ты прав!» – Император успокоился. Граф Дмитрий Блудов поучал молодого Николая Павловича: «самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены оных должен сам им повиноваться». Иначе самодержец превращается в деспота. Некоторые представители дома Романовых следовали этим принципам; часто личные качества, воспитание, окружение и влияния нивелировали, минимизировали, затушевывали крайние проявления деспотизма, но все же бесконтрольность произвола – норма мышления и действий русского Хозяина, будь то Иоанн Грозный, Анна Иоанновна, Никита Сергеевич или (…).
При деспотии «русского розлива» капризы и подавляемые комплексы Хозяина – причины не только внутреннего, но и, к изумлению остального мира, внешнего поведения, далекого от адекватности и элементарного разумения. Передала, скажем, Османская империя ключи от Церкви Рождества Христова в Вифлееме не православным, а католикам, – так сильно обиделся Николай Первый – «не сакрально как-то». «Вифлеем наш!», – вскипел разум возмущенный. И в смертный бой – понеслась очередная гибельная Крымская война. Раз так, то и Мы адекватно и асимметрично. Уязвленный в лучших чувствах царь, желая казаться самым православным из православных, ввел войска в Валахию и Молдавию. Мы за ценой не постоим. Результат – позорное поражение, потеря флота, гибель почти 150 000 русских солдат и офицеров.
«Россия живет во вред себе и назло другим народам». Николай Бердяев прав, как ни грустно.
Многое в России происходит, но ничего не меняется. Почти: Николай покончил с собой. Все же – Романов!
Впрочем, тогда мы об этом не задумывались. Мы вообще мало задумывались. Привлекали внимание внезапный испуг, недоумение взрослых – мы тогда к постоянному страху не привыкли – и слухи, ходившие вокруг этого процесса. Миллионер Рокотов, вечно в одном и том же сером костюмчике, живший в одной комнате с теткой-инвалидом в коммуналке на Божедомке… Его же слова, сказанные перед вынесением последнего, расстрельного приговора, кажется, Эдуарду Хруцкому: «Они меня все равно расстреляют, они без казней не могут, но хоть года два я пожил как человек, а не как “тварь дрожащая”!» Недоуменные и возмущенные письма Бертрана Рассела или академика Сахарова – тогда, в 1961 году, А. Д. Сахаров – лауреат Сталинской и Ленинской премий, дважды Герой Соц. Труда (в третий раз он станет им через год) – был правоверным, хотя и умным, сугубо советским человеком. Поведение – независимое и достойное на процессе: 24-летний Файбишенко отказался от адвоката: «И меня не спасете, и себе жизнь испортите». Варлам Шаламов – непререкаемый для нас авторитет – позже сказал: «Московские валютчики держались с бо́льшим достоинством, чем троцкисты в тридцатые годы».
Но это было позже. А тогда был всего лишь 1961 год – не самый страшный в нашей истории. Переломный год в моей жизни.
Пока что – в середине 50-х – мы бродили по пляжу Репино, а иногда и Зеленогорска. На платных пляжах стояли мороженицы под большими зонтами, около них толпились дети с зажатыми в кулачках монетками. Шагах в ста от главного входа на пляж «Чудный» был пивной ларек, и счастливые пляжники с пылающими обгорелыми лицами со смаком поглощали пенистое пиво в запотевших кружках. Жены с завистью поглядывали на мужей и пили теплую газировку. Привыкли ругать Сталина или Маленкова, а пиво в те времена почти не разбавляли.
Посеем впору – соберем зерна гору!
Сначала я наслаждался водами Финского залива, а потом меня стали вывозить на юг – лечить истощенные блокадой легкие и прочие органы и члены. Там я влюбился в Черное море и стал забывать чудные поездки в Озерки или Ольгино. Да и сами эти поездки понемногу прекратились. Но в памяти осталось ликованье: «Поехали купаться!» – и всей гурьбой на 9-й трамвай или на поезд с Финляндского. Сначала – после войны – поезд ходил раз в сутки: небольшой «короткий» паровоз с толстой черной трубой – дымовой коробкой – в передней части парового котла, окрашенного, как правило, в зеленый цвет, – тащил три прицепных деревянных зеленых вагона. Поезд шел от Финляндского вокзала до Зеленогорска три часа. Чаще паровоз был черный, грязный, длинный, с надписью на кабинке машиниста: «Э-1112». Такой паровоз тащил обычно грузовые составы. Когда мы снимали дачу в Репино, эти составы нас привлекали. На платформах везли зачехленные танки или пушки. То в сторону Выборга, то обратно. То попугать, то отдохнуть. Мы считали, сколько их. Военная мощь страны нас в детстве возбуждала. Тогда я до обмороков боялся паровоза, точнее, его оглушительного гудка и выброса горячего шипящего белого пара из-под передних колес. Так же панически я боялся звуков салютов 7-го ноября и 1-го Мая. Но паровоз был страшнее. От салюта можно было убежать, а мимо паровоза не пройти, если надо попасть в вагон. Долгое время я называл паровоз «чук-гу-гу», а швейную ручную машинку Зингера, на которой шила мама, «дзинь-гу-гу». Звуки «дзинь-гу-гу» мне нравились. Под эти звуки я привык засыпать. Под звуки «чук-гу-гу» не то что спать, – жить было невозможно. Особенно громко, ужасающе громко гудел паровоз «ИС» – «Иосиф Сталин». Это был длинный, самый мощный пассажирский – магистральный – паровоз нашей страны и, кажется, Европы. В отличие от других, больших и малых замызганных паровозов-трудяг, этот был всегда заново выкрашен, вымыт, свеж и ослепителен. Красные колеса с белыми ободками, стремительная красная линия вдоль парового котла, длинный тендер, – внушительный был паровоз. И гудел этот «чук-гу-гу» устрашающе. У меня случалась истерика.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































