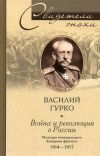Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
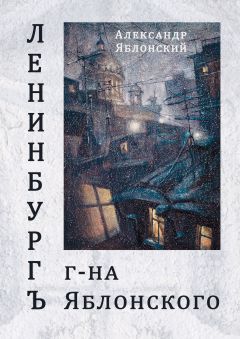
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
А как не запьешь, ежели у государя-батюшки денщиком состоишь? А потом – генерал-адъютантом! Я сам бы запил, даже без государя-батюшки… И все же надо было поостеречься. В такой-то коллизии. На что надеялся? – На то, что доверенными лицом Государыни был: уезжая из столицы, Екатерина только на его – генерал-полицмейстера – попечение оставляла свою дочь Наталью Петровну и ее сводного брата Петра Алексеевича. Да, наверное, помнила, как ее покойный супруг любил Антонио.
Зря надеялся.
«Протокол допроса А. Девиера от 28 апреля 1727 года
И того ж числа по прочтении присяги вышеписанные господа министры и генералитет заседали; и по заседании вышереченный Антон Девиер по нижеписанным пунктам допрашиван.
Вопрос:
Сего апреля 16 числа во время по воли Божьей Ея Императорскому величеству жестокой болезни параксизмус все доброжелательные Ея Императорскому величеству подданные были в великой печали, а ты, в то время будучи в доме Ея Императорского величества, не токмо был в печали, но и веселился чему?
Ответ:
Сего апреля 16 числа в бытность в доме Ея Императорского величества в покоях, где девицы едят, попросил он у лакея пить, а помнитца, зовут ево Алексеем, а он назвал ево Егором, и тому не один он, но и протчии разсмеялись.
Вопрос:
Плачующуюся Софью Карлусовну вертел ты вместо танцов и говорил ей – «не надобно плакать» – для чего?
Ответ:
Плачующуюся Софью Карлусовну вертел ли он вместо танцов или нет – не помнит, а такие слова, что «не надобно плакать», помнитца, говорил, утешая.
Вопрос:
В другой палате ты сам сел на кровать и посадил с собою его высочество великого князя и нечто ему на ухо шептал – что?
Ответ:
В палате при его высочестве великом князе на кровате сидел, на ухо с его высочеством смеялся вышеписанному ж смеху о лакее; а окроме вышеписанного чтоб к противности Ея Императорскому величеству не говорил.
Вопрос:
В тот час государыня цесаревна Анна Петровна в безмерной быв печали и стоя в той палате у стола плакала и в такой печальной случай ты, не встав против ея высочества и не отдав должного рабского респекта, но из злой своей предерзости, говорил ея высочеству, сидя на той кравате: «о чем печалисся, выпей рюмку вина».
Ответ:
С великим князем между тем временем изволила государыня цесаревна в тое палату притти, и он хотел вставать, и она не ему одному, но и всем, которые в той палате были, вставать не приказала и изволила сесть кушать. И он говорил – полно государыня печалитца, пожалуй мне рюмку вина своево, и я выпью, понеже она государыня в тот час изволила сама кушать вино.
Вопрос:
Когда выходила в тою полату государыня цесаревна Елисабет Петровна в печали и слезах, и перед ея высочеством по рабской своей должности не вставал, и решпекта не отдавал и смеялся он некоторым персонам, а для чего так учинил и о которых персонах?
Ответ:
Государыня цесаревна Елисабет Петровна в полату приходить неоднократно изволила, и он по должности своей решпект отдавал; и более вышеписанного смеху, как у него в первом пункте показано, не было; а о других персонах чтоб он о ком смеялся, того не помнит.
Вопрос:
Его высочество великий князь объявил, что ты в то время посадя его высочество с собою на кровать говорил ему: «поедем со мною в коляске, будет тебе лутче и воля, а матери твоей уже не быть живой». Куды ты ево высочество хотел везти и для чего, и чем лутчим ево обнадеживал?
И так далее. Короче говоря, Государыня отходила, Антон Мануилович дозу принял и явился утешать присутствующих. В сильном подпитии Софью Карлусовну (Скавронскую – племянницу императрицы) «крутил», Анну Петровну веселил, рюмку предлагал в столь скорбный момент, лясы точил – тут шурин и подсуетился. «О наказании за непристойные и противные разговоры против Императорского Величества». Екатерина хоть и находилась уже в состоянии невесомости между небом и землей, но слабеющей рукой изволили начертать: «Я и сама его, Дивиера присмотрела в противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщниками были; того ради объявить Дивиеру, чтобы он объявил всех сообщников». Дальше – дело техники. И отошла Марта Самуиловна Скавронская, служанка пастора Эрнста Глюка, грамоте не ученая, – Екатерина Первая. А друга доверенного ее – на дыбу (правда, казнь через четвертование, по обычаю, перед причастием заменила вечной ссылкой после порки кнутом прилюдно).
«Нет, ребята, пить вредно», говорил прекрасный актер Георгий Бурков в конце чудного фильма Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». (Сам Бурков часто играл пьяниц, хотя в жизни был трезвенником).
Но, если нельзя, но очень хочется…
Как-то раз хорошо посидели, вернее, постояли – в рюмочных стульев не было, там общались стоя, – с Саней Малышевым и Сашей Яровым. Три богатыря, три Александра зашли туда после овощной базы.
Овощная база была неотъемлемой частью жизни и творчества ленинградской интеллигенции. Перебирать капустные кочаны, отделяя гнилые от очень гнилых, могли только люди с высшим техническим или гуманитарным образованием, а также молодежь, подающая надежды это образование получить. Особенно ценились пианисты, выпускницы Вагановки – встречал я там и этих сильфид, физики-теоретики и будущие архитекторы. Их КПД было не нулевым. Отрицательным. И это радовало руководство овощного сектора Ленагропрома. Было на кого списать некоторые нереальные убытки. По этой же причине, равно, как и по причине широты души русской – «сузить бы» – поощрялось легкое, не затрагивающие интересы работников базы, незатейливое и временное заимствование продуктов питания для парнокопытных: что-то типа редьки, брюквы, свеклы или репы. Академики и член-корры, профессора и народные артисты, заслуженные учителя и аспиранты-филологи, офтальмологи и сантехники, студенты и лаборанты – все несли. «Вынесет всё, что Господь ни пошлет…». Причем не воровали, как правило. Кто тихонько положит в сумочку пучок моркови, кто – дыньку, кто внучку на память коричневый подтекающий банан. Разве это воровство?! Охрана смотрела сквозь пальцы на такую мелочёвку. Русский народ жалостлив к нищим и убогим. Чаще работники овощебазы, как правило, обильно упитанные, грудастые женщины в ватниках, стеганых галифе и резиновых сапогах или изнеможённые мужчины неопределённого возраста и пола с отекшими лицами цвета лежалой груши «Бере», понимая нищенское состояние всей этой доцентуры и в то же время зная, кто запускает спутники, побеждает на конкурсах Шопена или Маргариты Лонг, танцует по всему миру и решает разные теоремы и аксиомы, эти пропитанные гнилостной сыростью мужчины и женщины сами предлагали: «Возьми это с собой. Покушаешь немного и сыночку на закуску пригодится». Жалели убогих…
В тот раз мы приехали с овощебазы на Пискаревке, которая почти напротив кладбища, там, где Родина-мать. Поздняя осень. Промозглость, серость, моросит. Парфюм тухлых даров природы ещё не выветрился. Взяли сразу по три по пятьдесят. Бутерброды были с зеленоватой колбасой. Водка хорошо пошла. Холодная. Говорили о войне, о кладбище, о полумиллионном захоронении ленинградцев, про гниль на овощебазе, об идиотизме вообще и в частности. Взяли ещё по соточке. Хорошо стояли. Нутренность согревалась, тоска отпускала сердце. Так бы и стояли… Говорили о том, что все несут и отовсюду. Если есть, что нести, то почему нет просто так? Кто-то вспомнил случай, как работяги с бойни вынесли целую тушу свиньи, положив ее на носилки и закрыв окровавленной простыней. На рукава напялили повязки с красными крестами, як санитары, – пронесло. Охрана либо в доле была, либо уже приняла на грудь. Или просто охламоны, что вернее.
Надо сказать, что мы в таких авантюрах участия не принимали. Но от подношений не отказывались. А подношения до поры до времени были регулярны. Артистов тогда уважали. Поэтому творческие работники старались редакторов, составляющих концерты, и администраторов умаслить, подношением поделиться и вообще водить с ними дружбу. Особо ценились концерты на ликеро-водочном заводе, на кондитерской фабрике и на мясокомбинате. С ликеро-водочного, как правило, не выносили. Только если на праздник могли подарить бутылочку дефицита, вроде «Рябины на коньяке» или клюквенную водку «Северное сияние» (не путать с одноименным популярным «коктейлем» того времени: спирт 40 мг + шампанское 100 мг – убойное изобретение русского гения). Не выносили, но дегустировали продукты выгонки прямо на месте – в цехах или в Профкоме. Поэтому артисты, при всей погоне за «палками», концерты после «рабочего полдня» на ликеро-водочном не брали. Да нам и не давали.
Не стой под краном, убьет!
По просьбе боссов профсоюзного движения ликеро-водочного завода редакторы старались ставить в эти концерты малопьющих артистов и лекторов-язвенников. Однако количество таких непьющих коллег или язвенников после каждого концерта на предприятиях пищевой (ликеро-водочной) промышленности неумолимо снижалось, число же желающих возрастало.
На кондитерских фабриках я концерты не помню. Кажется, там не бывал. Я не сладкоежка, а детей тогда у меня не было по причине разбросанности характера. Вот концерты на Мясокомбинате помню хорошо. Там наша сытая жизнь позорно закончилась. При мне.
Культмассовый сектор Профкома мясокомбината на Средней Рогатке отличался отзывчивостью и любовью к искусству. К тому же там прекрасно понимали, что выступать на их предприятии, названном впоследствии «Самсон» (видимо, по аналогии с тем самым Самсоном, который так удачно разрывал пасть льву в Петергофе), – удовольствие не для слабонервных. Поэтому увечья психики они старались компенсировать мясопродуктами. В убойном цехе и в лайфстаге (цех предубойного содержания скота) работали самые стойкие. Но и они не выдерживали. При мне упала в обморок прекрасная актриса из Театра комедии. Начала читать монолог и «поплыла». Слава Богу, два проворных мужика, сидевшие в первом «ряду» – в метре от «сцены» – успели, видимо, не впервой, подхватить пожилую женщину, которая стала оседать у них на глазах. Так что концертное платье она не запачкала в кровяной слизи, покрывавшей цементный пол «убойного цеха». Стоял невыносимый удушающий запах крови, стекавшей по тонким желобкам в полу, из лайфстага доносился гул – приглушенный несмолкающий монотонный вой ужаса скота, предчувствовавшего свою неминуемую гибель. Это было именно не мычанье, а жуткий вой. «Она, бедняга, не первая. У нас часто падают в обморок», – сочувственно пробормотала пожилая женщина, помогая уносить артистку. Актриса пережила блокаду. Поэтому ее откачали довольно быстро. Народным способом. Дали понюхать нашатырь и стаканчик 40-градусного лекарства. Концерт продолжался.
«Как вы здесь работаете?», – как-то спросил у могучей тетеньки, работавшей в разделочном цехе. Тот же невыносимый смрад, слизь, кровавые туши, только воя уже не слышно. «Ко всему привыкаешь, сынок… Вот в убойном не смогла привыкнуть».
После концерта чистенькая женщина из Профкома доставляла нам гостинцы. Это была огромная радость – принести домой палку полукопченой колбасы, половину копченой шейки (полендвицы) и пару банок недоступных трудящимся массам консервов: «Завтрак туриста», «Сосисочный фарш» или говяжьей тушенки. Копчено-колбасные изделия припрятывались к Новому году или дням рожденья, а банки с консервами – к гастролям. Гастролировать по голодной стране без этого подспорья было невыносимо.
Как мы могли брать эти пропитанные болью и отчаянием шматы только что живой плоти, эти банки с законсервированным ужасом беззащитных и обреченных Божьих тварей? Ведь брали, и брали с радостью, и рвались на эти концерты на Мясокомбинате, что на Московском шоссе… А дома нас ждали жены, дети: папа что-то вкусненькое принёс.
Всему приходит конец. Пришел конец и этим дарам будущего «Самсона». Говорили, что с мясокомбината тащили грузовиками. Без затей: гудела груженая трехтонка или пятитонка, охранник нажимал кнопку, и машина спокойно выезжала на волю. Потом охранника увольняли, кому-то – выговор, и – до следующей трехтонки. Но это была уже другая категория, и «несуны» были другого уровня. Мы же несли чуть-чуть и с разрешения. Нас сопровождала до проходной освобождённая профсоюзная активистка, она многозначительно кивала охраннику, тот нам улыбался и в сумки-портфели не заглядывал. В тот роковой день то ли она ему невнятно кивнула, то ли охранник был необученный или неопохмеленный; может, у него ребенок музыкой занимался или он сам был фанатом Арвида Янсонса, но, так или иначе, он удивился, чудак, тому, что один из участников эстрадного трио, аккомпанировавшего песням композитора Ефремова в его собственном исполнении, а именно – контрабасист, нес контрабас отдельно от футляра этого инструмента. Один предмет, по его разумению, должен был находиться внутри другого. От изумления охранник поинтересовался, чем же занят футляр. Напомню, что контрабас – самый большой струнный инструмент, его высота – около 2-х метров. Футляр ещё больше и объемнее. Короче, этот футляр был битком упакован мясными дефицитами. Этих деликатесов хватило бы, чтобы накормить концертмейстера «Заслуженного коллектива Ленинградской филармонии» М. М. Курбатова, всех контрабасистов города, их близких и дальних родственников, Арвида и Мариса Янсонсов в придачу. Арвид и Марис – выдающиеся дирижеры, но всю колбасу и полендвицу с сосисочным фаршем изъяли: тырить надо было либо в портфельчиках, либо машинами-трехтонками, футляры же от музыкальных инструментов уставом комбината и практикой организованного выноса не предусматривались. Руководство флагмана пищевой промышленности попросило контрабасистов на концерты больше не присылать, а профком подношения прекратил. Вскоре прекратились и сами концерты. Так что гастролировать по ещё более оголодавшей стране пришлось без «Завтрака туриста».
Вскоре прекратился и сам Мясокомбинат. Это случилось в конце концов, а конец концов наступил в начале двадцать первого века. Он – комбинат, а не век – обанкротился. Каким образом это могло произойти, одному Всевышнему известно. И органам, но они молчат. На месте кормильца города-героя-колыбели – застройка жилых помещений. Куда девались бронзовые быки у ворот «Самсона», перенесенные в свое время от старого Скотопригонного двора на Обводном канале, исполненные в начале XIX века выдающимся скульптором Демут-Малиновским (автором скульптур Казанского собора, арки Главного Штаба, Нарвских Триумфальных ворот и нашего Елагина Дворца на Островах, где мы брали лыжи напрокат – помните!), не знаю.
Вот обо всем этом мы и толковали в рюмочной на Рылеева напротив моего родового гнезда, о котором я тогда и не знал.
Часто в этой рюмочной я встречался со своими соседями.
– Добрый день, ваше сиятельство!
– Добрый, добрый. Как ваша матушка, Саша?
– Благодарствую, Виктор Павлович. Занемогла немного. Долго стояла в очереди за гречкой.
– Да, с подвозом продуктов питания есть ещё проблемы. Думаю, Павел Димитриевич Киселев будет крайним. Большой реформатор. Казенных крестьян осчастливил. Да и с мятежниками 14 декабря знался. Это не прощается. Ух, как его не любят наши землевладельцы. В Государственном Совете так и заявили: «нам не страшен коммунизм, страшен киселизм». Кланяйтесь вашим.
– Всего наилучшего, князь.
…На родине бывшего министра культуры, в Вышнем Волочке, встали. Босоногая Катерина бегала здесь – бегала, добегалась. 64 года всего прожила, но память оставила. Разную. Пила хорошо. От радостей иль с горя? Не самым худшим министром культуры была эта ткачиха…
Встали так встали. Где же ещё постоять, как не в бывшем Вышневолоцком яме. Совсем давно, когда меня, Гурченко и графа Аракчеева ещё и на свете не было, здесь – на «Вышнем волоке» гужом перевозили товары с реки Тверца на реку Цна – могучие реки. А там уж водой везли в Новгород. А ещё сидел в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме мой сосед, господин Короленко В. Г., откуда был отправлен в Сибирь, в Томск. Ныне же меня везут. В Город…
Не задалась жизнь сегодня. Сказали, что ремонт путей. Хорошо, что сказали. Опять, стало быть, ленинградская бригада. По этому случаю я открыл баул и достал снедь и бутыль. «Монарх и узник – снедь червей»… Я тоже снедь. Буду ею. Уже скоро. Мне много чего напихали в дорогу. Я отказывался. Оказывается, зря. Удачно получилось, что захватил коньяк. Думал, что брать. Если б остановился на водке, то пожалел бы: теплая проходит с трудом, даже в поезде у Вышнего Волочка. Я не буду целовать холодных рук. Почему холодных? Это у покойника холодные. Ледяные. Я пощупал свою левую руку. Холодная. Но я ещё был жив. И уехал, и уехал в Петербург.
Где-то невдалеке, в Вышневолоцком уезде, в селе Рыскино, коротает свои дни Анна Николаевна Дубельт, супруга Леонтия Васильевича Дубельта. В Петербург выбирается редко, чтобы не отвлекать своего деликатнейшего друга от неотложных, неблагодарных, но государству необходимых дел. Леонтий Васильевич супруге верен, в столице ведет строгий образ жизни, но наезжает в имение крайне редко – раз в несколько лет. Бывший адъютант легендарных генералов Дохтурова и Раевского, бывший масон и «первый крикун-либерал», как окрестил его Николай Иванович Греч, доблестной и безупречной службой должен искупить грехи пустоголовой молодости: как-никак, был под следствием по декабристскому делу – майор Унишевский донес. Однако второго свидетельства не добились, посему и отпустили, хотя фамилию и внесли в «Алфавит». Анна Николаевна понимает ситуацию и на мужа зла не держит.
Анна Николаевна – из хорошей семьи. Поэтому поначалу была не в восторге от решения Левушки стать жандармом. «Не будь жандармом», – писала она мужу. Однако Леонтий Васильевич все объяснил, вразумил. «Ежели я, вступив в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе имя мое будет, конечно, запятнано. Но ежели, напротив, /…/ буду опорой бедных, защитником несчастных, ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, – тогда чем назовешь ты меня?» Убедил. Тем более что все рассказывали, как Николай подарил графу Александру Христофоровичу платок, дабы утирать как можно более слез у обиженных. Левушка старается, и Анна Николаевна регулярно шлет ему подкрепление для сил духовных и физических. Вот и ныне собрала две корзины с яблоками – антоновкой наливной, корзинку с крыжовником, полотенца – дюжину из толстого полотна, «чтобы воду в себя лучше вбирали», и тюк картофеля – «белого, чистого, как жемчуг, но жемчуг огромных размеров для жемчуга». С фельдъегерем завтра отправит, хотя ох как не нравится ей пользовать государственного человека для семейных нужд, о чем уже писала Левушке. Леонтий Васильевич, хоть и произведен в генерал-майоры и стал начальником Штаба Корпуса жандармов, но ее, старосветскую помещицу, не забывает. Вот и посылочку прислал. Она диктует, а Тихон записывает в «Ведомость прихода» – Анна Николаевна любит строгий учет: «Десять коробок с чинеными перьями, записал? Икры огромный кусок (это паюсная икра, слежалая, лучшая), так, карта Швейцарии (вещь крайне необходимая в Рыскино Тверской губернии), миногов бочонок, записал?.. Новая Библия английская, дюжина перчаток, бочонок свежей икры (это белужья икра – лучшая, намедни прислал Левушка осетровую – вкус не тот!), душистое мыло шесть кусков, денег 140 рублей…». И ещё Левушка пишет, что граф Петр Алексеевич Толстой в конце сентября сего 1844 года скончался. Сидел в кабинете у себя в имении, бумаги разбирал, подписывал, новый сорт гладиолусов выводил – и отдал Богу свою душу. Жаль. Чудак был превеликий. Столичный генерал-губернатор, командующий Преображенским полком и Гвардейским корпусом, генерал-губернатор Выборгской губернии, а в долгах. Чтобы расплатиться с мелкими долгами – лавочникам, сапожникам, портным, прачкам – продал один из своих домов в Петербурге и 27 тысяч из выручки отдал дворецкому, чтобы тот рассчитался. А дворецкий, не будь дураком, и сбежал. Но граф не стал его преследовать ввиду того, что сей малый был супругом горничной ее сиятельства, а его сиятельство к той горничной девке имел расположение. Чисто платоническое. Плакали эти тысячи. Ох уж эти Толстые…
Хорошо, покойно, привольно живет Анна Николаевна в Рыскино. Крепостные ее любят, и она их жалует. Места красивые, патриархальные, без столичных штучек. Невдалеке сельцо Гарусево – там Алексей Андреевич Аракчеев родился. Хотя… Кто его знает, где он родился. Леонтий Васильевич его не шибко жалует, да и Бог с ним.
Жаль, не знала Анна Николаевна, что я в двух шагах проездом. Прислала бы Тихона, я бы весточку Левушке в Городе передал…
…Ремонт путей шел неторопливо. За окном вагона резко потемнело. Тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой… Как может пахнуть гроза? Молния, гром? Как это перевести? После грозы пахнет прибитой пылью, раскрывающимися почками тополя, мокрым теплым «дымящимся» асфальтом, свежими огурцами. Море ароматов. А гроза, как она может пахнуть? – Но мы понимаем. Удивителен и уникален русский язык. Непереводимый.
Идиомы есть в любом языке. Тo show the white feather – поди знай. Перевод – «показать белое перо». Англичанин поймет: идиома означает «испугаться», «струсить». Но даже не каждый шотландец поймет. Однако такого богатства идиом, игры слов и просто речевых оборотов, не поддающихся расшифровке, как в русском языке, нигде нет. Кстати, «поди знай» – куда пойди, почему? Означает «кто знает» – поди догадайся.
Рядом сидит пара. Пожилые интеллигентные люди. Диалог. Она: «Как ты думаешь, он действительно на ней женится?». Он: «Да нет, наверное!». Она его поняла. И это вполне литературная речь, не жаргон, не феня приблатненной лиговской шпаны в духе нынешнего (…). В одном предложении утверждение, отрицание и сомнение. Как перевести? «Yes no maybe»…Она подумала и молвила: «Не женится. Кишка тонка». Он понял: речь идет не о тонкой кишке или о проблеме с прямой… «Не валяй дурака!» – «Какого?» – естественный ответ-вопрос. Дурака – Ваньку, то есть игрушку «Ваньку-встаньку» или вообще любого глупого человека? Или свой детородный орган? То есть не рукоблудствуй, не онанируй. (В простонародье раньше «ванькой» или «дураком» называли мужской член.) В любом случае – не занимайся ерундой, не бездельничай, не валяй от безделья войлочные отходы, остающиеся от производства валенок (что тоже говорит о происхождении фразеологического сочетания). Поди объясни иностранцу. Или: глагол настоящего времени спокойно применяется в прошедшем, равно, как и в будущем. «Завтра иду в оперу». Наоборот: «Сижу вчера, пью чай, звонит шурин: “третьим будешь”?» («Третьим будешь?» даже Д. Д. Шостакович понимал; чужеземец же и не догадывался). Что такое «лясы», которые любил точить первый генерал-полицмейстер Петербурга, не знал ни он, ни я. Вернее, мы знали, что «лясы» – от балясины. Почему же «точить лясы» обозначает «болтать» – возможно, изготовление балясин для перил было легким ремеслом, можно было болтать, балагурить. Но, возможно, от «балясы» – «россказни» и от украинского «баляс» – «шум». Черт ногу сломит. (Почему непременно «черт»?) Или: «Пошел вон!». Уже «пошел» или только «пойди вон»? – Нет вопроса! В армии, помню, приказания отдавали непременно в прошедшем времени. Мол, я приказал, и ты уже выполнил, тебя уже нет, быть не может, раз я приказал. «Рядовой Яблонский, быстро заправил койку и ушел». Рядовой может ещё долго маячить перед носом ефрейтора, но всесильный ефрейтор его уже не видит, его нет, коль скоро приказ отдан… Так и Президент Некоей страны, по уровню понимания субординации уже не ефрейтор, но скорее старшина-сверхсрочник, отдает приказ в прошедшем времени, никто его выполнять и не собирается, но – в прошедшем времени, стало быть, сделано. А это: «руки не доходят посмотреть…». Шедевр! Как понять это даже филологу-слависту из Англии или Японии? Хотя лучше всего предложение из пяти глаголов: «Решили послать сходить купить выпить». Великий и могучий!
Хотя и он забывается: то, что в 50-х воспринималось как неграмотность, сегодня кажется лингвистическими изысками. Выдающаяся ленинградская актриса – любимица города середины века – Елена Владимировна Юнгер накануне своего 90-летия – в самом конце XX столетия – на вопрос, есть ли изменения в русском языке на протяжении ее жизни, ответила: «Есть! И ужасающие! /…/ Можно с ума сойти. А как говорят наши главы правительства! (Кстати, что за «изящное» выражение?!) Они же не могут даже ударения делать по-человечески. /…/ А потом все повторяют за ними эти чудовищные ударения, безграмотные выражения…»
Не велик уход, а большой доход! Разводите кроликов!
…Помимо рюмочных, существовало ещё два очага питерской цивилизации. «Советское Шампанское» и «Вино в ро́злив». Не дай Бог поставить не там ударение – «Вино в Разлив». Аллюзия. Дело Ленина живет и побеждает. Потому что оно бессмертно. А экономика должна быть экономной. Поэтому – «в ро́злив». Часто совершал променад, как Данте, по социальным кругам города и общества: рюмочная с килечкой (техническая интеллигенция, по преимуществу), «Сов. Шампанское» – «Огни Москвы» (коньяк 50 гр. + шампанское 100 гр.) плюс соевый батончик или лимонная помадка в шоколаде (творческая, артистическая публика), «Вино в ро́злив» – 200 грамм красного крепленого с тем же соевым батончиком (пролетариат и все остальные с минимумом денежных знаков). И всюду чувствовал себя как дома, и не было классовой неприязни и идеологической несовместимости. Ничто так не сближает людей разного возраста, социального положения и вероисповедания, как рюмочная (и ее модификации), баня и общий врач-венеролог.
Соберем с целины богатый урожай!
Рюмочные «СовШамп» и «В ро́злив» были, так сказать, центрами повышения общекультурного уровня. Наряду с ними существовали специализированные, узкопрофессиональные точки. Вход в них не ограничивался пропускной системой или металлическими заграждениями. Селекция происходила путем естественного отбора. В низочке около Дома Искусств – особняк Зинаиды Ивановны Юсуповой (где «Лягушки» Аристофана – помните?) – театральная публика, околотеатральная, завсегдатаи кулис и закулисья, а также прохожие и все остальные гости нашего го рода. В «Щель» шли, по преимуществу, музыканты, артисты, миманс, оркестранты и служащие Кировского театра, Оперной студии, студенты и преподаватели Консерватории, Музыкального училища им. Римского-Корсакова (студенты училища им. Мусоргского подкреплялись в своей рюмочной, если помните), Школы-десятилетки, а также постояльцы гостиницы «Астория», чуть позже восстановленного «Англетера», а также жители соседних кварталов и гости нашего города.
И, конечно, Летний сад. Это было незабываемое время – время летних сессий для заочников Института культуры имени самой культурной Надежды Крупской. Той самой, которая со ставила черный список книг, подлежащих запрету и изъятию из библиотек, будь то Лев Толстой или Вл. Соловьев, Платон или Лесков, «Аленький цветочек» или Кант, стихи Чуковского или Шопенгауэр, Достоевский или Библия и многое другое: список запрещённых только детских книг насчитывал 97 названий. Горький попытался остановить это «зверство» и даже затеял издание лучших произведений отечественной и мировой литературы, но все его усилия оказались тщетными. Запрет держался довольно долго, а если и нарушался, то весьма своеобразным образом. Так, в 1935 году, Горький опубликовал в «Правде» статью в защиту «Бесов». Сталин распорядился издать роман тиражом в 5300 экземпляров. Один экземпляр был подарен Горькому, остальные пустили под нож. «Дело Крупской живет и побеждает, потому что оно…» Ныне же культура полностью соответствует ее имени. А министр культуры ещё более культурен, нежели самая культурная Надежда Константиновна, что внушает. И что естественно. Однако студенты были симпатичные, немолодые, доброжелательные. Они приезжали из различных концов страны, чтобы получить бумажку о высшем образовании. В этом случае их нищенская зарплата зав. сельским клубом или библиотекаря районной библиотеки Барнаула, руководителя хора комбайнеров Ставрополья или танцевального кружка города Северодвинска повышалась рублей на 10–15, что было существенно. Мы их не мучили изысками фортепианного исполнительства, они не мучили нас. После неутомительного рабочего дня мы часто шли летним днем в Летний сад. Впереди был отпуск, 120 рублей, которые мы честно зарабатывали за сессию; позади – учебный год, и мы могли в душевном спокойствии разместиться в тени кленов около летнего кафе и неспешно потягивать коньяк, который всегда был в изобилии в этом очаге культуры близ института одноименной культуры. Тогда полулитровая бутылка коньяка стоила 4 рубля и 12 копеек с посудой. В кафе с наценкой 100 грамм нам обходились в 1 рубль 20 копеек… До 1970 года. Потом цены устремились за ракетоносителями. Не надо думать, что мы просто пили в Летнем саду. Мы робко и умеренно продолжали традиции, заложенные Петром Великим.
Летний сад был задуман не только как место общения с природой. Природы тогда в Санкт-Питер-Бурхе было предостаточно. Аничков мост, к примеру, возведённый в 1715 году и примыкавший к Аничковой слободе, построенной подполковником Михайло Аничковым, был деревянным, как и большинство строений любого рода в Петербурге, и подъемным. Около моста размещалась караульная будка для осмотра приезжавших в столицу персон. За пределами Аничкова моста по Фонтанной реке начинались предместья. Весь берег Фонтанки был застроен загородными дачами вельмож того времени. Дачи утопали в обширных садах и парках. За дачами начинались непроходимые леса. Градоначальники Петербурга XVIII столетия и при Анне, и при Елисавете обязывали владельцев дач по Фонтанке вырубать лес, «дабы ворам пристанища не было». Также было приказано вырубать по 30 сажень с каждой стороны по Нарвской дороге. Да и по другим трактам. Разбойничали в Питере тогда сильно. Бандитский был Петербург. Даже на Невской першпективе к вечеру было опасно… Зато зело зелено.
Нет! Летний сад был задуман прежде всего как место увеселений и общений. А увеселения и общения времен Петра Великого были весьма специфические и однообразные. Так, к при меру, одной из форм общения и увеселения было «обнесение» посетителей сада вином. Хлебное или простое белое вино, названное «петровской водой» (чарка этого крепкого напитка выдавался по распоряжению Петра матросам и рабочим при строительстве новой столицы, дабы не хворали и не мерли в немереном количестве из-за сырости и холода). «Петровскую воду» в силу ее плохого качества прозвали «водкой» (дурная вода) от слова перманентно враждебного польского государства. Wodka была любимым напитком Государя. По сему церемония обнесения была незатейлива. В саду являлись гвардейцы с носилками, на которых были поставлены большие ушаты с простым белым вином. Обходя гостей, майоры подносили каждому большой ковш «за здоровье полковника», то есть Государя. Дамы от угощения не освобождались. Отказывавшиеся пить были насильно принуждаемы этими майорами, которые специально для этой цели сопровождали ушат. Сад во время обнесения запирался, у входа выставлялся караул, чтобы никто не смел без разрешения царя выйти вон. Немощных, отключившихся или скончавшихся от перепития складывали около Карпиева пруда. Обнесения заканчивались фейерверком или «огненною потехой».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?