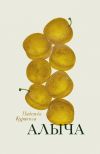Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
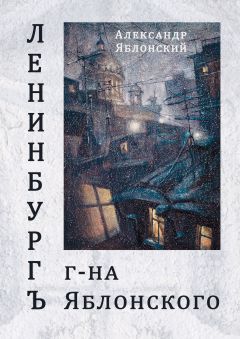
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В это же чудное время племянники, зятья, внуки и даже дети стиляг с трибуны над Саркофагом уже открыли новую эпоху: стиляг-«штатников».
Слово «стиляги» появилось в каком-то фельетоне, имя автора упоминать стыдно. Мудак какой-то. Идейный, малограмотный, бездарный. Стилягами были все. В том числе и эти, в шляпах и с красными бантами на первомайской трибуне. Стиляги Политбюро и Центрального комитета. Их отпрыски – прежде всего студенты МГИМО, имевшие доступ к иностранцам, хотя бы типа Поля Робсона или Жерара Филиппа, не говоря уж о дипкорпусе, открыли новую эпоху стиляг – штатников. Моментально новая генерация штатской молодежи соскользнула с поднебесья недоступного МГИМО сначала в зарождающуюся фарцу с ее лидерами Яном Рокотовым – «Косым», Владиком Файбишенко – «Червончиком», Юрием Захаром, а затем – в широкие молодежные массы. Эти стиляги были утренними людьми. Свободными и молодыми. Они вырывались из серой жизни, унылой бытовой культуры и стали жить, как им хотелось. В этом была их оппозиционность. И поразительно: «Софья Власьевна» победила в борьбе с русской культурой и нормальной жизнью, одолела басмачей, сионистов, бендеровцев, нацистов, троцкистов, крестьянство и интеллигенцию. Впервые она проиграла, как точно заметил Лев Лурье, стилягам. Эти молодые люди, напевавшие «Чаттанугу чу-чу», определили дальнейшее развитие общества, которое почему-то называют гражданским. Прошвырнуться по Бродвею значило прошвырнуться в другую жизнь. Дневную. Солнечную.
Брод… «Как много в нем отозвалось»…
Поразительное было время. Коньки «снегурки» стали вытесняться «канадками». Почему «канадками»? В Канаде про «канадки» и не слышали. Но мы пересели на «канадки», которые были похожи на «хоккейки», но «канадки» считались лучше. Лучше чего? – Лучше всего, потому что «канадки». Странным образом никому ранее не известная Канада влезла в наши головы. Самая стильная стрижка – «под канадку» или «канадская полечка». Как совместить «польку» – то есть якобы польский стиль прически (или танца?!) с Канадой? – совмещали. Четкой окантовкой в области шеи. Полубокс, возможно, лучше, мужественнее, но продвинутая молодежь предпочитает «канадку» – западнее. Так и с коньками. «Снегурки» были устойчивее, удобнее, особенно для новичков. Но все устремились к «канадкам». Их долгое время было не достать. «Снегурки» имели лезвия, похожие на полозья саней, с загнутым передом. Они привязывались к валенкам, часто при помощи веревок, закрученных палочками. Однако чаще они крепились кожаными ремешками или хитроумным способом к обыкновенным ботинкам: в каблуке делалось углубление, его закрывала металлическая пластина с овальным отверстием. Конек поворачивался поперек стопы и в отверстие вставлялся штифт, находившийся на пятке конька. Конек разворачивался, и штифт прочно крепил его с ботинком. Целая наука! Но ее одолевали, так как каток был, пожалуй, главным развлечением и самым романтичным местом Ленинграда 50-х – начала 60-х. Катков тогда было много, но, конечно, главный и самый заманчивый – Цепочка, то есть каток в ЦПКО на Островах.
Я кататься на коньках не умел, хотя вместе со всеми запрезирал «снегурочки» и зауважал «канадки». Вместе со всеми моя душа рвалась в Цепочку, но я там бывал редко: не было времени, так как я рос в интеллигентной семье, где было принято играть на рояле, заниматься фигурным катанием и учить иностранный язык – английский. Фигурным катанием я не занимался в силу того, что мой организм, подорванный блокадой, требовал движения в воде и глубокого дыхания. Иностранный язык было не осилить по причине специфики материального положения в семье. По сей день эта специфика сказывается. Короче говоря, в Цепочке я бывал редко, но какое это было наслаждение: хотя бы смотреть на мчавшиеся по освещенному кругу одиночные фигуры и, особенно, пары. Все девушки были очаровательны, стройны, самовязанные свитера с оленями на груди плотно облегали их фигуры, некоторые были в коротких юбочках, надетых поверх рейтузов, из-под вязанных шапочек с помпончиками выбивались развевающиеся по ветру волосы… Играла музыка… Какая музыка! Казалось, что не было прекраснее этих звуков, вбирающих в себя морозный воздух, завораживающий скрежет коньков, смех, легкое кружение поземки. В гущу грустных и волнующих старинных вальсов, полек Штрауса, галопов и жизнерадостных увертюр Дунаевского вдруг стали вкрапливаться другие, досель неведомые звуки.
You load sixteen tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
Saint-Peter, don’t you call me, 'cause I can’t go;
I owe my soul to the company store…
Несмотря на то, что Поль Робсон был американцем, его голос звучал на просторах СССР. Сталинская премия мира перевесила американское гражданство. Так что спасибо Джозефу Маккарти и его комиссии за то, что бас Робсона – глубокий, бархатный, свингующий – разносил над катком Цепочки эту чудную штатскую мелодию. Помню, мы пели на свои – наши – слова:
Шестнадцать тонн, умри, но отдай,
Всю жизнь работай – весь век страдай.
Но помни, дружище, что в день похорон
Тебе мы сыграем 16 тонн…
Сейчас слушаю эту песнь и стараюсь держать свою задолбанную нервную систему в руках. Каждая клеточка помнит то время, которое никогда не вернуть. Стыдно. Хотя уже скоро Город. Ничего не стыдно. You load sixteen tons, and what do you get?
Задолго до поездок на каток, мы ездили с мамой на острова кататься на лыжах во время зимних каникул. Вернее, катался я, а мама смотрела, как я неуклюже передвигаю лыжи по лыжне. Лыжи мы брали «на прокат» (или: «напрокат»?) в Елагиноостровском дворце (архитектор – предположительно, Кваренги, скульптурное оформление Пименова и Демут-Малиновского), построенном пятым владельцем острова обер-гофмейстером Императорского Двора Иваном Перфильевичем Елагиным. Лыжи были с мягкими креплениями, которые постоянно спадали с моих обыкновенных ботинок. Маме было холодно, она постукивала бурками по снегу, приплясывала, пытаясь согреться, и терпеливо ждала, пока я надышусь свежим морозным воздухом. Я же потел в своем осенне-зимнем пальтишке. Мы ехали от дома в полупустом в дневное время вагоне 14-го трамвая, который делал кольцо у ЦПКО. Вечером же, особенно перед выходным днем, Четырнадцатый был забит веселыми молодыми людьми с коньками. Толпа вываливалась на кольце и выстраивалась в длинные очереди перед кассами, расположенными по углам моста со стороны трамвайного кольца. Редкие смельчаки пытались прорваться мимо контролеров у входных ворот на мост или по льду Средней Невки.
Это было чудное время. Чудная песня. «Шестнадцать тонн», Цепочка, коньки. Непередаваемое время радостного предчувствия жизни. Ожидание светлого бесконечного дня. Я часто думаю, действительно ли мы ездили с мамой кататься на лыжах или мне это счастье только снится…
Выше знамя пролетарского интернационализма!
…Американский турист – в Москве у автомата с газированной водой. Бросает три копейки. Ждет. Автомат жужжит, кашляет, чихает. Американец бросает ещё одну монету. Тот же эффект.
Постоял, почесал затылок, молвил:
– А это идея!!
…Так появились игральные автоматы.
Это – анекдот конца 50-х. Американец у автомата с газировкой уже не в диковинку. Причем этот американец – не поджигатель войны, не шпиён вечно в кожаных перчатках, чтоб не оставлять отпечатков, разбрасывающий по советским улицам свои шпиёнские камни. Сообразительный, как и подобает американцу. Пытается, к тому же, сравнить вкус советской газировки и родной «Пепси». Эта забава была тогда в моде.
В июне 1959 года весь мир облетела сенсационная фотография. Это был не советский спутник рядом с фотографией оборотной стороны Луны, не открытие XXI съезда партии, не изумленные лица москвичей, взиравших на скопление «марсиан» – кинозвезд, прибывших на Первый Международный Кинофестиваль в Москве; с таким же ужасом и осуждением разглядывали советские люди, особенно ошеломленные пожилые женщины, манекенщиц Кристиана Диора, бродивших по ГУМу во время Диоровского дефиле в том же 59-м году. Не фотографии, тайком вывезенные на Запад, кровавого подавления восстания в Темиртау или улыбающихся членов тургруппы Дятлова перед ее отбытием в гибельный и загадочный путь… Нет! Это была фотография Советского лидера Никиты Хрущева, пьющего Пепси-колу из картонного стаканчика. Лидер – в неизменной шляпе, в украинской косоворотке под мешковатым пиджаком. Рядом Ричард Никсон и Роберт Кендалл – Президент PepsiCo. Все улыбаются. Улыбаются, так как довольны.
Кендалл доволен успешно проведенной операцией по реабилитации своего присутствия на выставке. Большинство американских компаний бойкотировало выставку во враждебно настроенной стране. Кендалл же нуждался в продвижении своей продукции и завоевании новых рынков. Надо было обставить Кока-колу. Поэтому он уговорил Никсона, с которым дружил, как, впрочем, со многими президентами и лидерами Республиканской партии, свести его с Хрущевым на выставке. Что американский вице-президент и сделал. Оказавшись рядом с настороженным Хрущевым, Кендалл задал провокационный вопрос, на который простодушный Лидер и клюнул: «Какое Пепси лучше: сделанное в Америке или в Москве?» (В Союзе тогда Пепси не производилось!). Никита Сергеевич, попробовав напиток из двух стаканчиков, определил: «Конечно, ЭТА!». То есть советского производства. И стал давать пробовать лучшее Пепси окружающим. Так что Хрущев был доволен своим ответом.
Фотографы щелкали со скоростью пулеметной очереди. Слоган Компании «Пепси» – «BE SOCIABLE» – «БУДЬ ОБЩИТЕЛЕН». Фото Хрущева, известного своей общительностью, пьющего Пепси, было лучшей рекламой напитку, компании и западному образу жизни, а это было одной из главных целей выставки в Москве.
Ричард Никсон был доволен результатами выставки и своей победой на «Кухонных дебатах»; победой, укрепившей его реноме на американском политическом рынке.
Хрущев, как известно, агрессивно отрицательно оценил итоги этой выставки, интуитивно чувствуя весь ее опасный и дискредитирующий советскую систему потенциал. Действительно, одуревшие от впечатлений посетители выставки не могли не за думаться, почему все эти Форды и Шевроле, не говоря уж о Кадиллаках, Линкольнах и Бьюиках так разительно отличаются от наших «Побед» и даже «Волг», недавно – в 1957 году – поступивших в продажу. А стиральные и посудомоечные машины, сенокосилки, телевизоры, по сравнению с которыми КВН-49 казался аппаратом XIX века. Косметика, туфли-шпильки, забитые полки с бакалейными товарами. «С моей точки зрения там не было ничего, что нам можно было бы практически использовать», – заявил Никита Сергеевич и был, по существу, прав. Советским людям ещё долго не понадобятся сенокосилки, бакалея и посудомоечные машины… Однако дело было сделано, фотография появилась. Она, пожалуй, была тем первым, еле ощутимым подземным толчком, предвещавшим неминуемый снос Берлинской стены.
Я на выставке, естественно, не был, Пепси не пробовал, в легенды о стиральных машинах не верил. Но разговоры, впечатления, суждения впитывал, как губка. Особенно много было рассказов о «Кухонных дебатах», которые якобы выиграл Никсон. Одно помню точно: о выставке, американцах, Америке говорили с недоумением, восторгом, осуждением, недоверием, симпатией, пренебрежением, завистью, но агрессивной враждебности не было. Даже во всевозможных политических передачах по радио, а затем и по телевизору, во всех заказных – весьма блядских репортажах всяческих Валентинов Зориных (Зорина называли «Зорька-помойка») или Юриев Жуковых Штаты вы глядели противником, оплотом империализма, агрессором, но зоологической ненависти, взращённой в отечественном сознании XXI века, не было. СССР и его руководители, при всех своих прелестях, ущербным комплексом неполноценности не страдали. Как бы ни ворчал Хрущев по поводу той же выставки, как бы ни грозил ракетами во время Карибского кризиса, но щенка легендарной Стрелки, облетевшей в компании с Белкой вокруг Земли, – самочку по имени Пушинка – подарил супруге Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн. Подарил от чистого сердца безо всякого политического умысла. Ко всему прочему, у многих работала элементарная память о тушенке, спасшей жизни тысячам, в том числе моей маме, плюс примешивалась генетическая память, в которой не было места заложенной в веках ненависти, обиды, раздражения.
Что там не поделили Лещинские с Чарторыйскими, Нилусами, Огиньскими, Бог знает. Но – не поделили. Сложные у них были отношения. Шляхта. Все именитые, знатные, богатые. Все с гонором. И привыкли к демократии. Даже престол был выборным – выборная монархия, единственная в Европе да и, возможно, в мире. Эта демократия страну и погубила, не могла не погубить, особенно, ежели страну окружали матерые хищники.
…Часто задумывался, может, это слабость, беда, напасть – демократия. От века – и по сей день пасует демократия перед наглым, пусть и убогим диктатором, перед тоталитарным, хотя и гнилым, обреченным режимом. Задумывался недолго. Ибо глоток свободы – целительнее, нежели бадья насилия, рабства и беззакония. Вспомнились слова валютчика и махинатора Яна Рокотова: «Они меня расстреляют, больше они ничего не умеют (…), но хоть два года я пожил как человек, а не как тварь дрожащая!». Польшу растерзали – всерьез и надолго, но и прожила она – более, нежели два года, – не как тварь дрожащая, а как Великая Европейская держава – Речь Посполита, что означает буквально – res publica – времен Стефана Батория, Сигизмунда III и Яна Казимира Ваза или Яна III Собеского… Достойно прожила. И первая в Европе (вторая в мире после США) выработала и приняла конституцию современного демократического типа (это было уже при последнем короле Станиславе Августе Понятовском в 1791 году).
Jeszcze Polska nie zginęła! Чуден свободы дух!
Как ни относись к Кондратию Рылееву (а я к нему отношусь с неприязнью – помимо всего прочего, личные счеты), но слова его, сказанные на Сенатский площади, под картечью: «Господа, мы дышим свободою!» – эти слова прекрасны. Ради такого глотка можно и под картечь.
– Какое из ощущений в жизни является для вас особенно дорогим? – вопрос корреспондента.
– Ощущение свободы, – ответ Владимира Атлантова, которого люблю не только за этот ответ. Но и за него в особенности.
…Чарторыйские с Потоцкими, Сапеги с Радзивилами, Понятовские с Замойскими, Лещинские – со всеми остальными – все что-то делили, враждовали, воевали. Каждый тянул в свою сторону – кто в сторону Франции, кто в сторону Пруссии, кто – Австрии, кто – России. И великие державы Европы – каждая по-своему: кто ласками, кто сказками, кто деньгами – что вернее, кто (все, как правило) войсками – что привычнее (Россия в особенности) – и примагничивали влиятельные княжеские фамилии, представителей великопольских шляхетских родов, стараясь повлиять на демократический выбор кандидатов польского шляхетства на престол, воеводство, гетманство, канцлерство, подканцлерство.
К примеру, Чарторыйские – Гедиминовичи – при Августе III враждовали в борьбе за власть и за престол с Потоцкими. Последние тяготели к Франции и поддерживались ею, Швецией, Турцией и основной шляхетской массой. Чарторыйские же – Фридрих-Михаил – подканцлер, а затем канцлер литовский, и его брат – Август-Александр, женатый на наследнице магнатов Сенявских – стремились найти – и находили – помощь со стороны Англии, Австрии и, особенно, России. Естественно: княжна Чарторыйская была женой последнего польского короля, ставленника Екатерины Второй – Станислава II Августа Понятовского, а Адам Ежи Чарторыйский позже стал сердечными другом цесаревича Александра Павловича, а ещё позже – был пару лет министром иностранных дел Российской Империи (что не помешало ему впоследствии возглавить антирусское освободительное движение, а с декабря 1830 года стать Председателем Временного, а затем Национального правительства Польши). После разгрома восстания жил в Париже, консолидируя вокруг себя антирусскую эмиграцию. Во время Крымской кампании покровительствовал созданию польских военных формирований в Турции.
Или Ян Собеский конкурировал на выборах с Михаилом Вишневецким. Последний был креатурой Габсбургов, Ян Собеский, женатый на француженке – вдове Яна Младшего Замойского – Марысеньке Замойской (ур. Марии Казимире д’Арквин), прибывшей в Польшу в свите французской королевы Марии Людовики, был, естественно, другом Франции. Благодаря поддержке французской короны (а Людовик XIV был самым могущественным властителем в Европе), Собеский стал польным коронным гетманом (заместителем командующего польской армии), а затем великим гетманом. Однако выборы выиграл Вишневецкий – Император Священной Римской империи оказал бо́льшую финансовую поддержку выборщикам. Собеский стал королем после смерти Вишневецкого, получив предельно большую помощь из Парижа (Марысенька постаралась!) в обмен на заключение франко-шведско-польского союза против Габсбургов.
И так далее.
Станислав Лещинский – представитель мощного клана Лещинских и богатейших магнатов Яблоновских – изначально тянулся к Швеции. Будучи ещё познанским воеводой, после поражений Августа Второго, понесенных от Карла XII, был направлен Варшавской конфедерацией в Швецию с дипломатической миссией, во время которой окончательно закрепил свои приоритеты. В 1704 году Лещинский был избран Королем Речи Посполитой. Началась гражданская война: часть шляхты пошла за Лещинским, часть осталась верна Августу Второму. Лишь через два года Карл принудил Августа отказаться от престола в пользу Станислава – теперь уже полноправного короля Польши и Великого князя Литовского. Однако это не снизило накала страстей противоборствующих партий. Тем более что в 1709 году случилась Полтавская битва, и Лещинский эмигрировал во Францию. Чаши весов переместились, но взаимная ненависть внутри шляхты лишь обострилась. После смерти в 1733 году своего врага – Августа Сильного, вторично пришедшего к власти в 1709 году, Потоцкие предложили Сейму кандидатуру Станислава Лещинского. Лещинский – в то время уже зять Людовика XV – срочно вернулся в Польшу. К этому времени Примас Польши – архиепископ Гнезно Теодор Анжей Потоцкий провел через конвокационный (избирательный) сейм закон, по которому польским королем отныне мог стать только католик и только поляк. Поддерживаемый большинством шляхтичей и сенаторами, Лещинский был вторично избран королем Польши на рыцарском Коле 1 сентября 1733 года. Это были последние свободные выборы польского короля. На огромном поле шестьдесят тысяч вооруженных всадников в блестящих доспехах, на прекрасных конях, ликуя и потрясая выхваченными из ножен саблями, провозгласили Лещинского своим королем. «Примас произнес: “Так как Царю царей было угодно, чтобы все голоса единодушно были за Станислава Лещинского, я провозглашаю его королем Польским, великим князем Литовским и государем всех областей, принадлежащих этому королевству!”». Несколько сенаторов и четыре тысячи всадников откололись и ушли за Вислу, в Прагу, дожидаться русских. Среди них были Огиньские и Чарторыйские (не жалел ли об этом через много лет Адам Чарторыйский, возглавляя Польское сопротивление в изгнании…). Далее все шло по накатанному и прогнозируемому шаблону. Русские войска под командованием фельдмаршала Ласси вошли в Польшу. Не в первый и не в последний раз предлогом было желание «по просьбе дружественной конфедерации» (то есть изменников, которые всегда находились и найдутся) «защитить польскую конституцию» («конституционный строй», «суверенитет», «демократию», «территориальную целостность», «принудить к миру» – эти и прочие слова были придуманы позже). Войска вошли не в первый раз – скажем, совсем недавно, в 1697 году, корпус М. Ромодановского перешел русско-польскую границу, чтобы помочь поляками выбрать нужного России короля – тогда Августа Второго, но никак не принца Конде. Такой принцип бытия Империи – infuence legitime (законное вмешательство) – был и остается основополагающим. Иначе не умеем, и ничего в России не меняется. Infuence legitime с приобретением новых врагов по периметру и по окружности. Новинкой тогда было то, что ранее войска вводили перед выбором или престолонаследием, чтобы оказать интернациональную помощь несмышленым европейцам (азиатам и др.). В 1734 году ситуация кардинально изменилась. Король был уже избран. Законно, легитимно, справедливо. Но нет трудностей, которые не преодолели бы… Война была кровопролитной, жестокой. На помощь Ласси прислали фельдмаршала Миниха. «Патронов не жалели». «…В то же время, как ещё житницы горели, случилось, что один гренадер вышедшего из оных старого седого стрелка примкнутым штыком подхватил и его многократно так жестоко колол, что весь штык изогнулся, однако он его нимало повредить не мог, чего ради он своего офицера призвал, который того сперва по голове несколько раз палашом рубил, а потом в ребра колол, однако ж и тот его умертвить не мог, пока напоследок казаки большими дубинами голову ему так разрубили, что из оной мозг вышел, но он и тут долго жив был». Потом удивляются, почему поляки русских не очень любят.
На престол посадили Августа Третьего – саксонского курфюрста. Станиславу Лещинскому, отрекшемуся от престола, решением Венского конгресса 1738 года оставили пожизненный титул короля. Вдобавок он стал последним герцогом Лотарингии. История покатилась дальше.
Канули в Лету всемогущество Потоцких, Замойских, Вишневецких, ушел с исторической арены последний король Речи Посполитой Понятовский, Чарторыйские перебрались в Россию и пока верно служили молодому Императору, Суворов и Паскевич по очереди заливали кровью родину Мицкевича и Шопена, умер Костюшко, Польшу три раза дербанили – раздербанили, уже прогремели все грозы «корсиканского людоеда», даже ошеломляющие своей фантастической уникальностью «100 Дней», уже семнадцатилетняя Наталья Потоцкая влюбилась в тридцатисемилетнего Михаила Лунина, и он потерял голову – единственный раз в жизни – это была удивительная, невероятная любовь, обреченный роман – девушка из королевского рода и обедневший тамбовский дворянин, хотя и блистательный офицер – гордость Наместника; уже все увлеклись полонезом Михаила Клеофаса Огинского, прославившего свою фамилию, уже Наталья Потоцкая, выданная за князя Сангушко, умерла в 23 года, а Лунина перевели из Читинского острога в Петровский завод, и он ещё не знал, что его ждет ад Акатуя, уже мой сосед и тезка был отдан в Первый Кадетский корпус, а затем выпущен подпоручиком, успел стяжать славу героя 12-го года, жениться и потерять жену, которую любил без памяти, уже Пушкин закончил «Онегина» и частенько навещал Смирнову-Россет в доме по соседству со мной, хотя душевной близости, как утверждала дочь Александры Осиповны, не было и в помине. Ушла из жизни хозяйка дома на углу Спасской улицы – Мария Богдановна Булатова, урожденная Нилус. Она тоже, кстати, семнадцатилетней влюбилась в своего будущего мужа – тридцатисемилетнего полковника Михаила Булатова. Шляхетские распри, казалось, давно забыты – другая жизнь стояла на дворе. Однако нет. Та старая ненависть, возможно, растаяла, но нескрываемая неприязнь и скрытая враждебность, обогащенные различными бытовыми деталями, между Лещинскими, с одной стороны, и Чарторыйскими – Огиньскими – Нилусами, с другой, остались.
Эта враждебность, эта ментальная несовместимость, это исторически устоявшееся противостояние семейных традиций и нравов – всё это явилось благодатной почвой для той сшибки, которая привела к жуткой гибели моего соседа.
«Сшибка» – термин, введенный академиком Иваном Павловым, означает столкновение противоположных импульсов, идущих из коры головного мозга. Или, точнее: столкновение процессов возбуждения и торможения. При таком столкновении кора головного мозга может перейти в свое патологическое состояние, то есть происходит срыв высшей нервной деятельности. Скажем, внутреннее побуждение заставляет человека поступить неким образом, но дисциплина или иной фактор заставляет его делать нечто противоположное. Это случается с каждым. Внутреннее побуждение – возбуждение, скажем, направляет меня за письменный стол писать роман, но жена говорит: не позорься, не лезь, куда не просят, рожей не вышел в писатели, лучше принеси пылесос – происходит торможение. Хочется выпить – возбуждение, безденежье – торможение. Эти бытовые сшибки, как правило, проходят безболезненно, лишь царапая сознание, нервную систему. Или – уже посерьезнее: любит, скажем, некий небездарный писатель или поэт творчество, к примеру, Пастернака или Ахматовой, не просто любит – влюблен, в хорошем подпитии читает их творения наизусть с восторгом и слезой, но выходит этот небесталанный или даже талантливый литератор-чиновник на трибуну и клеймит позором сих космополитов и ренегатов. Побуждение – истинное чувство литератора – «сшибается» с партийным или чиновничьим долгом, а чаще, попросту – со страхом, извечным российским ужасом перед властью. От таких сшибок некоторые стреляли себе в сердце. Так что при особом стечении обстоятельств и при экстраординарной силе противоположных импульсов подобная сшибка ведет к трагедии. Как в случае с моим тезкой.
А дом у него был чудный. Светло-жёлтый, трехэтажный, с портиком ионического ордера при шести белых колоннах и с пятью высокими, сверху овальными дверями. Портик завершен треугольным фронтоном. На фасаде – лепные маски, скульптурные панно. По всей улице Рылеева – единственный с табличкой: «Охраняется государством как памятник архитектуры начала XIX века». Что-то в этом духе. Хорошо охраняется: во время капитального ремонта в 70-х годах XX века все детали интерьера попятили.
Мария Богдановна Булатова дом этот, тот самый, который располагался прямо под окнами нашей комнаты в доме Мурузи, откупила у наследников известного врача Г. Соболевского. Даже не откупила, а недостроенный особняк напротив Спасо-Преображенского собора просто перешел в ее собственность, так как она была кредитором семьи полуразорившихся Соболевских. Удивительны судьбы скрещения. Дом Булатовых разместился на улице, через столетие названной именем того человека, который в десятых числах декабря – за несколько дней до возмущения на Сенатской площади – принял пасынка Марии Богдановны в члены тайного общества. Именно Кондратий Федорович Рылеев также дал рекомендацию – просто кивнул, и его друг детства и соученик по Первому кадетскому корпусу – Александр Булатов – стал членом общества. Кивнул, то есть, обрек.
Скажу честно, больших симпатий к своей соседке Марии Богдановне я не испытывал, хотя мне она ничего плохого не сделала. Вот к своему пасынку она относилась с плохо скрываемой неприязнью, делая жизнь мальчика – юноши скудной, нерадостной, порой тяжелой. И дело даже не в том, что юная генеральша Булатова была дамой чрезвычайно великосветской, принятой при дворе, доверенной приближенной вдовствующей императрицы Марии Федоровны; балы, приемы, аудиенции, прочие важные дела не оставляли ей времени на внимание к мальчику. Плюс в апреле 1802 года у Александра появился сводный брат – тоже Александр. Так что для старшего сына начальника Генерального штаба генерала-лейтенанта Михаила Леонтьевича Булатова места в сердце мачехи вообще не оставалось. Однако главная причина антипатии к пасынку была в другом. Мария Богдановна, урожденная Нилус, принадлежала к семействам, традиционно враждебным клану матери будущего декабриста. (Она была дочерью киевского генерал-губернатора, генерала-аншефа Богдана Нилуса). Тот самый случай: Лещинские – Чарторыйские и К°. Мать Александра Булатова – Софья Казимировна доводилась внучкой польскому королю Станиславу Лещинскому. Огиньские же, Чарторыйские, Нилусы, связанные между собой кровными и брачными узами, как и было сказано, столетиями враждовали с отпрысками некогда всесильного великопольского шляхетского рода королевской короны, связного, к тому же, и с французским престолом: дочь короля Станислава – тетка Софьи Лещинской, матери Александра – была женой Людовика XV. Александр свою мать почти не помнил. Помнил польские слова, которым она его учила. Она умерла, когда ему было три года. Однако воспитывался он у своих родственников – в доме Карпинских – в клане Лещинских. В том же настрое и в тех же традициях. Свое начальное образование и основы воспитания он получил под руководством двоюродной бабушки – Ядвиги (Пелагеи после перехода в Православие) Станиславовны Карпинской, родной сестры Казимира Лещинского – сына короля Польши. В доме Карпинских на Литейном проспекте формировался юный Булатов в окружении гувернеров-французов. Свою двоюродную бабку он обожал.
Так что мой сосед был королевских кровей. Да и по отцу он происходил от Симеона Бекбулатовича…
Рождение брата в 1802 году сказалось не только на судьбе моего соседа. Рождение второго Александра Булатова (пасынок генеральши Булатовой был назван Александром в честь Александра Македонского, его сводный младший брат – в честь Александра Первого – отсюда и восприемник) в какой-то степени – в минимальной, но не мифической – повлияло и на судьбу России. Знаменитое булатовское: «Сердце мне отказывало» – с тех крестин в церкви Петергофского дворца.
Я любил в детстве взирать на крышу и верхний этаж соседского дома. На крыше часто возились рабочие. Что-то постоянно латали, меняли кровлю, правили водосточные трубы, чистили печные и каминные дымоходы. Мне все время казалось, что кто-то может упасть. Слава Богу, не случилось. Крыша дома Булатовых была чуть ниже нашего четвертого этажа в Доме Мурузи. Поэтому окна последнего этажа соседей были хорошо видны. Крайнее, угловое окно: кухня, типичная коммунальная кухня, замызганная, темная. Лампочка на скрюченном пыльном проводе без абажурчика. Деревянный столик или тумбочка невнятного фисташкового цвета, крашеные масляной краской вишневые облупившиеся доски пола, домохозяйки в серых несвежих халатах и с бигудями в волосах. Другое окно – жилая комната, занавеска обычно задёрнута. Третье окно – занавески нет. Видно кресло и часть книжных полок. Иногда к окну подходил старый мужчина, похожий на женщину или Плюшкина, и смотрел на улицу. На улице постоянно что-то копали. На втором этаже окна были высокие – барские. Под стариком с библиотекой и креслом жила некрасивая девушка. Она где-то в начале мая открывала окно, ставила патефон и заводила: «Раз пчела в теплый день весной», «Аутобос, червоний» или «Мой Вася». Возможно, в этой комнате с высокими окнами жили когда-то Сергей Петрович Боткин или Алексей Николаевич Плещеев, или Елизавета Алексеевна Нарышкина, урождённая княжна Куракина. А может, там была квартира Василия Ивановича Сурикова, только что переехавшего из Красноярска на учебу в Петербург. В 10-х годах XX столетия там жил Владимир Галактионович Короленко. Вот – истинно безупречная фигура русской истории, культуры. «Идти не только рядом, но даже за этим парнем – весело!» – писал Чехов. Бунин, не склонный что-то прощать или не замечать, Бунин, славившийся своим пронзительным взглядом и беспощадным языком: «Когда жил Л. Н. Толстой, мне лично не страшно было за всё то, что творилось в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко». Я гордился тем, что жил на улице Короленко.