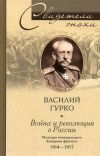Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
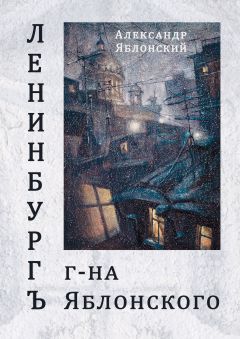
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Традиции Петра Великого не прерывала и его супруга. Французский полномочный посланник Жак де Кампредон, весьма попривыкший к забавам Петра, с некоторой оторопью докладывал в Версаль: «Развлечения /Императрицы Екатерины Первой/ заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня, попойках в /Летнем/ Саду, с лицами, которые по обязанности службы всегда должны находиться при Дворе». «…Настасья Петровна Голицына /«княгиня игуменья» петровского Всепьянейшего собора, придворная шутиха/ за столом с Светлейшим князем и господами майорами лейб-гвардии кушали английское пиво большими кубками, а княгине Голицыной поднесли другой кубок, в который Е.В. изволила положить 10 червонцев». То есть, чтобы получить это небольшое, но по тем временам – состояние (при Петре доход работника средней квалификации составлял 12–15 рублей в год, при Екатерине практически ничего не изменилось), надо было выпить почти три литра вина или пива. «Большой кубок» вмещал именно такое количество жидкости. Другой раз, а именно «19 октября м-м Голицына смогла выпить лишь первый кубок виноградного вина с 15 червонцами на дне, второй же с пятью червонцами – не смогла осушить в силу падения замертво под стол».
Сии невинные забавы продолжались и во времена внучки Петра Великого – Екатерины, но уже Второй – так же Великой, как и дед. По поводу одного праздника в 1778 году Императрица Екатерина направила «Записку» генерал-полицмейстеру Петербурга Димитрию Васильевичу Волкову. Тому самому Волкову, который, по преданию, будучи Тайным Секретарем Петра Третьего, выручая своего патрона, вознамерившегося уединиться с приглянувшейся ему Элен Степановной Куракиной, сочинил знаменитый и судьбоносный «Манифест о вольности дворян». Муж Екатерины Второй, Петр Третий Федорович, публично объявил своей постоянной пассии Елисавете Романовне Воронцовой, что вынужден ее покинуть, дабы сосредоточить свое внимание на создании данного Указа. И приказал Волкову сей Указ составить. Волков всю ночь просидел (голова у него была отменного качества) и, хотя не понимал, о чем надо писать, – написал, а Император провел чудную, можно догадываться, ночь с мадам Куракиной. Наутро разомлевший Петр (Карл Петер Ульрих) подписал и приказал обнародовать Указ, по которому впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной государственной службы, могли выходить в отставку и выезжать за границу! (Упоминавшийся князь Петр Долгоруков – «кривоногий» – смертельно оскорбивший Николая тем, что в одном из своих сочинений утверждал мысль о воцарении Николая, согласно «конституционным условиям», оговоренным при зарождении династии Романовых, был арестован и сослан на службу в Вятку. Князь написал А. Х. Бенкендорфу, что принимает новое место проживания со смирением, но никто не может заставить его служить – смотри указ Петра Третьего. Николай был изумлен настолько, что приказал освидетельствовать состояние «умственного здоровья князя»…однако от службы освободил… Государь закон чтил, не зря его наставлял граф Дмитрий Николаевич Блудов, а своего деда душитель свобод ценил – родная кровь.) Дворяне, освобожденные от обязательной службы, могли читать, писать и думать! Вещь досель в светском обществе Российского государства практически неведомая. Так появилось уникальное явление в мировой культуре – русская интеллигенция, которая по сей день признательна загубленному супругой Императору Петру Третьему. Так вот, Екатерина направила Волкову «Записку», где упоминает о 370 лицах, погибших от пьянства на этом празднике. А праздник был вполне заурядный. Как говорилось в афишках:
«В честь Высочайшего тезоименитства Ея Императорского Величества представляется от усердия благодарности, от здешнего гражданина, народный пир и увеселения в разных забавах с музыкой на Царицыном лугу и в Летнем саду сего ноября 25-го дня, пополудни в 2-м часу, где представлены будут столы с яствами, угощения с вином, пивом, медом и проч., которое будет происходить для порядка по данным сигналам ракетами
1-й к чарке вина,
2-й к столам,
3-й к ренским винам, пиву, полпиву и прочаго.
Потом угощены будут пуншем, разными народными фруктами и закусками, представлены будут разные забавы для увеселения, горы, качели /…/ Всяческие забиячества и поносные слова возбраняются…»
И далее полторы страницы убористого текста с перечислением забав, увеселений и различных пуншей.
Как описывал изумленный англичанин Уильям Кокс, огромный полукруглый стол был завален всякого рода «яствами, сложенными самым разнообразным образом: высокие пирамиды из ломтей хлеба с икрой, вяленой осетриной, карпов и другой рыбы, /пирамиды/ украшались раками, луковицами, огурцами. В различных местах сада стояли рядами бочки и бочонки с водкой, пивом и квасом. В числе других диковин был огромный картонный кит, начиненный сушеной рыбой и другими съестными припасами и покрытый скатертью, серебряной и золотой парчой…» (этакий «шведский стол» с «открытым баром»). Перечисляя другие бесчисленные чудеса русского простонародного бала, Кокс добавляет, между прочим, что «многие из валявшихся на земле пьяно безобразно замерзли, немало людишек полегло в драках», другие, возвращаясь по домам «позднею порой были ограблены и убиты в уединенных кварталах города и предместий». Кокс называл убитых «числом под 400». У Императрицы данные были точнее.
Читайте журнал крокодил!
Мы с Ромой Лебедевым, часто вместе с Рудиком Левитиным или другими коллегами безумствам не предавались, огненными потехами, «ссорами и забиячествами» не тешились, качелями и плясками себя не баловали. В спокойствии мы выпивали свою соточку – сто грамм и сотую часть заработанных денег, иногда усугубляли эффект отстранения ещё на сто и мирно шли дальше. Я любил присесть на скамейку у Карпиева пруда. В мае 1830 года здесь случилась неприятность: в пруду утопилась безнадежно влюбленная девица. В мое время там никто не топился, но плавали чудные белые лебеди. Они прилетали весной и жили там до осени. Когда я был маленький, мы там часто сидели с мамой, и я кормил этих волшебных птиц кусочками французской булки. Кусочек себе, кусочек лебедям. В Летнем саду было сказочно, там была абсолютно уникальная и непередаваемая «атмосфера места». Вереницы детсадовцев попарно, взявшись за руки, шествовали с букетиками желтых, оранжевых и лимонного цвета листьев клена, дуба, тополей или лип по пустынным аллеям, шурша опавшими листьями. Прелый осенний лист – запах детства. С мая по середину сентября вечерами военный духовой оркестр играл старинные вальсы, марши, романсы. Дети рассматривали статуи, мамы читали вслух пояснительные надписи, ребята с восторгом слушали. На зиму статуи тщательно консервировали, покрывая деревянными «плащами». Студенты Академии художеств или Мухинки устраивались перед Аполлонами и Афродитами со своими мольбертами или листами ватмана. Вдоль гранитной набережной Фонтанки стояли рыбаки с удочками и в благоговейном молчании ловили рыбу. Крупных уловов я не видел, но рыба – рыбка – тогда в Фонтанке водилась. Вода была прозрачна, видны водоросли, пытающиеся устремиться за потоками воды, пахло свежестью, чуть тиной, талой водой и свежими огурцами. Верилось, что здесь были купальни, и дамы без боязни или брезгливости погружали в воду свои тщательно прикрытые дородные или хрупкие тела. Купальни в те старинные времена перемежались рыбными садка́ми. Воду из Фонтанки пили ничтоже сумняшеся, водовозы доставляли воду из Фонтанки в зеленых бочках, в отличие от белых, в которых развозили воду из Невы. В зеленых считалась вкуснее. В мое время воду из рек уже не пили, но рыбу ловили.
Распыленный мильоном мельчайших частиц,
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь – отраженьем – в потерянном мире.
И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.
Я любил тот ныне загубленный Летний сад. Прохладный Летний сад. По Далю, «прохлада» – это «умеренная или приятная теплота, когда ни жарко, ни холодно, летний холодок, тень и ветерок». Холодок, ветерок и… покой, тишина, умиротворение…
Ощущение – обманчивое, но прекрасное – безоблачной жизни. Летний сад был тем островком, окруженным Невой, Фонтанкой, Мойкой и Лебяжьей канавкой, где не только в жаркие дни гулял свежий ветерок, но всегда было ощущение отгороженности, отрешенности, изолированности от всех треволнений окружающего непростого бытия, там можно было уйти в ауру именно этого места с уникальным сочетанием покоя, неторопливо текущего времени, теней людей прошлых, ушедших в небытие и славных эпох, культурных слоев: пушкинского, ахматовского, блокадного, – сочетание, которое чудом сохранилось, настоялось, зафиксировалось в аллеях, статуях, чугунных оградах, Карпиевом пруду, неторопливых безмолвных служащих, струящихся синих дымках тлеющих листьев…
И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.
Сон. Сладкий предутренний сон.
…За окном стемнело. Интересно, будут ли меня встречать. Поезд опаздывал, у встречающих рабочий день закончится. Или он у них ненормированный? Впрочем, в Городе происходит все то, что никому не известно и известно быть не может.
…Почему-то после переворота забили все парадные подъезды, людишкам предписали стыдливо пробираться в свои коммунальные норы с «черного» хода. Эти скрипящие двери из полусгнивших досок, этот кошачий помет, этот заунывно постанывающий на ветру патрон на сером пыльном от старости скрюченном проводе с вкрученной в него тусклой лампочкой над чернеющим дверным проемом, эти клади дров, заполнявшие петербургские «колодцы», этот запах плесени, мокрой древесины, мочи, выкуренных папирос, этот постоянный дневной полумрак и осторожные крадущиеся шаги – все это осталось до посадки в поезд. Все это было связано с прошлой жизнью, с жизнью… Что впереди…
…В начале мая 1957 года по городу расклеиваются афиши с именем какого-то канадского пианиста. Канада – музыкальная провинция, и ничего знаменательного оттуда ждать не приходилось. В те времена чудеса ждали только от Штатов – там были, по нашему глубокому убеждению, все звезды, все сливки музыкального исполнительства, и вообще – мировой культуры. Канада хоть и по соседству, но интереса не представляла. Имя пианиста ничего никому не говорит, даже меломанам-интеллектуалам. Ближе к середине мая из Москвы доходят слухи о грандиозном успехе этого музыканта. Однако Питер с недоверием относится ко вкусам порфироносной вдовы и, при всем пиетете к именам Нейгауза, Рихтера и Ростроповича, в своей оппозиционной душе не доверяет вкусам столицы. Как можно верить великому Нейгаузу, который на всех углах, на каждой странице своей книжечки превозносит Рихтера и сквозь зубы упоминает Гилельса, хотя оба – его ученики, и в Питере большинство профессионалов предпочитало Эмиля Гилельса, в том числе и я. Причем не просто предпочитало, а боготворило, фанатически сражаясь с оппонентами, как некогда бузонисты (москвичи, по преимуществу) сражались с гофманистами (петербуржцами) в начале XX века, или поклонники Антона Рубинштейна – с почитателями Ганса фон Бюлова во второй половине XIX. Так что 14 мая Большой зал Ленинградской филармонии был заполнен наполовину. Во время антракта, длинного, минут на тридцать-сорок, как было принято в Филармонии (буфет должен был иметь свою выручку!), публика набила зал битком, стояли в проходе и на хорах. Как, каким образом узнали, как пронзила массы информация о чуде в то примитивно-телефонное время? Второй концерт в Малом зале уже проходит при творческом участии конной милиции. 14 мая 1957 года мне исполнилось четырнадцать лет. Гленну Гульду было двадцать четыре. На его концертах я не был, да и не стремился. Другие заботы занимали мою примитивную голову. Но слухи доходили. Слухи, сплетни, легенды. Говорили, что во время исполнения он поет, мычит или что-то проговаривает – тем громче, чем менее инструмент отвечает его требованиям; сидит на стуле с укороченными ножками, с этим стулом, изготовленным его отцом, он никогда не расстается. Говорили, что такая посадка связана, якобы, с перенесенным в детстве полиомиелитом, но эти слухи не подтвердились. Всё это было удивительно. Ещё более изумляло то, что он не переваривает русскую водку (в это было невозможно поверить), отказался жить в шикарном гостиничном номере «Метрополя» и поселился в канадском посольстве, однако свободно гуляет по улицам Москвы и Ленинграда, поражаясь общительности русских, их привычке к дружеским объятиям. Это особенно странно, так как было известно о его нелюдимости и замкнутости. Позже просочилось его высказывание по этому поводу: «Я – очень плохой турист, но Россия, как скрытая сторона Луны, слишком далекая и слишком экзотическая, чтобы ее игнорировать». Своеобразный комплимент. Чуть позже рассказывали, что в Консерватории Гленн Гульд играл и комментировал произведения «нововенцев» – Шенберга, Берга, Веберна. Я имен этих композиторов не знал, не слышал. Не только по своей серости. Эти имена в советском мироздании не произносились. Они не существовали для советского человека. А тут – в Консерватории! Поговаривали, что эта музыка вызывала недоумение, однако это был первый прорыв современного музыкального языка в закостенелый консерватизм отечественных слуховых, исполнительских традиций. Даже самые передовые и великие музыканты Советского Союза могли подписаться под словами Мстислава Ростроповича: «Он открыл нам композиторов /Ново/Венской школы». Однако более всего поражали слухи – достоверные – о небывалом успехе музыканта. Причем не известнейшего тенора или экстравагантной звезды балетного искусства – пианиста, исполнявшего, в основном, музыку Баха, а в творчестве этого гиганта отбиравшего не популярные сочинения типа «Органной токкаты» ре-минор, а либо замусоленные в детских музыкальных школах Инвенции и Синфонии, либо малоисполняемые, огромные по протяженности «Гольдберг-вариации» (согласно преданию, Бах написал эти вариации по просьбе своего покровителя, русского посланника в Саксонии Карла фон Кайзерлинга, страдавшего бессонницей и нуждавшегося в таком «усыпляющем лекарстве» – длинной, спокойной, тихой музыке). «Только гений мог создать подобный chef-d'œuvre контрапунктического искусства /Гольдбергвариации/, но потребуется появление гения такого же масштаба, чтобы пробудить к /концертной/ жизни это чудо», – сказал как-то великий полифонист Сергей Иванович Танеев. «Ждала природа…». И он явился. Говорили, что в Ленинграде по неистовым просьбам публики изменили программу второго отделения концерта: требовали исполнения Гульдом Баха, поэтому отменили предполагаемое исполнение оркестром симфонической поэмы Листа. «Что ж, я иду домой», – пошутил дирижер. Овации продолжались даже тогда, когда со сцены увезли рояль. Гульд выходил на поклон уже в пальто и шляпе. В Малом зале Филармонии концерт продолжался более трех часов. По окончании программы шли бесконечные – рекордные – бисы, в том числе Соната Берга целиком! В конце концов Гульд поднял руки и сказал по-русски: «Спасибо. Спокойной ночи». Зал неистовствовал. Неистовствовали не только меломаны-любители. Говорили, что в Москве более других, стоя, аплодировал Святослав Рихтер. На вопрос, сможет ли он сыграть «Гольдберг-вариации» как Гленн Гульд, Рихтер якобы ответил: «Наверное. Но мне придется много поработать». Во всяком случае, после Гульда Рихтер эти вариации не исполнял. Профессура Ленинградской Консерватории ещё многие годы с изумлением, восторгом и благоговением говорила об этом чуде, на глазах преображаясь, молодея. Китти (Екатерина) Гвоздева, преподававшая у нас в Консерватории итальянский язык, состояла в многолетней переписке с Гульдом. До самой его смерти. Так вот, она писала, обращаясь к нему – «моему сокровищу», «золотому мальчику»: «Мы нуждаемся в Вас, мы страдаем без Вас, мы на Вас надеемся, мы Вас ждем, как не ждем никого другого. Вы – выше любого человеческого понимания, вы выше всего земного. Вы – вечны. Вы великий пианист, Вами отмечена наша эпоха». Так думали и чувствовали практически все, слышавшие Гульда.
Это были слухи, легенды. Несколько позже, когда появились записи Гульда, я понял, что проспал явление гения, перевернувшего все устоявшиеся представления и принципы фортепианного исполнительства. Он заново открыл «стариков», Баха прежде всего; стер толстый слой музейной или псевдоклассической пыли с их живых, актуальных творений. Он приоткрыл форточку в неизведанный мир «новой» музыки. После него свежий воздух было не остановить: мыслить по-старому, играть по-старому было уже невозможно.
Я проспал не только явление гения, – я проспал начало новой, недолговечной эры «открытых дверей» в русском музыкальном искусстве, в русской культуре. Приезд Гленна Гульда в СССР и его двухнедельные гастроли были сенсационны ещё и потому, что он был ПЕРВЫМ североамериканским пианистом, посетившим нашу страну после войны.
Вообще иностранные звезды были тогда rara avis в нашей жизни. В 1945 году в страну приезжал Иегуди Менухин. Он был Колумб. Менухин играл в Москве двойной концерт Баха с Давидом Ойстрахом. Два великих музыканта в уникальном дуэте. Это событие по достоинству оценил главный практик и теоретик скрипичного искусства Лазарь Каганович. Как говорили, во время исполнения (а на концерте присутствовали некоторые любимые руководители любимой партии и такого же правительства – концерт был одной из последних ласточек союзнического сознания в СССР) Лазарь Моисеевич наклонился к Светлане Аллилуевой и радостно шепнул: «А наш-то, наш забивает американца!»
Через девять лет СССР осчастливил Айзек (Исаак) Стерн. Уроженец Украины был вторым великим музыкантом времен холодной войны, посетившим вражеский стан. Этот скрипач любил искать приключения: помимо СССР, он играл в Китае во времена «культурной революции», в Израиле во время войны в Персидском заливе… Стерн трижды был в стране Советов и трижды его концерты становились незабываемым потрясением.
Собственно, и все. Из событий музыкальной жизни помнится лишь приезд негритянской труппы «Эвримен опера» с «Порги и Бесс» Гершвина. Попасть в Кировский театр на этот спектакль, который стал явлением в нашем не только музыкальном сознании, было невозможно. Как говорили, цены на черном рынке зашкаливали. Это был 1956 год. Синдром всеобщей американизации ещё не выявился, но первые ощутимые симптомы уже проявлялись, и шедевр Гершвина дал мощный толчок для активизации этого процесса. Мало кто тогда оценил саму музыку и ее интерпретацию солистами «Эвримен опера». Это было, во-первых, необычное зрелище, – такого в стране Советов ещё не видели. Через третьи-четвертые руки передавали впечатления счастливчиков, попавших на спектакль (а счастливчиками, как правило, оказывались партийные руководители и торговые работники). Говорили, что все это неприлично. Кто-то называл порнографией, и это подогревало интерес и ажиотаж. И право: гибкая, непринуждённая пластика, сексуальная насыщенность интонаций в некоторых сценах, откровенная жестикуляция, да и сама героиня – негритянская Манон Леско, не отличавшаяся высокой нравственностью, но, главное, – свобода сценического существования – все это не могло не раздражать и не провоцировать на дефиницию действа как порнографического в стране, которую уже не одно десятилетие водили строем – в жизни и на сцене – и воспитывали на женских образах Ладыниной или Орловой. Кого-то влекла джазовая природа музыки, хотя чистого джаза в опере было мало. Господствовала стихия спиричуэлс, госпел, блюза, то есть той фольклорной негритянской музыки, из которой, действительно, вырос джаз и которую в те времена за джаз принимали. Но главная приманка – американские артисты играют американскую пьесу из американской жизни. По-американски!
Тогда мало кто знал, что эти и другие звезды американской культуры и, в частности, музыки, родом из России, Украины, из бедных еврейских семей. (Это не относится к актерам труппы «Эвримен опера» – там был иной генезис: тоже из рабов, но другой расы…) Джорж Гершвин – Яков Гершович – сын эмигрантов из Одессы. Айзек Стерн родился в Кременце. Иегуди Менухин – сын раввина Мойше Менухина из Гомеля и Маруты Шер из Ялты. Легендарный Леонард Бернстайн – сын оптовика парикмахерских поставок Самуила Иосифа Бернштейна и Женни Резник из Ровно… Для нас они были и есть американцы. Особенно тогда!
Так что было не густо. Вернее – пусто. И вдруг – после Гульда – прорвало!
За всю свою жизнь не только я, но и мое поколение не слышало столько замечательных музыкантов, сколько посетило Россию в это «золотое десятилетие». Точнее, за одиннадцать лет и три месяца, если вести отсчет от приезда в СССР Гульда до ввода танков в Чехословакию. Казалось, что музыкально-гастрольная жизнь вернулась к параметрам своего дореволюционного существования, когда российская публика считалась одной из самых отзывчивых и критичных в мире, профессиональный уровень отечественных музыкантов и критиков был самой высокой пробы, репутационный да и материальный успех гастролей в стране Чайковского и Римского-Корсакова, Рахманинова и Скрябина, Есиповой и братьев Рубинштейн, Прокофьева и Метнера, лучших мировых школ: фортепианной – Теодора Лешетицкого и скрипичной – Леопольда Ауэра – этот успех был гарантирован. Затем начали «очищать Россию надолго» – и успешно! Нет трудностей, которых не преодолели бы большевики.
Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!
«Гастроли» пошли в одну сторону. One way trip.
Поехали медведи на велосипеде, а за ними кот.
Рахманинов за Буниным, Шаляпин за Бердяевым, Нижинский за Берберовой – даешь стране угля!
Кандинский за Федотовым, Газданов за Цветаевой, Флоровский с Яшей Хейфецем – учиться и дерзать!
Шмелев за Адамовичем, Ильин за Ходасевичем, Сапельников за Зайцевым – очистится земля!
Шагал за Северяниным, Карсавина за Метнером, Иванов за Ивановым – вспотеешь вспоминать!
Едут и смеются, пряники жуют.
И вот, Гленн Гульд вслед за Шарлем Мюншем отодвинули чугунную портьеру и оказалось, что помимо Эмиля Гилельса и Давида Ойстраха, которых мир знал ещё по довоенным триумфам, в стране почти победившего социализма есть прекрасная аудитория – чуткая, знающая, доброжелательная и строгая; ещё целы Зал им. Чайковского и Большой зал Филармонии, творят такие гиганты, как Шостакович, Мравинский, Коган, Рахлин, Оборин, Софроницкий, Мария Юдина, Рихтер, Ростропович… И начинается какая-то жизнь, какие-то проблески нормального человеческого существования.
Он сказал «поехали» и махнул на всё рукой. Если Гульд открыл путь в СССР для пианистов, то Бостонский симфонический оркестр (Boston Symphony) годом раньше проложил до рогу для оркестров. Причем, чтобы не мелочиться, начали с «большой пятерки», возглавляемой великими дирижерами XX столетия. Большая пятерка – это Нью-Йоркский симфонический оркестр, Чикагский, Бостонский, Кливлендский и Филадельфийский. Шарль Мюнш – один из крупнейших дирижеров мира – вслед за Пьером Монтё и Сергеем Кусевицким вывел Бостонский оркестр в лидеры мировой оркестровой культуры, и в момент своего наивысшего расцвета коллектив – первый американский филармонический оркестр – приехал в страну Советов. За ним – Филадельфийский симфонический оркестр, дирижер Юджин Орманди. Это 1958 год. 1959 год – Нью-Йоркский симфонический оркестр, Леонард Бернстайн. Наконец, Кливлендский симфонический оркестр – 1965 год – Джорж Селл. (Лучший оркестр – Чикагский, возглавляемый сэром Георгом Шолти, посетил СССР с опозданием, в 70-х).
Если прибавить Лондонский филармонический оркестр, прибывший вслед за Бостонским в 1956 году во главе с сэром Адрианом Боултом, Оркестр Гевандхаус (Лейпциг) с Францем Конвичным – тот же 56-й год, Венский филармонический оркестр с Гербертом фон Караяном – это уже 1962 год; не говоря уж о визитах дирижеров «соло», таких, как неоднократные гастроли, к примеру, Игоря Маркевича или Лорина Маазеля; если учесть, что в Ленинграде в «Заслуженном коллективе» стояли за пультом великий Евгений Мравинский и великолепный музыкант и дирижер Курт Зандерлинг, приезжали Натан Рахлин, Александр Гаук и другие дирижеры высочайшего класса; если все это и многое другое вспомнить, то получается фантастическая картина, невиданная досель и не ожидаемая в будущем, – картина высвобождения духа, самоощущения личности не в замкнутом национально-культурном пространстве, а в системе мирового культурного процесса. Создавалось впечатление, что двери камеры распахнулись: раз можно к нам, тот вскоре и мы сможем выйти в свободный мир. То есть жить свободно с выездом.
…В 1740-м году Анна Иоанновна подписала указ, согласно которому опальному князю Александру Андреевичу Черкасскому выходило помилование. Ему разрешалось покинуть Жигановское зимовье (название самого северного и глухого места ссылки XVIII века): «Из Сибири его освободить, а жить ему в деревнях своих свободно без выезда». Мы так и жили – свободно без выезда. Да и к чему нам был выезд, если водку «Столичную» за 3.07 давали до одиннадцати вечера. А коль скоро приспичит ночью, то нет проблем: швейцар «Европейской» за червончик обеспечит заветной бутылочкой.
А тут поехали. И – потрясение за потрясением. Никогда уже не услышать звезд такой мощи, такого масштаба, таких – великих – традиций, славных столь тщательной, пунктуальной и вдохновенной проработкой мельчайших деталей, и таких несхожих, самобытных, как Шарль Мюнш Джорж Селл, Адриан Боулт, Герберт фон Караян или сэр Шолти…
Орманди и Бернстайн – музыканты и дирижеры из разряда легенд. Представить, что можно увидеть живьем и услышать «живого» Орманди, к примеру, было немыслимо, как немыслимо было представить на сцене Филармонии Сергея Рахманинова, имя которого было в нашем сознании неразрывно связано с Филадельфийским оркестром. Орманди, давший жизнь «Симфоническим танцам» Рахманинова, записавший с композитором его Третий и Четвертый фортепианный концерты, блистательный интерпретатор Брукнера и Мусоргского, Бартока и Шостаковича, Чайковского и фон Веберна, Мясковского и Бриттена, «автор» так называемого Филадельфийского звука, которым отличалось звучание его оркестра – чувственного, гибкого и идеально точного, – Орманди – за пультом в Большом зале Ленинградской филармонии! Мы прекрасно знали некоторые записи Орманди – пластинки Апрелевского завода с наклейкой «Играет Сергей Рахманинов и Филадельфийский оркестр п/у Юджина Орманди» расхватывались, как горячие пирожки в морозный день. В те девственные времена понятие авторского права как-то не приживалось в умах издателей, редакций и вообще руководящего состава советской культуры. Поэтому мы могли пользоваться всеми благами этой преступной неграмотности, во всяком случае, в области классической музыки. (Джаз и поп-музыку, а затем рок и прочие увеселения буржуазного общества было не достать, но не потому, что там очухались с авторским правами, а потому, что «НЕЛЬЗЯ». Музыка толстых!). Так что Орманди мы знали – записывался с легендарным и уже не запрещенным, как раньше, Рахманиновым! Ещё большей сенсацией явился приезд Бернстайна. Это была культовая фигура, но прежде всего как автора «Вестсайдской истории», которую он создал за два года до приезда в Союз. То, что оказался превосходным, умным и тонким музыкантом и дирижером, было неожиданно… О многих мы знали, к некоторым относились с неоправданно великим пиететом. Караяна, скажем, до поры до времени боготворили, но кого-то не знали. На первом концерте, например, Лорина Маазеля – музыканта уникального – был полупустой зал. Однако, как и в случае с Гульдом, на второй концерт было не попасть, опять свою партию сыграла родная конная милиция. Вообще в это прекрасное десятилетие славные служители порядка с жезлом приобщились к высокому филармоническому искусству. Думается, нести службу на улице Бродского или на Площади Искусств было делом и почетным, и желанным, и безопасным. Очкастая публика лошадей сторонилась…
Особое потрясение и сенсацию вызвал Кливлендский оркестр. Про такой город – Кливленд – мало кто слышал. Чикаго, Нью-Йорк, Бостон – это понятно, великие города, великие должны быть оркестры. Но Кливленд – провинция, и вдруг приезжает из этой глухомани уникальный коллектив во главе с изумительным дирижером, мощным и оригинальным интерпретатором, с потрясающими музыкантами, особенно духовиками.
Набег великих заставил заново оценить местных кумиров. Подспудно казалось, что наши дирижеры, за исключением, пожалуй, Мравинского, суть корифеи местного значения и масштаба. Оказалось, при сравнении, что и Николай Рабинович, и Карл Элиасберг, и Арвид Янсонс, и Эдуард Грикуров, и Курт Зандерлинг, и, конечно, Евгений Мравинский – не первые парни на деревне, а профессионалы высочайшего класса, масштаб дарований которых ставит их в один ряд с именитыми гастролерами. Это радовало наши юные сердца, а радость требовала выхода и подкрепления. Все это можно было осуществить не отходя от кассы – на «Крыше» Европейской.
Впрочем, помимо «Крыши», музыканты Филармонии, а также МАЛЕГОТа или Театра Муз. Комедии, их поклонники и гости нашего города хорошо подкрепляли свои силы кустовым методом: после Мравинского – на «Крышу»; там перемолоть под коньяк новости Заслуженного коллектива или Второго состава, перекурить и можно прошествовать в «Кавказский», что почти на углу Невского и Плеханова, у Казанского собора,
Там скромно отужинать с лобио, сациви, травой («кинзы не пожалейте, уважаемый»), капустой по-гурийски и шашлычком по-карски. Впрочем, нет, шашлык по-карски лучше всего был в «Восточном» – на углу Невского и Бродского. Как раз на середине пути из Большого зала Филармонии в Малый. И наоборот. В зависимости, кто где играет и где раньше заканчивается концерт. Иногда «Восточный», переименованный впоследствии из-за очередного приступа истерического патриотизма в «Садко», даже называли «Средний зал» Филармонии. Но не все. Все же Средний зал был, скорее всего, на «Крыше». Дело ведь не в геометрии… Так что в «Кавказском» брали бастурму или классический шашлык из молодого барана. После «Кавказского» можно было пройти в «Восточный», откушать кофе с коньком или опять заглянуть на «Крышу», где постоянно обитали знакомые музыканты, прежде всего – «духовенство». Крепкие, среднерослые, как правило со стальными брюшными мышцами и круглыми арбузными животами, красными вмятинами амбушюров – губы постоянно облизывались – привычка духовика, лицами цвета моркови и окраской морозного утра – яркое алое солнце и синеватый свежий снежок прожилками, – эти уже не очень трезвые люди во время наезда коллег с Запада были необычайно возбуждены.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?