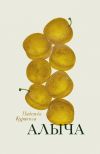Текст книги "Ленинбургъ г-на Яблонского"
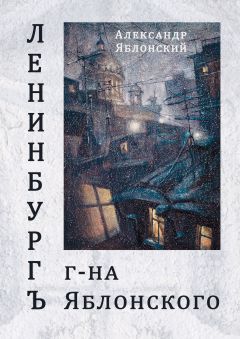
Автор книги: Александр Яблонский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Сообразуясь со своими воззрениями, он выстраивал свое поведение командующего и воина. Во время беспрецедентного зимнего перехода через Балканы, соизмеримого лишь с легендарным переходом Суворова через Альпы (с той лишь разницей, что нечеловеческие и героические усилия армии Суворова не имели практического результата – не по вине солдат или полководца; переход же войск Гурко окончился взятием Софии и, фактически, победным завершением кампании, освобождением Болгарии). Во время этого перехода, как известно, «всем подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми воинами все трудности перехода, лично руководя подъемом и спуском артиллерии по обледенелым горным кручам, ночевал у костров, довольствовался, как и солдаты, сухарями». И делалось это естественно и легко, как и подобает воину по призванию. Далеко не все подчинённые ему командиры его любили (великий князь Александр Александрович – впоследствии Александр Третий – откровенно терпеть его не мог, не простив того, что командование гвардией во время балканской кампании было возложено на Гурко, а не на него – Александра: во время тостов, провозглашаемых впоследствии Императором за генерала, наследник демонстративно отставлял свой бокал), любили не все, но все уважали и боялись. Не боялись солдаты: они командующего боготворили и подчинялись беспрекословно. Когда во время перехода через самый неприступный перевал доложили, что пушки на руках не поднять, «железный генерал» своим привычным металлическим голосом негромко властно сказал: «Втащить зубами». Втащили.
В конце XX века протоиерей Геннадий Ульянич озаботился поисками останков генерала – героя последней Турецкой компании и его супруги. Характерно для нынешней России – озаботилось духовное лицо, а не государственные мужи или командующие армией, которая опять называлась российской. Более четырех лет продолжались поиски. Если бы не цепь случайностей, не нашли бы. Короче, под толстым старым деревом в парке, под свалкой мусора откопали недостроенный кирпичный склеп. На самом дне, в обломках бетонной трубы, обнаружили лакированные сапожки, в которых была похоронена Мария Андреевна, а под следующим слоем земли – все то, что осталось от праха генерал-фельдмаршала, бывшего генерал-губернатора Петербурга, кавалера орденов св. апостола Андрея Первозванного, святого Александра Невского с алмазами, св. Владимира I и III степеней, св. Анны I степени, Георгиевского кавалера (II и III степеней и золотого оружия), св. Станислава I и II степеней, «Белого Орла» и пр., пр., пр.
…Всё это – Гурко и семейство Салиас, Феоктистов и Щербина, ресторан Палкина и ресторан «Медведь», полки лейб-гвардии и Государь Император, так же, как и Мирский, Соловьев, Нечаев, как вилла «Роде», коньяк потомков вольноотпущенного крестьянина генерала Измайлова – Леонтия Шустова – или магазины потомков вольноотпущенного садовника графа Шереметьева – Петра Елисеева, конки на Невском и гулянья в Летнем саду, и женщины: очаровательные, манящие и недоступные женщины Петербурга – все это мой Город, исчезнувший, как сказочный Китеж.
Ужель в скитаниях по миру
Вас не пронзит ни разу, вдруг,
Молниеносною рапирой
Стальное слово «Петербург»?
……………………
Ужели вы не проезжали
В немного странной вышине
На старомодном «империале»
По Петербургской стороне?
Ужель, из рюмок томно-узких
Цедя зеленый пипермент,
К ногам красавиц петербургских
Вы не бросали комплимент?
……………………
Давно осталась позади Тверь, за окном мелькают темные силуэты деревьев, телеграфных столбов, строений, сливающиеся в одну рваную темно-серую ткань. Вижу: генерал от кавалерии Иосиф Владимирович Гурко – стройный, худощавый, подтянутый, в плотно облегающем мундире с одним Георгием Второй степени на груди по центру, прямо под воротником, с большими седеющими бакенбардами, – прохаживаясь вдоль дощатого походного стола, читает список офицеров лейб-гвардии Павловского полка, особо отличившихся в деле под Горним Дубняком и Телишем, открывшем дорогу на Плевну и обеспечившего успех всей компании; офицеров, представленных к наградам и очередным званиям: «…“Святой Анны” четвертой степени с надписью “За храбрость” – Яблонскому… Голубчик, – это он к адъютанту, – этот Павел Яблонский – он, кажется, прадед тому самому Яблонскому, музыканту – шалопаю, возомнившему себя писателем?..»
…Судьбы скрещенье.
Грудному ребенку место в яслях, а не в тундре!
Иосиф Франциевич удачно прикупил домик. Примерно напротив его ранее трехэтажного, а ныне пятиэтажного каменного дома с изящными сандриками над окнами, белой лепниной на фасаде, окрашенного ранее в желтый «россиевский», а ныне в грязный серый цвет, располагалась рюмочная. Одна из лучших в Ленинграде.
Рюмочные были неотъемлемой частью интеллектуальной жизни Ленинграда. Они существовали до конца 70-х, потом – как корова языком. Кому они мешали?! Впрочем, понятно, кому: интеллектуальные центры не поощрялись даже в рюмочных.
То время 50-х–60-х–70-х годов отличалось причудливостью наслоений дня и ночи, их несовместимостью и взаимоисключаемостью, но, вместе с тем, взаимопритягаемостью и взаимообусловленностью. Если уж запустили первый спутник Земли, то Пастернака необходимо было смешать с землей и назвать свиньей за талантливый, но политически безобидный роман с гениальными стихами. Коли решили напечатать «Щ-854» («Один день Ивана Денисовича»), то немедленно надо раздавить художников – бессмертное «педерасы проклятые… мой внук и то лучше рисует, запретить! Всё запретить! Я приказываю! Я говорю, выкорчевать!». Ежели реабилитировать миллионы невинных и отпустить на волю оставшихся в живых, то уж обязательно залить кровью Венгрию… да и Польшу, до кучи. Коль скоро стали прорываться в нормальный мир – слепили Международный кинофестиваль, на одном из которых, благодаря неистовым стараниям Е. Фурцевой и Г. Чухрая, не пожелавших опозориться на весь мир, первый приз получил фильм Феллини (1963 год), и конкурс Чайковского, первым лауреатом которого стал американец Вэн Клайберн, то совершенно обязательно посадить писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Это был первый срок, данный в СССР писателям как таковым. (Гумилева и Мандельштама, Ивана Катаева и Бабеля, Ясенского и Пильняка, Артема Веселого и Зарубина, Клюева и Заболоцкого, Корнилова и Васильева, Шаламова и Бродского, Белинкова, Коржавина и многих других ставили к стенке, гноили в лагерях, стирали в пыль, мариновали в ссылках как белогвардейских заговорщиков и наймитов, как японских, латышских, английских, немецких шпионов, как троцкистов, правых уклонистов, тунеядцев, «неблагонадежных» и пр.) Если уж достроили никому не нужный БАМ, то почему не выставить из страны Солженицына. «Венера 13» опустилась на одноименную планету – прекрасно, но как не сбить по этому поводу южнокорейский пассажирский самолет. Тогда это был только первый опыт в подобных забавах российских правителей. Так же было и с закрытием рюмочных: компенсировали либо запуск «Союз-Аполлона», либо восхождение на большевистский Олимп верного сына партии товарища Андропова или ее стойкого члена Черненко.
В рюмочной напротив бывшего семейного гнезда я был завсегдатаем. Рюмки – граненые, вмещавшие 50 грамм. То, что не дольют, не вызывало сомнений ни у покупателей, ни у продавцов, ни у ОБХСС. «Дайте две порции по 150 грамм. Можно в один стакан» – это шутка (стаканы были двухсотграммовые). Однако все с недоливом мирились. За удовольствие надо платить. А удовольствие было огромное. К пятидесятиграммовой рюмке полагался бутерброд из ржаного хлеба с одной килькой и тонким диском вкрутую сваренного яйца. Иногда – со шпротами (две штуки), реже с вареной колбасой. Рюмочная – штука удобная и комфортная и для жизни необходимая. Нечто похожее на американские стиральные машины и сенокосилки вместе взятые. Только более полезная в нашем быту. В рюмочной можно было быстро остограммиться – хлопнуть две рюмки сразу и закусить одним бутербродом, оставив нетронутым второй, что многие и делали, и идти дальше, к следующим питейным заведениям или в магазин, на службу или на свидание. Никаких прилипчивых незнакомцев, как в пивной, которым необходимо срочно излить душу, обнять за шею, дохнув ароматом всей своей прошедшей жизни, и облить чужие штаны остатками пива. Бутерброды в рюмочной к концу дня иногда горкой лежали на неубранном столе. Но было и наоборот – один раз за всю историю и не со мной. Через лет этак шестьдесят после обманчивого рассвета на Москва-реке, уже в XXI веке, далеко от Рылеева, Ленинграда, России, то есть тогда, когда уже ничего не изменить и не вернуть – ни Ленинград, ни Россию, ни рюмочные, – одна знакомая рассказала эту жуткую для меня историю. Я тогда – в далекой юности – эту женщину не знал и даже не догадывался о ее существовании. С ней же случилась беременность. Дело молодое. Бывает. И у нее, как у любой беременной женщины, проявилась неуемная тяга к килькам. Не к сельди, которая ещё была в продаже, не к икре, которую было не достать, но по блату все же можно, не к соленым огурцам из бочек – на рынке, да и в магазинах, их было навалом: большие, пузатые, хлюпающие во рту, брызгающие рассолом на всех окружающих, но невероятно вкусные. Только кильки могли удовлетворить ее беременную душу и одноименный организм. Но кильки как раз и исчезли. Причем исчезли в магазинах. В рюмочных были, а в магазинах – нет. Это как с соками из фруктов, которых – фруктов – в помине не было. Короче, голь на выдумки хитра. Моя новая знакомая в те незнакомые времена нашла выход. Она забегала в рюмочную, брала «две по пятьдесят», съедала два бутерброда с килькой, а водку – 100 грамм! – отдавала алкашам вроде меня. И летела счастливая на работу. Я об этом не знал. Самое обидное то, что та рюмочная находилась на улице Моховой, между бывшим Брянцевским – ТЮЗом – и Белинского. Почти напротив Театрального института – детища Л. Вивьена и Музыкального училища им. Мусоргского. Что было первично, а что вторично: рюмочную открыли поближе к этим очагам культуры и воспитания творческой молодежи, или эти два очага разместили в надежде, что поблизости будет рюмочная, дабы студенты и студентки, доценты с кандидатами и прочие народные артисты не утомляли ноги частыми перебежками, – что было первично, что вторично, не знаю. Знаю лишь, что меня в тот момент в этой рюмочной не было, и дары природы, то есть беременной Ларисы, я не получал. По сей день горюю, что проходил мимо рюмочной на Моховой в те знаменательные дни.
Весьма даже кстати генерал-полицмейстер Петербурга Василий Федорович Салтыков, вступив в должность в 1734 году, озаботился, чтобы как-то уменьшить количество пожаров в городе. Болота болотами, топь – топью, но Петербург горел. И как горел! По сему поводу и были изданы мудрые указы об учреждении команды трубочистов при градоначальнике, обзаведении каждым полком петербуржского гарнизона по «одной заливной английской большой трубе со всеми к ней принадлежностями, по одному чану и на каждый батальон – по одному большому крюку с цепью», и так далее. Особым указом в 1736 году во избежание возгораний было запрещено мыться в банях мужчинам и женщинам совместно. Как там они совместно моются – неизвестно, за топкой недоглядывают. Срам один. Потому и возгорания неизбежны: разгоряченные люди удержу не знают. Запретил. И то дело: совместно с женщинами мыться – килек не напасешься. Но Петербург все равно горел. Кильки же сохранились до наших дней.
До того чудного времени, когда на этой улице появились Брянцевский ТЮЗ, Театральный институт, Музыкальное училище, глазная поликлиника, рюмочная и другие культурные центры, называлась она иначе: Хамовая улица. Хамов в прямом смысле этого слова на улице в те времена было мало. Во всяком случае, В. Стасова или П. Столыпина, А. Даргомыжского и Д. Менделеева, С. Макарова и Ф. Тютчева, Н. Лескова и Е. Шварца, М. Глинку и Н. Склифосовского, Т. Шевченко или Ю. Шевчука, живших на этой старинной – с 1711 года – улице так обозвать затруднительно. Здесь находился переведенный из Москвы Хамовный или, выражаясь культурно на современном языке, – Ткацкий двор. Со временем это слово устарело, потеряло свой московский колорит (Хамовники – Хамовая – Ткацкая слобода), а затем и значение, и, дабы не оскорблять живших на Хамовой петербуржцев, где-то в 30-х годах XIX столетия название незаметно изменилось.
…Порой из дома нумер три по Хамовой – Моховой – выходит степенный господин с апатичным выражением лица, полузакрытыми глазами, часто с маленькой собачкой за пазухой, и неторопливо шествует в обеденное время к гостинице «Франция» на Мойке или, после второго чая и полдника, – в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Это – Иван Александрович Гончаров. Он живет уже тридцать лет в маленькой квартирке окнами во двор. Он – старый холостяк, но в его обители часто слышится детский смех. Веселятся дети его покойного слуги. Автор «Обломова» их обожает и трогательно опекает, как делал бы герой его чудного романа. Иван Александрович идет тяжело, осторожно, я чуть не сбиваю его с ног, так как тороплюсь из рюмочной в «Вино в ро́злив», что на Пестеля, второй дом от Литейного. Нельзя промедлением сломать кайф.
В рюмочной можно было остограммиться, но можно было провести время в беседе с близкими людьми. И никто не вмешивался, не встревал, не гундосил и не икал под боком. Когда-то в рюмочной на Рылеева я встречался с моим дружком и одноклассником Олегом, который жил – о, счастливчик! – в соседнем доме. Мир его праху – чудный и верный был человек.
На той же лестнице этажом выше жил другой мой приятель раннего дошкольного детства – Томик Зандерлинг, он был моим ровесником, может, чуть старше. Наши мамы дружили ещё с военных времен. Впрочем, Зандерлинги в определенный момент были эвакуированы в Новосибирск вместе с оркестром, а моя мама осталась в блокадном городе, потом с ней остался и я. Томик выделялся из всех моих знакомых раннего детства. Он был как-то иначе одет. Не богаче или изысканнее. Тогда никто богаче не одевался. Все было аккуратно, чисто, опрятно. Он было одет в те же вещи, что и другие мальчики, но выглядел, как из сказки. Помимо этого, Томик был очень вежливый, удивительно спокойный и добрый мальчик. Представить, что он кричит: «Это мое», – и прижимает к груди свою или чужую игрушку, невозможно. Мы вместе с ним гуляли и играли в садике около Спасо-Преображенского собора. Мамы беседовали. Потом мама рассказывала папе, что Зандерлинги пережили, когда Германия выбрала Гитлера, как они эмигрировали в СССР и как мечтают вернуться на Родину. Может, Родиной была для них не только Германия, но и нормальная жизнь? Я многого не понимал, в частности, что такое «Хрустальная ночь» или «окончательное решение», и вообще, что такое евреи, но в памяти откладывалось. Что-то напоминало слышанное от взрослых не про Германию. Потом Зандерлинги переехали в другой район, и мы с Томиком больше не играли и не встречались. Он поступил в Десятилетку при Консерватории, а я – в районную музыкальную школу. (И в страшном сне не могло предвидеться моим родителям, что я стану профессиональным музыкантом – «это не профессия для мужчины». В том, что я стану мужчиной, они, видимо, не сомневались.) Томик и я попали в разные миры. Мамы перезванивались. Маму Томика я плохо помню, но какой-то неизъяснимый шарм, манера держаться, походка, обращение с нами – детьми, выговор – с акцентом, улыбка при всех обстоятельствах – всё это осталось в памяти и отложилось на всю жизнь. Это была европейская семья, как я понял значительно позже, и семья выдающегося музыканта. Это я знал с шести лет, то есть с того момента, как стал ходить в Филармонию, Большой зал которой мне казался сказочным храмом или дворцом – колонны, люстры, музыка. Там главным жрецом – одним из главных – был папа Томика. Курт Зандерлинг был очень известным человеком. Дирижером – прославленным – Заслуженного коллектива Ленинградской филармонии. Мы ходили на его концерты. Уже позже, ближе к их возвращению на родину – а они уехали в ГДР в 1960-м году, – я понял, как мне повезло: мои музыкальные впечатления формировались под воздействием этого великолепного музыканта. Евгений Мравинский был создателем оркестра высшего мирового уровня, но свою очень ощутимую – европейскую – лепту привнес и Курт Зандерлинг – из плеяды великих немцев: Бруно Вальтера, на которого походил своим музыкальным и дирижерским обликом, Отто Клемперера, Артура Никиша, Вильгельма Фуртвенглера. (Правда, в отличие от последнего и, в особенности, от члена НСДАП Герберта фон Караяна, никогда ни одной ноты не сыгравшего для режима наци.) Зандерлинг – выдающийся музыкант незапятнанной немецкой культуры. Мравинский это понимал и ценил. Такое отношение к коллеге – вещь чрезвычайно редкая, «эксклюзивная» для Евгения Александровича. Он был прирожденным лидером и не прислушивался, не говоря уж о большем, ни к солистам (поэтому очень не любил играть концерты для инструменталиста с оркестром, кому-то аккомпанировать и за кем-то «идти»: идти надо было за ним, в этом были его сила и его своеобразие), ни к коллегам. Свой оркестр он ни с кем не делил и крайне неохотно, в редчайших случаях, допускал за пульт больших дирижеров. Исключение он сделал для Курта Зандерлинга. Творчеству Зандерлинга было свойственно типичное для немецкой классической школы педантичное, вдумчивое и безупречно честное отношение к авторскому тексту, великолепное знание неписанных законов музыкальной эстетики каждой конкретной эпохи, дотошное изучение и шлифовка мельчайших деталей, интеллектуализм интерпретаций и, одновременно, яркая экспрессия, напряжённая эмоциональная жизнь каждого произведения. Плюс отточенная, достаточно скупая, но выразительная мануальная техника. Наконец, он любил оркестр и оркестрантов, любил и знал особенности их коллективной и индивидуальной психологии. И оркестр отвечал ему взаимностью. Он был любимцем и оркестрантов, и филармонической аудитории. Им гордились, восхищались, его ценили – а это для ленинградцев значило многое. Его прощальный концерт превратился в удивительный, трогательный акт признания в любви. По окончании программы зал не расходился: люди стоя аплодировали, несли букеты цветов, коробки конфет, сувениры. Стоял настойчивый гул – призыв – выкрики: «Не уезжайте, не уезжайте!». Действительно, мы теряли очень важную часть нашей ленинградской культуры, некий высокий и редкий в наших широтах ориентир.
Как Петербург не любить
Как русский намек на Европу…
Ещё один пласт русского намека на Европу отпадал. Не первый и не последний.
Курт Игнатьевич прожил долгую и достойнейшую жизнь. Он умер совсем недавно – в 2011 году в возрасте 98 лет. Ещё в начале XIX века он выступал и записывался (до 2002 года). Его творчество – прежде всего записи произведений Бетховена (все симфонии, концерты для фортепиано с оркестром), Брамса (все симфонии), Малера, Шостаковича – золотой фонд оркестровой классики, а его личность – воплощение человеческого и артистического достоинства и чести. В памяти осталось его лицо, чуть продолговатое, с крупным носом, большим ртом с припухлой нижней губой, черные волосы, зачесанные назад, с проседью на висках, серьезные глаза за очками в темной оправе. Томик был на него похож.
Томас Зандерлинг окончил нашу Ленинградскую десятилетку как скрипач у Михаила Ваймана и как дирижер у Николая Рабиновича. Лучших педагогов представить невозможно. Думаю – не знаю – думаю, дата отъезда из СССР семьей Зандерлинг была выбрана не случайно: в 1959–1960 году Томик заканчивал Ленинградскую Десятилетку при Консерватории. Таких музыкантов и учителей, как Вайман и Рабинович, в Европе было не найти. Мой вежливый и добрый приятель детских лет в красивом костюмчике стал настоящим большим музыкантом. Томас работал с ведущими оркестрами мира, с середины 90-х он – главный дирижер оркестра в Осаке. Живет в Англии, в Новосибирске – главный приглашенный дирижер. Бесспорно, талантливый, высокопрофессиональный музыкант и человек высокой культуры, отточенного интеллекта и высочайшей порядочности. Как папа. Имеет российское гражданство. Видимо, что-то осталось в душе от того времени – на Радищева, из нашего детства. Я хорошо его помню – мальчик из сказки.
Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным!
В рюмочной около парадного подъезда на Рылеева (Спасской) Зандерлингов представить было невозможно. Они – небожители, европейцы, представители мира элитарного кафе, но никак не рюмочной с кильками.
Вообще, я тогда по молодости и глупости полагал, что иностранцы – европейцы – и, особенно, евреи – народ непьющий. А если и пьют, то кальвадос, бренди, коктейли, перно, аперитивы. Как у Ремарка или Хемингуэя. Оказалось, неправ был.
Конечно, встречались исключения. Анна Иоанновна, к примеру, при всем внешнем преклонении перед дядькой его питейные забавы не одобряла и жестко их пресекала. Сама почти не пила: возможно, по природной антипатии к крепким напиткам, но, скорее, помня о кончине своего молоденького мужа – герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, последовавшей через пару месяцев после свадьбы от сильнейшего перепоя – вздумал, голубчик, тягаться с Петром Великим. Анна обожала квас, хотя от него пучило живот. Ее пиры, как правило, были «трезвыми», то есть без вина. Исключение – годовщина восшествия на престол Ея Величества – 29 января, когда все поздравлявшие Императрицу должны были, стоя на коленях, осушить огромный бокал венгерского вина до дна – обязательно! Могла пожаловать собственноручно своему любимцу из офицеров или шутов рюмку водки или малый бокал вина, но, в целом, при дворе если и потребляли алкоголь, то в виде тонких вин – бургундских, венгерских, рейнских. Как в лучших домах Европы. Так что и Бурхард Кристоф Миних, и Генрих – Иоганн – Фридрих Остерман и сам Эрнст Иоганн Бирон при Дворе вынуждены были хлебать квас или легонькое винцо. Впрочем, двум последним более ничего и не надо было. А вот фельдмаршал Миних, придя домой, оттягивался, поправляя здоровье простым хлебным вином вместе со своим адъютантом Христофором Германом Манштейном и другими соотечественниками, коими Императрица была плотно окружена. Как, собственно, и ее дядя, привечавший иноземцев.
Неприязнь Анны к спиртному мало влияла на ее немецкое и вообще иностранное окружение и в целом на все европейские диаспоры столицы. Приезжих иностранцев поражало пьянство при Дворе, которое процветало, несмотря на все строгости, и особенно во всей столице, причем, если о пьянстве великороссов в Европе были наслышаны, то подобная пагубная страсть своих же соотечественников удивляла и поражала. Оказалось – заразная это вещь. Петр Третий – Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский – компенсировал чудачества Анна Ивановны и тонкими винами себя не утруждал… Ну и подданные – за ним.
Основную массу иностранцев в Петербурге составляли немцы – они занимали второе место (с большим, конечно, отрывом) после великороссов. «Петербург – это аккуратный немец, больше всего любящий приличия». Сказано Николаем Васильевичем по другому поводу и в другом контексте, но и в нашем случае пригодно. После немцев шли поляки – тоже выпить не дураки, затем – коренные жители сих мест – финны, шведы. Они и до основания Петербурга гнали свои напитки. При Петре были голландцы, шотландцы. В результате кровавых забав якобинцев Петербург заполонили французы, но их удельный вес все же был не высок. Вот французы, итальянцы, испанцы, не говоря уж о португальцах, надо думать, до напитков северных народов – хлебного вина – водки, рома, виски, шнапса – не опускались. Тем более евреи. Их в Петербурге был примерно один процент от общего числа жителей, не более 2-х. Однако…
Бывают исключения и среди европейцев, и среди евреев, и среди европейских евреев, даже португальских. И какие исключения!
…Говорил же Антону Мануиловичу, не сто́ит, коль скоро Императрица отходит. Но разве он послушает! Понятное дело – привычка. Ведь опытен, прозорлив был. Все понимал. Указ, Высочайшей рукой подписанный, «О наказании за непристойные и противные разговоры против Императорского Величества» не просто так появился. В России так просто не бывает. Таких законов – пруд пруди. Как бы ни назывались: «Об иностранных нежелательных организациях» или «О борьбе с пьянством», или «Борьбе с коррупцией», или «Борьбе с терроризмом», или «…с тунеядством», или закон «О мерах по борьбе с космополитизмом». Несть числа – все они просты и ясны: согласно закону, в правовом поле можно посадить любого и за что угодно, и когда угодно. Выпил рюмку шнапса – сиди и за низкопоклонство, и за пьянство, и за связь с нежелательными организациями – производителями шнапса. Или ляпнул, что в селе Кукуево плохая погода, и сразу попал под закон «Об антироссийской пропаганде». Всё это в России апробировано. По сей день круче и круче. Все это Мануилыч знал прекрасно. Так же, как и то, что его любезнейший шурин не зря этот закон соорудил и императрице под горячую, а вернее, – хладеющую руку подсунул – было ясно, как Божий день. Как это в России говорят: «и ежику ясно». Мануилыч не просто хорошо выучил язык этой страны, но и понимал многие идиомы: «спустя рукава» или «очертя голову» он даже употреблял в своих приказах, а вот «точить лясы» – пока не осилил. Это, кстати, его и сгубило. Теперь одно неосторожное слово – и ты на дыбе, а затем на плахе.
Чуял, нюхом своим звериным чуял Александр Данилович: что-то зреет. Не может не зреть. Уж больно всех тяготила затея Светлейшего отдать дочь свою – Марию Александровну – за Петра Алексеевича, как только взойдет он на трон. Но скрытны, хитры, многоопытны, осторожны супротивники его: и обер-прокурор Скорняков-Писарев, и Иван Долгорукий, и Петр Толстой, и Ивашка Бутурлин. А про Андрея Ивановича Ушакова и говорить нечего – лис, змей, гиена и тигра в одном обличии. К ним и не подступиться. Так что надо с другого конца подбираться. То, что с другого конца начнет свою диверсию князь Ижорский, Антон Мануилович прекрасно знал. А этот «другой конец» – это он сам: генерал-полицмейстер Антон Девиер. Так на что же надеялся? Полагал, что ближнее родство со Светлейшим вытянет? – Быть того не могло: после известного сватовства, когда явился во всей своей красе и стати Антонио де Виейра к Александру Даниловичу просить руки его сестры Анны, ненавидел вынужденного родственничка полудержавный властелин люто, более, нежели Долгоруких и прочих Толстых. И Мануилыч знал это. Как не знать?!
Помнил, как явился он – 28-летний красавец, царский денщик, уже подполковник к всесильному Меншикову просить руки его сестры. Что там было: любовь или расчет, или все вместе, кто знает. Избранница была не больно уж хороша, сидела в старых девах – 22 года ей было, так что, скорее, статный, веселый, обходительный любимец Петра делал одолжение озабоченному брату Анны Даниловны. Как бы не так: держи карман шире. Такого гневного Меншикова Девиер никогда не видел. Ему – петербургскому и ингерманландскому губернатору, генерал-фельдмаршалу, потомственному дворянину, герцогу Ижорскому чуть ли не отпрыску римского цезаря и прочая, прочая, в зятья набивается какой-то денщик, который начинал свою российскую карьеру его – Меншикова – денщиком! – португальский еврей-выкрест, бывший юнга голландского флота. Бил, за волосья таскал так, что умаялся. Призвал дворовых. Те взялись за дело грамотно. Бог не выдал: хоть и били зело усердно, но не убили и не искалечили. Еле ноги уволок, чуть ли не ползком, окровавле́нный и оборванный, добрался до Петра и обрисовал суть коллизии; Петр шутить не любил и не стал дело откладывать в долгий сундучок. Тут же поехали к Светлейшему. Петр Алексашку за волосья немного для порядка повозил и велел дочку за своего денщика выдать. Так и породнились.
А 27 мая 1718 года глашатаи огласили царский указ. «Господа Сенат! Определили мы для лучших порядков в сем городе генерал-полицмейстера, которым назначили нашего генерал-адъютанта Девиера». Так что уже генерал-адъютант стал первым генерал-полицмейстером столицы, правой рукой генерал-губернатора Меншикова. Ляксандр Данилыч себя городскими делами не утруждал, не до того было: баталии, виктории, высокий политик. Так что фактически единовластным хозяином города – рачительным, строгим, европейским – являлся свояк первого генерал-губернатора Санк-Петер-Бурха. Ныне сказали бы: семейственность. Это по незнанию коллизии. Оба взаимно люто ненавидели друг друга. Один – за унижение достоинства: зять – бывший денщик, – и насилие над его волей, другой – за побои. Побои де Виейра простить и забыть не мог. Дыбу – мог, забыл; плаху и кнут ката – мог, забыл; а оплеухи не забывал: ни от благодетеля-Императора, ни от Светлейшего. Все же – европеец. Плюс ко всему больно уж службу любил порядочнейший генерал-полицмейстер, все норовил хитроумные комбинации своего шурина ущучить, и Петр ему во всем этом покровительствовал, Алексашку за волосья таскал, даже в конце концов от генерал-губернаторства убрал, назначив графа Петра Матвеевича Апраксина, от управления Военной коллегией освободил, поставив туда ненавистного князя Аникиту Репнина – Девиера рук работа!
Короче: то, что к нему подберется рвавшийся к абсолютной власти шурин, не было секретом полишинеля. Как веревочке ни виться…
Говорил же ему, не сто́ит. Разве он послушает. Многих русских зараз и недугов избежал этот прибывший из Голландии португальский крещеный еврей. Даже не брал. Когда за ним при шли, в казну конфисковать было нечего. Даже некуда было ссылать его жену с детьми. Одна захудалая деревенька Зигорица в Ямбургском уезде была – и та конфискована. Посему Анна Даниловна поехала доживать дни свои скорбные в одно из имений братца ещё всесильного; этих имений, городов, дворцов, поместий и усадьб у Даниловича было не меряно и не считано. Не брал, португалец, не брал, и всё тут. Уж Мориц Саксонский приватно предлагал 10 000 (десять тысяч) экю за содействие близкому знакомству и браку с Анной Иоанновной. Кто проверит? Кто гарантирует? – Отказался: «Это странное предложение, равно как и другие тому подобные искушения, предполагающие подлые и низкие чувства в том, к кому они относятся, оскорбительны. Я буду без всякого уважения к видам частных лиц, равно как и безо всякого постороннего вознаграждения исполнять свои обязанности, как следует честному человеку. Примите и пр…». Штрафы ввел драконовские – а как иначе в столице, которая «город» – одно название – лишь в Адмиралтейском острове, около Петропавловской крепости, да в Арсенальной слободе ещё есть порядок, а все остальное – тьма египетская, разбой, насилие, грабежи днем и ночью, болота, леса, волки загрызли двух солдат и ещё кого-то, мрак… Штрафы были истинно драконовские: за истопление бань по всем дням, кроме субботы, за грязь около дома, за торговлю на Першпективе (Невской), за пение по ночам…Однако ни одна копейка в кармане генерал-полицмейстера не осела – все в казну. И гаремы не заводил, и телесные наказания не применял – пресекал. Но… пил.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!