Читать книгу "Когда с вами Бог. Воспоминания"
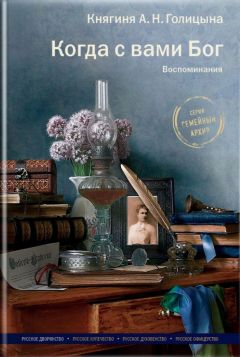
Автор книги: Александра Голицына
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
После этого, когда мы с ней спали, она всегда запирала дверь и ключ клала к себе, но вообще она спала наверху в большой проходной комнате около церкви, за перегородкой.
Нам, помнится, устраивали ванны раз в месяц, так как это было событием. В темной комнате, где горел газовый рожок, а за перегородкой красного дерева был WC (water closet) тоже красного дерева, ставились две ванны на двух скамейках: в одной нас поочередно мыли, а в другой полоскали. Гаврюша помогал наливать воду из крана и следил за тем, чтобы печка была хорошо натоплена. Помню, раз меня особенно поразила красота Сони, которую как сейчас вижу перед собой сидящей подле ванны на стуле, завернутую в лохматую простыню, с всклокоченными мокрыми волосами, и положившую подбородок на подтянутые колени, которые она обняла руками и уставилась глазами неподвижно в одну точку. После ванны нам надевали сверх длинных ночных рубашек халаты и на руках переносили в кровать, где мы получали горячий чай, чтобы не простудиться. Нам одно время давали перед завтраком кусочек черного замоченного в водке хлеба, что считалось очень здоровым. Мы любили, когда нам позволяли допивать из рюмок остатки водки. Тогда считалось тоже необходимым давать детям два раза в год глистогонные средства, и я думаю, что это было разумно, но я ужасно не любила эту процедуру и смертельно боялась минуты выхождения глистов, может, потому, что одна из наших английских поднянек рассказывала нам, что у ее знакомой была девочка, которой дали глистогонное, и в ту минуту, как она начала пить, глисты поднялись к ней в горло и задушили ее. Так глупо рассказывать детям такие истории. Во всяком случае, я не только боялась цитварного семени – либо в виде белых или розовых конфеток, или в виде какой-то темной размазни, – мне все потом представлялось в малиновом цвете, что было неприятно и, очевидно, означало род отравления организма. В течение трех дней нам давали эту гадость, а за обедом в виде закуски очень вкусную селедку, отмоченную в молоке, и к ней кусочки чеснока. На третий день давали касторку, что тоже было мучительно, но, кажется, всегда мы избавлялись от большого количества глистов. Мими всегда говорила, что, когда ночью мы скрежещем зубами или днем чешем носы, «it’s a sure sign of worms».[18]18
«Это верный признак глистов» (англ.).
[Закрыть]
Мама нам всегда выписывала вещи и все книги, а иногда и игрушки из Англии. Приход этих ящиков из Лондона был, конечно, радостным событием, и я помню, как мы любили запах всего содержимого, этот запах «лондонского смога». Носильные вещи для нас Мама выписывала от Davis. Мне особенно запомнилась одна присылка, которая показалась идеально красивой: для каждой из нас было по кофточке светло-абрикосового цвета из какой-то рубчатой шерстяной и очень мягкой материи, которая была расшита узорами из узенького черного сутажа. К этим кофточкам для каждой была шляпа с райской птицей, которая совершенно покрывала ее и ниспадала сзади своим очаровательным хвостом. Я, кажется, редко после этого видала райских птиц, и они теперь считаются такими дорогими и редкими, что мало находятся в употреблении. Эти наряды, конечно, были для воскресных и праздничных дней в Дугине, а вообще нас, кажется, одевали более чем просто, но я даже в раннем детстве любила красивые вещи, особенно красивые лица, чем и объясняется, что я так ясно запомнила лицо Тоцы[19]19
Княгиня Софья Николаевна Васильчикова (Соня), рожденная княжна Мещерская, сестра А. Н. Голицыной.
[Закрыть] или Пети в его белой папахе и черном бархатном кафтане: он был настолько красив, что его постоянно останавливали на улице, чтобы любоваться им, когда он выходил гулять зимой. Когда я выучилась читать самоучкой по-русски по книге с прелестными картинками под именем Параша Лупалова или Сибирячка, я стала читать все, что под руку попадалось. Когда я научилась и по-английски, то Мама мне выписала из Лондона чудное иллюстрированное издание «Тысячи и одной ночи». Чтобы никто мне не мешал, я забиралась с книгой к Мама в спальню и садилась под киот на prie-dieu,[20]20
Маленькая табуретка для тех, кто молится на коленях (фр.).
[Закрыть] на которой всегда теплилась лампадка в форме бронзовой чаши с извитыми стеклянными подсвечниками. В киоте висели подвенечные иконы Папа и Мама, а на последней – подвенечный венок Мама. В середине висела икона «Нерушимой Стены Киевской», затем в длинном ящике подвенечные свечи родителей и одна из золотых кистей с похоронного покрова бабушки Паниной и, наконец, ремень, которым Райман так безжалостно бил бедного Сашу до его тифа и который Мама отняла, когда узнала об этом. Со временем в киоте прибавился складень с иконами всех наших святых. Наружную часть складня сделал для Мама Василий Алексеевич Шереметьев, муж ее близкого друга, Наталии Афанасьевны, которую мы прозвали Фанафина. Он очень искусно работал и вырезал из меди и других металлов на особых станках и для Мама делал этот складень из красного дерева с резной медью. Но самая главная святыня в киоте был серебряный крест с частицей Животворящего Креста в нем. Эту частицу прислал Мама, кажется, во время болезни Саши, Иерусалимский Патриарх. Когда кто-нибудь из нас болел, то мама клала тому этот крест под подушку, и он всегда и всюду ее сопровождал в особом мешочке, который она клала в свой дорожный мешок, а мешок никому не доверялся, кроме одного из нас; крест никто не смел трогать, не вымыв предварительно руки. Этот крест со временем, после кончины Мама, перешел к Саше и теперь, кажется, находится у тети Мары. Под этим киотом я запоем и читала.
После турецкой войны я тоже запоем читала «Военный сборник», который издавал наш дядя Мещерский (Папа Бобо) – издатель «Гражданина». Этот сборник был очень объемистым, и Мама, по моей просьбе, подарила мне его полностью. В нем было много интересных рассказов участников войны. Свои книги я любила и берегла.
Когда же мы перешли из детской в классную, то страстно любили, когда Leek нам читала вслух, а мы все шили вещи для бедных или кошмарные подарки Папа и Мама в виде сюрпризов. Помню, в Дугине, когда мы уже были постарше, Мама нам иногда позволяла в виде a great treat[21]21
Большого удовольствия (англ.).
[Закрыть] немного позже ложиться и пить с ней в ее кабинете вечерний чай, к которому подавался в особой большой серой с синей полосой чашке привозной Devonshire Cream,[22]22
Густые топленые сливки, традиционные в Англии.
[Закрыть] который наша скотница называла французскими пенками. В такой вечер Евгений Евгеньевич Бачинский, воспитатель Саши, читал нам из Гоголя, Пушкина и других авторов. Мы это очень любили. Когда Папа бывал дома, что случалось редко из-за его службы, то читал нам он, но особенно хорошо это получалось у нашего соседа Геннади, которому принадлежало имение Юшино под Сычевками. Он был женат на некрасивой княжне Куракиной, которую называли почему-то foolish Gennadi.[23]23
Дурацкий Геннади (англ.).
[Закрыть] В молодости он был влюблен в Мама и делал ей предложение, но она ему советовала ехать на защиту Севастополя, что он и сделал. Они всегда оставались большими друзьями, и его жена немного его ревновала к Мама. После его смерти она вышла замуж за немца Graf Heinrich von Pucklër (1851–1911), бывшего много моложе ее. Этот Геннади часто наезжал в Дугино, и тогда Мама просила его читать нам. Когда он читал «Полтаву» Пушкина, то по коже бегали мурашки от восторга.
Мама старалась всячески развивать в нас любовь ко всему прекрасному, возвышенному, идеальному, и сама была олицетворением этого. Боюсь, что мы часто оказывались профанами и недостойными ее усилий своей смешливостью в самые неподходящие минуты. Геннади нам читал Гоголя, и тогда нам казалось, что все эти лица проходят перед нами в его интонациях. Особенно нас потешали Добчинский и Бобчинский, и часто, гуляя с Мама, мы говорили: «Я так петушком, петушком!» Как сейчас вижу волоокую худощавую фигуру Геннади с породистыми руками и всегда добродушного к нам.
Тогда нередко в Дугино приезжали соседи в колясках с бубенцами, так что издалека было слышно, что едут. Урусовы приезжали часто в двух экипажах, так как семья была многочисленной. Раз в неделю приходила так называемая оказия из Москвы: воз, нагруженный ящиками с провизией, выписываемой Мама. Сопровождал эти оказии буфетный мужик из московского дома, который обычно шел рядом с возом, а мы с Мама выходили его встречать где-то возле Левшинского моста. Тогда Димитрий передавал Мама пакеты писем, которые он держал при себе. Он был одним из тех мужиков, осанка которых поражала меня благородством и чем-то породистым. Может, это одна из отличительных черт славянской породы, проявляющаяся в чистом виде.
Не помню, говорила ли я, что раз мы остались в Дугине дольше обыкновенного по случаю чудесной осени. Листья долго оставались на деревьях, а в Дугине осень особенно поражала своей красотой, так как Мама подбирала всякие деревья, кусты и вьющиеся растения для парка, которые осенью принимали всевозможные оттенки, от золотой тополиной аллеи до ярко-пунцового амурского винограда около зимнего сада. Однако в один прекрасный день полил дождь и температура упала ниже нуля, а за ночь выпал снег, так что наутро, к нашей немалой радости, все было белое и снова яркое солнце. Помню, как <нас> повели гулять в английский парк, где все березки казались сказочными, на их желтых листьях образовалась толстая стеклянная кора, которая при малейшем движении воздуха звенела как колокольчики и ослепительно блестела на солнце. Мы были в восторге от этой красоты и от возможности бегать по снегу, но, вероятно, наша обувь оказалась совсем неподходящей, и мы промокли насквозь, и Мама послала в Сычевки нарочного за валенками, которые мы впервые тогда надели вместо наших тяжелых черных бархатных ботиков, отделанных под коленями мехом и проложенных внутри белой овчиной. Мама стала обсуждать наш отъезд с Маркграфом и управляющим, так как вскоре навалило еще больше снегу и установились морозы и санный путь. О переезде в дормезах не могло быть и речи, так что надо было использовать древний возок и соорудить еще один, поскольку Мама боялась нас простудить при переезде в открытых санях до ближайшей железнодорожной станции Серго-Ивановской. Возок этот нам был хорошо знаком, и одним из удовольствий было ходить через конюшню в огромный каретный сарай, где стояли коляски, линейки, дормезы, сани и знаменитый панинский возок, в который мы залезали и играли в прятки под всеми этими экипажами. Возок пах затхлостью, хотя все эти экипажи тщательно чистились и проветривались. В числе других были огромные ковровые сани, в которых нас иногда катали по Поповке в солнечные дни. Мы с ужасом думали о переезде в душном спертом воздухе, смешанном с запахами провизиё, которыми были набиты боковые мешки на дверях под окнами. И действительно, когда мы наконец двинулись в путь, закутанные так, что пошевельнуться было нельзя, и сверху прикрытые меховыми полостями, и возок начал нырять по сугробам, то многие из нас не выдержали, позеленели, и стало так мутить, как на море. Маркграф сопровождал нас в своих легких санях, его неизменным спутником и возницей был знаменитый кучер Логин, которого он называл Logvin за лицо Сократа. Он был небольшого роста, рыжий, бородатый и крепкого сложения. Выяснилось, что нет тяжести, которой он не в силах поднять. Когда один из возков наклонялся на сугробе под таким углом, что казалось, что он перевернется, Логин оказывался тут как тут, подпирал плечом и водворял на место. Он был из типа нестареющих крестьян и умер таким же рыжим и крепким с лицом Сократа после того, что в одной из зимних поездок с престарелым Маркграфом они попали в сугроб и сани опрокинулись. Оба вывалились, но Логин быстро вскочил и, несмотря на свои большие годы, напряг силы и, подняв сани, поставил их на дорогу. Он благополучно доставил домой своего хозяина, распряг лошадь, привел все в порядок, лег и умер. Это нам потом рассказал внук Василия Васильевича Маркграфа, наш милый Николай Александрович Гофмейстер, который совмещал в своем лице и доктора, и лесничего в Дугине.
Однажды зиму мы провели в Дрездене. Сперва мы остановились в отеле Bellevue, который существует до сих пор, а затем переехали в Hotel de Saxe, где заняли целый этаж. В Bellevue мы любили играть в саду, где было огромное развесистое ореховое дерево. Помню, что к обеду подавали десерт, который известен под названием quatre mendiants.[24]24
Четверо нищих (фр.).
[Закрыть] Он подавался на четырех отдельных подставках, на которых лежали орехи, изюм, миндаль и фиги на бумажных кружках, украшенных бумажными кружевами. Эти кружева нам нравились, и мы собирали их, так как все они были различных узоров. Мы тогда часто играли в «филитхен» друг с другом, с Папа, Мама и Евгением Евгеньевичем Бачинским. Помню, раз я с ним поменялась филитхеном с тем, что если я выиграю, то он мне даст пучок фиалок. Не помню, что я должна была отдать в случае проигрыша. Я выиграла, и когда мы пришли к завтраку, то я первая подбежала к Евгению Евгеньевичу с приветствием: «Guten Morgen, Filitchen».[25]25
«Доброе утро, Филитхен» (нем.).
[Закрыть] Он рассмеялся моей поспешности, и я с нетерпением поджидала пучок фиалок и знала, что он не обманет, хотя считала, что просила очень дорогую вещь. Когда же мы собрались к обеду, то возле моего прибора лежали не только фиалки, но и фотография Дрезденской Мадонны. Моему восторгу не было пределов. Мы как раз накануне собрались в Дрезденскую галерею, но у входа служитель спросил о моем возрасте и, получив ответ, что мне восемь лет, объявил, что таких детей они не пускают. Это огорчило меня, так как всегда во всех магазинах я видела копии Мадонны в гравюрах, фотографиях и красках, и мне особенно хотелось видеть ее во всем великолепии: особенно мне нравились лик Младенца-Спасителя и два маленьких ангела, которые изображены у ног Божьей Матери. Евгений Евгеньевич был с нами, видел мое огорчение и трогательно предложил нам пойти в музей, пока старшие с Leek пошли в галерею. В музее, помнится, нам показывали золотую табакерку, из которой выскакивала крошечная механическая птичка и что-то пела или щебетала. Когда мы переехали в Hotel de Saxe, мы уже начали все свои уроки, которые были прерваны во время переездов. Кроме уроков с Leek, к нам приходил законоучитель, учитель рисования, старушка, учившая нас вязать; ее мы почему-то звали Herr Strumpfe.[26]26
Господин Штрумпфе (нем.).
[Закрыть] Гимнастику нам преподавала новая Fräulein Thekla.[27]27
Барышня Фекла (нем.).
[Закрыть] Кроме того, Miss Witteker приходила с нами читать и писать по-английски. Не знаю почему, собственно, Leek не могла с нами заниматься там, как занималась, когда мы были дома. К Папа приходил некий Mr. Toy, чтобы давать ему уроки английского языка. Это был широкоплечий великан, которого мы очень любили.
К дяде Саше приходил английский пастор Mr. Ouiderdale для уроков английского, а его сын Arthur играл с нами, с ним же бывала его младшая сестра, которая стала нашей подругой, а сама Mrs. Ouiderdale часто навещала Мама, которая тогда ожидала тетю Веру Оффенберг. Старшая дочь Ouiderdale вышла замуж за английского офицера, служившего в Индии, и уехала с ним туда. Я ясно помню их свадьбу в дрезденской англиканской церкви. В первый раз, мы были на иноверческой свадьбе, и нам очень понравились bridesmaids[28]28
Подружки невесты (англ.).
[Закрыть] в белых платьях с букетами цветов. В их числе была и наша подруга, младшая дочь. Кажется, год спустя после нашего пребывания в Дрездене эта милая девочка трагически погибла: она проходила мимо строящегося дома, и на нее сверху с лесов упала доска. Она была убита на месте. Мы узнали о том из письма ее родителей.
Папа всегда старался доставлять нам удовольствия, мы очень любили с ним выходить: он то водил нас в кондитерскую, то смотреть что-нибудь интересное. Раз был благотворительный базар в зале гостиницы. Он нас повел, глаза наши разбежались от количества вещей, которые казались такими чудесными. В другой раз там был фокусник. Конечно, Папа нас повел. Фокусник был или представлялся индусом в атласном халате небесно-голубого цвета, подпоясанном широким кушаком, а на голове у него была чалма. Он показывал всевозможные чудесные фокусы, а в антрактах играла незримая музыка. Меня приводила в восторг Лорелей,[29]29
«Лорелея» – романс Ф. Листа и Ф. Зильхера на стихи Г. Гейне.
[Закрыть] которую, между прочим, играли там, и мотив ее крепко засел у меня в голове, так что я его все потом напевала и искала случаев снова услышать. Затем наступило время Дрезденской ярмарки, когда часть улиц запрудили лавчоники со всевозможным товаром. Даже на тротуарах были разложены каменные чернильницы, пресс-папье, подсвечники и всякие привлекательные и заманчивые вещи, так что мы часами бродили, выбирали, любовались и возвращались домой, нагруженные, верно, какими-нибудь ужасами, если бы теперь увидели то, что тогда нам казалось прекрасным. Но надо было для всех покупать подарки: для Мими, Прасковки, нашей девушке, друг другу и так далее без конца. Наша английская девушка Эмма была с нами за границей, и мы ходили гулять с ней в gros Garten,[30]30
Большой сад (нем.).
[Закрыть] где часто встречали наездников и наездниц. Раз мы видели, как лошадь понесла одного из них. У Эммы случился приступ истерии, она все время кричала: «Dear me! He’s trying to throw him off!»,[31]31
«О Боже! Он хочет сбросить его!» (англ.)
[Закрыть] пока он не скрылся вдали. Папа часто ходил смотреть на игру в футбол, а мистер Той был один из лучших игроков. Раз во время игры один из участников так сильно ушибся, что упал замертво. Папа тотчас побежал на помощь, раздобыл доктора, помог перенести на носилках в экипаж и, наконец, отвез в больницу, куда потом ходил его навещать. Все это рассказывала Мама мистеру Тою потом при нас, я помню, как она сказала: «Добрый самарянин, все сделал как следует, он иначе не может». Я уже говорила, что иногда мы гуляли с нашей дорогой Мими. Как-то мы были с ней в одном из садов и играли в прятки между деревьев и кустов. Когда настало время вернуться домой к завтраку, Тоцы не оказалось. Мы стали искать ее, но тщетно: ее нигде не было. Мими решила поскорее вернуться в гостиницу, рассказать все и дать знать в полицию. Папа и Мама были, конечно, в ужасе, поскольку маленькая Соня пропала, ей было тогда около пяти лет. Всех подняли на ноги, и Папа собирался сам бежать в полицию, как вдруг ее привел швейцар, целой и невредимой. Оказалось, что когда она заблудилась, то потеряла направление и все удалялась от нас, думая, что возвращается. Наконец добрела до стоянки извозчиков, влезла на одного и сказала: «Hotel de Saxe». Тот ее и привез и сдал швейцару. Все были в восторге от ее ума и сметливости.
Мы любили уроки гимнастики, так как фроляйн Thekla была веселая и добрая. Она была очень некрасивой и напоминала лицом поросенка, очень толстого, с тремя подбородками, и со скользкими, немного липкими руками. Она нам всегда рассказывала про других своих учениц и, между прочим, двух дочерей саксонского короля, которых она очень любила. Они были приблизительно наших лет, и она им тоже рассказывала про нас, так как иногда передавала нам поклоны и раз принесла нам их портреты. У одной из них были чудесные белокурые волосы, обе были миленькие, судя по фотографиям. Когда я жила у доброй Валери Альберти в Шопроне,[32]32
Город в Венгрии.
[Закрыть] она показала красивую фотографию матери последнего австрийского Императора Карла. Она оказалась одной из тех двух девочек, которых мы тогда заочно полюбили. При нас умер их дед, старый король Саксонский, и мы откуда-то смотрели ночью на похоронную процессию с факелами. Вскоре при нас рассказывали, как одна несчастная женщина бросилась на площадь с крыши Собора. Долго она мне мерещилась, хотя, конечно, мы ее не видели, но когда я ночью просыпалась, то совершенно ясно и отчетливо видела в ногах у моей кровати страшную женщину с ребенком на руках. Она глядела на меня в упор страшными глазами и медленно подвигалась к моему изголовью. Обливаясь холодным потом, я в ужасе пряталась под одеяло, дрожа всем телом и дожидаясь минуты, когда она схватит меня. Но когда после долгого ожидания я высовывалась из-под одеяла, никого возле меня уже не было. Это повторилось два-три раза, и я рассказала об этом Leek, но она меня уверила, что это все мое воображение и что никто не являлся. После она оставляла в комнате зажженную свечку, женщина же больше не появилась.
Мама с Папа часто бывали в театре по вечерам. В те времена в большом ходу были sedan-chairs для поездок вечером в театры или на балы. И перед гостиницей после обеда выстраивались эти крытые носилки, в которых дамы переносились в сидячем положении двумя носильщиками, а мужья шли рядом. Эти носилки напоминали те, что изображались на старинных французских гравюрах, только были совсем простыми, без украшений и не расписанные. Мама всегда пользовалась ими вечером, когда они куда-нибудь отправлялись. Мама часто виделась с Матильдой Везендон, которая была дружна, кажется, с Вагнером. Она мне казалась очень высокой, сухопарой и некрасивой. Другая подруга Мама была княгиня Шенбург, которую Мама звала Памела. Боюсь, что я уже писала об этой семье, с которой мы были очень дружны, а ее дети были одних лет с нами. Они жили в своем огромном старинном дворце, который снаружи казался очень мрачным. Мы часто ходили с Leek к детям в Шенбург. Старшая Элизабет была одних лет с моей сестрой Катей, мой однолетка был Фридль. Был еще старший брат и девочка. Фридля я обожала и всегда с ним играла. Он был красивым ребенком с белокурыми вьющимися волосами, голубыми глазами и толстыми розовыми щеками и к тому же большой шалун, так что внушал своими проделками большое уважение. Раз княгиня Шенбург устроила детский всемирный бал для всех их знакомых. Мама нам сшила шелковые сарафаны василькового цвета, отделанные серебряным галуном с филигранными пуговицами, белые кисейные рубашки и серебряные кокошники. Сашу одели в русскую рубашку. Катя, Муфка и я были в восторге. Соня и Петя были слишком малы. Когда мы приехали, нас повели раздеваться в детскую, где маленьких гостей встречали обе гувернантки детей Шенбург, которые тоже были в костюмах. Мы думали, что их костюмы каких-нибудь местных крестьян. Одна из них все повторяла: «Тишка Манишка». Мы думали, что она говорит на каком-нибудь местном patois (говор), но оказалось, что она вообразила, будто это по-русски. Элизабет была очень мила, одетая маркизой в подражание старинному семейному портрету одной из прабабушек. Фридль был очаровательным в костюме пажа тех же времен, в пунцовом атласе и шляпе со страусовыми перьями. Все восхищались нашими сарафанами, а мне казалось, что никто не может сравниться с Фридлем по красоте и нарядности. В этот вечер мы с ним забрались в какой-то угол за дверью и обещали друг другу любовь по гроб жизни. Фридль приезжал в Москву на коронацию Александра III. Я его не узнала. Мне было тогда 19 лет. Он меня тоже не узнал, мне не представился, и лишь только его издали показали и назвали. Он был большого роста, широкоплечий и для меня потерял всякую прелесть. Со временем, кажется под старость, он женился на русской разведенной или вдове, у которой была дочь от первого брака. Он недавно умер от рака горла. Его оперировали, и он прожил после того несколько лет. Его жену Марусю хорошо знала Мозер, но я ее никогда не видела. Аглаида знала их дочь, которая живет в Вене.
В Дрездене я опять болела астмой и долго лежала. Мама меня взяла в свою комнату и ходила за мной. Меня глубоко трогала ее забота, ее бессонные ночи, когда мне трудно было дышать, и всякие подарки, которые она мне приносила, когда выходила подышать воздухом. Мне хотелось ей как-нибудь выразить свою любовь и благодарность, но я не знала как. Раз, когда я уже выздоравливала, Мама и Leek сидели у меня в комнате, думали, что я сплю. Мама говорила Leek, как ее огорчает моя неблагодарность, которая выразилась в том, что я до сих пор не благодарила за весь уход во время болезни. Я горько плакала, слыша ее слова, и так хотелось вскочить, кинуться ей на шею и сказать: я не умею выразить своей благодарности, но вся моя душа переполнена ею. Но я ничего не сказала, и никто не узнал, что я слышала тот разговор, после которого мой язык оказался окончательно запечатанным. Это мне было так тяжко, а мне так хотелось выразить Мама и свою благодарность, и свою беспредельную к ней любовь. Я долго думала об этом и была глубоко несчастна. Наконец я решилась написать ей стихи. Мы тогда читали какие-то книги в коричневом переплете. Я зачитывалась ими, и, между прочим, мне особенно нравился рассказ о девочке, не понятой своей матерью, которую она обожала, и писала ей стихи, но никогда не показывала. Мне не нравились ее стихи, и я решила переделать их по-своему, чтобы они выражали мои чувства. Долго я не решилась Мама преподнести свое произведение, так как я была замкнутым ребенком, мне кажется, но, наконец набравшись храбрости, я раз принесла ей свои стишки, вложив их в розовый конверт. Мама была, видимо, очень тронута ими и нежно обняла меня. Я была на седьмом небе от счастья, и мне казалось, что теперь-то она должна понять всю глубину и нежность моих к ней чувств, но мои восторги были недолговечны. По-видимому, Мама показала Папа и всем мои стихи, а последняя читавшая с нами незадолго до этого была Leek. Она вспомнила стихи, проверила и пришла к заключению, что я обманула Мама, выдав их за свои. Меня призвали и спросили, откуда я их списала. Я ответила, что не списала, а по-своему изменила то, что нашла в книгах, а главное, я не сказала, что я хотела как-то выразить свои чувства и что я выбрала такой способ. Мне не хватило храбрости объяснить все это, так что я молча выслушала обвинения в плагиате и обмане. Мне казалось, что если бы мы с Мама были наедине, то я смогла бы ей все объяснить и она все поняла бы, но Leek я тогда не очень-то любила, сама не зная почему, и не хотела при ней раскрывать свою душу. Мне казалось, что я такая же непонятая девочка, как и та, что в книге.
Во время Великого поста у нас строго соблюдалась постная пища. А <так как> повар в гостинице не умел готовить такие блюда, то в постные дни готовила Прасковна, и очень вкусно. Я решила, что в течение всего поста не буду есть сладкого за обедом, но никому не говорила о своем решении. Однако вскоре Leek, около которой я сидела, заметила, что я каждый день отказываюсь от этих блюд, и спросила меня наедине, почему я это делаю. Я ей объяснила. На следующий день я в чем-то провинилась, и Мама мне сказала, что я сладкого не получу. Leek ей объяснила, что я и так не ем, что, видимо, удивило Мама. Я осталась ненаказанной, но вскоре пришлось подвергнуться большому искушению. Мама заказала к обеду два сладких, из которых одно было custard[33]33
Заварной крем (англ.).
[Закрыть] в чашечках, которое все обожали и которое редко появлялось. Когда же появился custard, у меня так слюнки и потекли, и я старалась не смотреть на поднос с привлекательными чашечками. Но не тут-то было: все стали у меня спрашивать, откажусь ли я и от него. Кажется, Leek, знавшая, как я его люблю, сказала мне, что это придаточное сладкое и оно не в счет, так что я могу его съесть. Но, подавив все свои вожделения, я сказала, что именно поэтому я не смогу это сделать, раз дала такой зарок. Все это я объясняла почти шепотом, чтобы никто не слышал, и закручивала свои пальцы от смущения. Мне было неприятно, что об этом говорили.
Мы всегда ходили в русскую церковь с родителями. Туда же приходила школа девочек, которые выстраивались справа. Их сопровождала кислая немка, которая садилась впереди около них и слушала всю обедню не вставая. Мама раз подошла к ней и объяснила, что не полагается всю обедню сидеть, тем более во время пения «Тебе поем». Она злобно посмотрела на Мама и ответила, что это ее не касается. Leek брала уроки пения у некоего Herr Schaffe. За уроки платили родители. У нее был сдобный голос, и он ей приносил для пения слащавые немецкие песенки и смотрел на нее маслеными глазами, так как она была очень миловидна. Верно, он был в нее влюблен, и они вели бесконечные разговоры помимо пения, и она краснела и смущалась. Но мы ничего не понимали из их разговоров.
Я упомянула о церкви. В дрезденской церкви меня впервые поразили слова Евангелия, которые я, вероятно, раньше не замечала, да и едва ли их слушала. Я любила церковное пение, когда оно было стройным. Были у меня любимые напевы: особенно «Седьмая Херувимская» Бортнянского, хотя я не знала, что она седьмая и что он ее написал, но к чтению Евангелия я не прислушивалась, верно, думала о другом, но в этот раз меня потрясли повторяющиеся, как мне казалось, слова: «Аз есмь Пастырь добрый», меня это вдруг глубоко тронуло. Мне показалось, что слышу эти слова впервые, и лишь стало жалко, когда кончилось чтение Евангелий. Нам всегда дарили малиновое русское Евангелие и молитвенник к первому говению, так что когда мы вернулись домой и я могла улучить минуту, то стала рыться в своем Евангелии, пока не нашла эти запавшие в сердце слова. Но все эти душевные переживания я таила в себе и никому о них не говорила. Даже дорогой Мими, которая, казалось, лучше всех меня понимала. При всей своей любви к Мама, я тогда еще не чувствовала с ней той близости, которая нас позднее соединила. В то время она была для меня чем-то недосягаемым, а Мими, делившая с нами все наши радости и горести, была самым близким человеком и, хотя она из ревности ни одну из наших гувернанток не любила, отлично сознавала свою роль в нашей жизни.
Дрезденская церковь в те времена помещалась в каком-то обыкновенном здании. Позже построили настоящую церковь, ту, которая и сейчас там и где ты венчалась с Ванькой. Хотя русские много ездили по заграницам, однако не было тогда того наплыва постоянных беженцев, как теперь, когда кажется, что нет такого угла земного шара, где бы не таилась или не возвышалась Православная Церковь. Говорят, в одном Париже их более двадцати! В Москве же осталось меньше двадцати, а было сорок сороков, не считая домовых церквей. Мама говорила, что церковь должна помещаться в верхнем этаже, когда нет отдельного для того здания, так как над церковью не должно быть помещения, но теперь все это изменилось и церкви ютятся, именно ютятся, где попало и даже, наверное, в Совдепии ушли в подвалы и прячутся, как некогда прятались в катакомбах. И какие трогательные в своем убожестве беженские церкви! В них особенно чувствуется единение всех тех, кто из последних грошей ценой лишений приносит свою лепту для поддержания и скромного украшения дорогого храма.
Когда берусь за перо, в памяти возникают вперемешку образы людей и происшествий, за которыми трудно угнаться, и не знаешь, с чего начать, а пропустить не хочется, так как это части дорогого прошлого, которое все вы не помните. Вот воскрес передо мной образ дяди Александра Николаевича Карамзина: почему он такой огромный, а мы такие маленькие, хотя он умер, когда мы, старшие, уже выросли. Слышу его ласковый голос, когда мы все вместе неслись к нему навстречу, а он еще поднимался по лестнице в залу московского дома. Он в синей шелковой русской рубахе навыпуск, подпоясанной кушаком, завязанным сбоку; сверху рубашки кафтан темно-синего сукна, шаровары и высокие блестящие сапоги. Его красивое лицо обрамляла круглая борода с сильной проседью. Сам он плотный и с тяжелой поступью. Мама ведет его в Красную гостиную, усаживает в кресло, сама садится на свое обычное место на низком диване под большой картиной Vernet (Claude Joseph Vernet, 1714–1789), изображающей морской вид в желтоватых тонах. Я любила сидеть, никем не замеченной, в Красной гостиной и слушать разговоры старших. Они всегда говорили об интересных вещах, хотя часто для меня и непонятных. Сколько замечательных людей перебывало на этом заветном кресле: вот князь Черкасский со своей черной палкой, опираясь на которую он грузно передвигался. Они говорили о Балканах, о Константинополе; Мама его расспрашивала, а я с упоением слушала. А вот Самарин Юрий Федорович со своей окладистой рыжей бородой. Он и обедать приходил к нам часто. Когда мы выросли, Мама нам рассказала, что в него была влюблена ее лучшая подруга Екатерина Федоровна Тютчева. Они называли его между собой Barbe russe.[34]34
Русская борода (фр.).
[Закрыть] Он умер в Берлине довольно неожиданно, и помнится, что ходили слухи о его отравлении. Все Самарины были рыжие, и его сестра, графиня Сологуб, которую Мама так любила, часто у нас бывала. Меня всегда завораживали ее рыжие курчавые волосы. А вот Катков Михаил Никифорович. Его породистое, тонкое, какое-то французское лицо, с острой бородкой, с голубыми усталыми глазами, с очень характерным, куда-то устремленным взором. Он так спокоен. С ним Мама говорит обо всем: о воспитании детей, о политике, о Папа и его работе, да и о чем только они не говорят? И все так интересно! А вот Иван Сергеевич Аксаков. Он женат на сестре Екатерины Федоровны Тютчевой, Анне Федоровне, которая так же красива: у нее почему-то калмыцкое лицо со сломанным носом, который, может, вовсе и не сломан, а только приплюснут. Она с мужем не приходит. Он приходит всегда один. Мама обсуждает с ним финансовые вопросы. Он, кажется, директор банка, но нас он интересует, потому что издает детский журнал «Дачный отдых», который мы очень любили. Одновременно он издает газету «Русь» и, как Самарин, занят Балканским вопросом. Они славянофилы, но я не понимала тогда, что это значит. Граф Алексей Толстой тоже сиживал на этом кресле, но его я смутно помню. Когда приезжал Преосвященный Леонид, то сидел на диване, а Мама в кресле. Их разговоры самые для меня интересные. Когда приезжала Екатерина Федоровна Тютчева, то Мама вела ее в Голубую гостиную, а туда нам нельзя: значит, очень хотят остаться одни. То же при приезде Наталии Афанасьевны Шереметевой, которую мы между собой зовем Фанафиной. Это самые близкие подруги Мама, но они все «на вы» и только зовут друг друга по имени. Нет современного амикошонства, когда все почему-то «на ты», даже со случайными знакомыми и с мужчинами! Конечно, не все в этих разговорах мне было понятно, но никогда ничего пошлого, вульгарного или недоброго я не слышала. Наши родители и их друзья оправдывали поговорку: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Они были бесконечно добры, глубоко верующие, сострадательны, в них не было эгоизма, они были великодушны и благородны во всем, что делали, ничего мелочного в них не было, а все возвышенное было им близко и дорого, а их любовь к России была не квасным патриотизмом, а частью их существа, и ничего банального в ней не было, а только возвышенное. Они были правдивы и прямолинейны, а проявления лжи были им противны. У них не было фальшивых иллюзий. Мама часто вспоминала слова Митрополита Филарета:[35]35
Митрополит Филарет – один из немногих в окружении императора Александра I, кто был осведомлен о тайне престолонаследия. Кроме него только императрица Мария Федоровна и князь Александр Николаевич Голицын знали, что манифестом государя императора право наследовать корону передавалось его младшему брату, великому князю Николаю Павловичу. Запечатанный пакет с манифестом государь вручил князю Голицыну, который, в свою очередь, передал этот документ владыке для тайного хранения в Успенском соборе Московского Кремля.
[Закрыть] «Я вижу страшную черную тучу, надвигающуюся на Россию», и Папа нам говорил, что не хотел бы быть похороненным в Дугине, так как, когда разразится революция, его прах выбросят из могилы. Все его слова полностью сбылись.









































