Текст книги "Когда с вами Бог. Воспоминания"
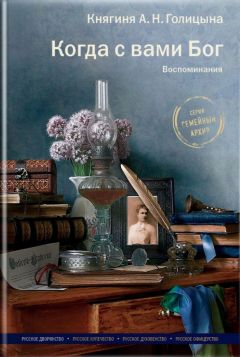
Автор книги: Александра Голицына
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Совсем не могу в хронологическом порядке записывать происшествия, так как помню их только как отдельные образы и не знаю ни времени, ни года. Вспоминается мне, что я как-то узнала, что милая Королева Греческая (которую особенно любила моя мать и у которой мы когда-то были в Афинах) находится в Павловском дворце одна, никто у нее не бывает из страха и что только Великая Княгиня Елена Петровна с детьми там же, но в другой части дворца. Кажется, Великая Княгиня Елена Петровна несколько раз ходила пешком в Царское, стараясь добиться свидания с арестованной Царской Семьей и проявляя при этом полное бесстрашие, но она так ничего и не добилась, а только посылала им, что могла. Королева работала в одном из Павловских лазаретов, пока он существовал. Я отправилась к ней и долго блуждала вокруг и внутри дворца, так как никогда там не была и не знала, где именно жила Королева. Наконец наткнулась на какого-то, еще очень подтянутого, придворного лакея и спросила у него, могу ли я пройти к Ее Величеству Королеве и примет ли она меня. Он очень учтиво просил обождать, сказав, что доложит и что, верно, Ее Величество будет рада и примет, так как давно никто не заходит. Упоминаю обо всем этом, так как в то время хамство и наглое отношение ко всему, что когда-то уважалось, было в полном расцвете. Вскоре он провел меня по лестнице в небольшую комнату, увешанную прелестными старыми цветными гравюрами. В ней оказалась дама (кажется, фрейлина, а может быть, камер-юнгфера), которая просила меня пройти к Королеве в соседнее помещение. Я вошла в крошечную комнату, вроде маленькой гостиной, где нашла дорогую Королеву всю в белом, в форме сестры милосердия. Я ее давно не видала (кажется, в последний раз на свадьбе Оли Щербатовой) и не была уверена, помнит ли она меня. Когда же я вошла, она встала с дивана, и мы кинулись друг другу в объятия. Долго мы сидели и не могли наговориться. Она лишь сказала: «Сегодня день моей свадьбы, я так рада, что вы пришли и я не одна». Между прочим, она мне сказала, что старается составить словарь всех новых уродливых слов, которые стали употреблять во время революции. Говорила она мне и о том, как Великая Княгиня Елена Петровна ходит в Царское, как она бесстрашна, как милы ее дети, как все они беспокоятся об участи Государя и его Семьи, что она сама не знает, выпустят ли ее за границу, и что она бросила посещения лазаретов, когда облик солдат изменился и они из милых, по-детски ласковых и приветливых стали угрюмо-дерзкими и нахальными. «Я их не узнаю больше и перестала ходить». Я вспомнила, как в Афинах она, бывало, ездила в Пирей, когда туда заходили наши военные суда, как баловала матросов, как выстроила для них больницу и постоянно навещала их, когда они заболевали, как матерински заботилась о них. Случайно в разговоре с ней узнала, что часто у нее не хватает самых простых пищевых припасов, но она не жаловалась, как некоторые, а просто упомянула об этом случайно. Уходя, я просила разрешения опять навестить ее, и вскоре случай представился, так как к нам заехал неожиданно из Новгорода Витя Комаров и заботливо привез большой мешок крупы и еще кое-какие припасы, так как знал, что все это было уже недосягаемо в Петербурге и окрестностях. Он сказал, что в следующий раз еще привезет, но вскоре после этого его арестовали, и он умер в тюрьме от тифа. Нам говорили, что он ужасно страдал, так как сгорал в лихорадке и все умолял, чтобы ему дали хотя бы глоток воды, но никто не заботился об этих несчастных, которыми были набиты тюремные больницы. Им подвешивали бутылку воды, которая наполнялась раз в сутки, а он был так слаб, что даже не мог дотянуться до нее. Так трогательно, что его последняя поездка была к нам, в Царское, и он, конечно из любви к нашему Фрумошке, вспомнил о нас, хотя и самому нелегко жилось. Вот из того, что он нам привез, я смогла кое-что отнести Королеве, которая так обрадовалась этим скромным приношениям. Она все еще не знала, выпустят ли ее, но потом вдруг последовало распоряжение выслать ее за границу, и она уехала. Через несколько лет я встретила ее в Лондоне, где мы проводили Рождество, когда нас отпустили из Совдепии, и мы с Ловсиком пошли ее поздравлять в доме Нэнси Лидз (которая была замужем за королевским сыном, Принцем Христофором Греческим). Мы с ней вспоминали прошлое, а она расспрашивала про нашу жизнь в Совдепии и о том, как мы выбрались. После этого я ее больше не видала. Она переехала в Италию и там скончалась. Ее чарующая доброта, прелесть ее женственности и красоты, следы которой оставались до смерти, никогда не забудутся теми, кто имел счастье ее знать, а ее вера в Бога и трогательное смирение служили живой проповедью для всех.
Когда мы жили в Москве после своего заключения, то там часто встречали Гадона, бывшего преображенца, который когда-то был одним из усердных танцоров и поклонников Тоцы, и он мне рассказал, как Королева была любима в Греции. Однажды случилось следующее: была шайка разбойников, которая наводила ужас на всех, но наконец удалось окружить ее, всех захватить и посадить в тюрьму. Это произошло в первые годы после свадьбы Королевы (она вышла замуж очень молодой), и она была во всем блеске своей ослепительной красоты. Разбойников хотя и удалось запереть, но не удалось разоружить, так как они наотрез отказались сдать оружие. Приближался праздник, кажется, Рождества. Королева объявила, что хочет пойти навестить этих отчаянных людей и поговорить с ними, причем никому не позволила сопровождать ее. Она долго оставалась с ними наедине, и когда вышла, многие из разбойников со слезами проводили ее, так они были потрясены ее простотой и доверительностью к ним. В день Рождества ей сказали, что ее ждет сюрприз, и просили спуститься во двор. Там она увидела груду всевозможного оружия: подарок ей от разбойников. Она была примерной матерью и женой. Вспоминается мне также, как бабушка Мещерская мне рассказывала о похоронах любимой дочери Королевы, Великой Княгини Александры Георгиевны, которая умерла в родах от эклампсии в Ильинском[138]138
В середине XIV века усадьба Ильинское принадлежала князю Леониду Михайловичу Голицыну, брату декабриста. После его смерти в 1860 году княгиня Анна Матвеевна, вдова его, продала усадьбу в Дворцовое ведомство. Последним владельцем имения был великий князь Сергей Александрович.
[Закрыть] (подмосковном имении Великого Князя Сергея Александровича) при рождении Великого Князя Дмитрия Павловича.
Бабушка поехала в Москву, чтобы быть при переносе тела, которое везли в Петербург каретой для похорон, а похоронное шествие шло пешком через всю Москву со Смоленского вокзала на Николаевский. Королева шла за гробом с маленьким пучком васильков в руках: это были любимые цветы ее дочери. Бабушка часто вспоминала, как видела ее в тяжелом горе.
Но я не туда забрела. Надо рассказывать про скорбные дни революции. Многие тогда уезжали на Кавказ, там будто бы было легче прокормиться. Уехали Мещерские, вскоре уехала и ты, моя Аглаидушка, по совету милого доктора Варавина, который не позволил тебе служить в лазарете. Толстые тоже собирались туда, а я решила остаться в Царском, но затем мне пришлось все же съездить к тебе, но одной, когда дело шло о твоем разводе с Андреем Шидловским. Помню, когда я села в поезд в Петербурге, с трудом пробившись через кричащую и буйную толпу солдат и всяких хулиганов, и он стал медленно отходить, солдаты, стоявшие на платформе около вагона, в который я села, стали изрыгать самую площадную ругань и, потрясая кулаками в окна, кричали, что скоро они будут ездить в первом классе, а мы будем в скотских вагонах. И действительно, когда я возвращалась приблизительно через месяц, все отделения (купе) первого класса были заняты грязными разнузданными солдатами, которые лежали, растянувшись с винтовками на бархатных сиденьях, задравши ноги, курили и плевались не переставая. Из этого путешествия я мало что помню, кроме двух-трех картин. На одной станции ночью ввалилась целая куча каких-то буйных грубиянов. Я лежала вытянувшись, так как никого не было в этом отделении. Когда они ввалились, то один из них грубо закричал на меня, что нечего тут разлеживаться, что время господ прошло и так далее. Я села в угол, ближе к двери, и на его ругань не отвечала. Мне было не до него, но я заметила, что они привели с собой одного человека, который казался очень больным, велели проводнику поднять верхнее место и уложили его туда. Он часто стонал, но никто не обращал на него внимания. Утром поезд подошел к какой-то большой станции с длинной остановкой, и вся эта шайка ринулась на платформу в поисках воды. Я осталась одна с больным и, взглянув на него, поняла, что он очень страдает и серьезно болен. Я спросила, не могу ли чем-то помочь, принести чего или удобнее устроить. Слабым голосом он попросил глоток воды, которую я подала и впредь просила не стесняться обращаться ко мне в случае необходимости, пока его спутников нет. Он поблагодарил и задремал. После отхода поезда снова ввалилась вся ватага, очень воинственно настроенная, и стала кричать, что мне тут не место, что я могу убираться и очистить лишнее место, но я не могла бы перетащить свой багаж, иначе, конечно бы, ушла без разговоров. Тут я увидела, что больной с трудом приподнялся на локте и сказал самому ярому и грубому: «Оставь ее! Она мне помогла и никому не мешает». После этого они попритихли и вскоре вышли на одной станции и унесли больного, который казался совсем умирающим.
Через некоторое время в отделение влетела толпа артистов (как я поняла из их разговоров), мужчин и женщин. Все были молодые, очень веселые и шумные. Они все время смеялись до упаду, шутили друг с другом и очень веселились. Когда на первой большой остановке они вышли погулять, одна из них осталась в отделении. Было очень жарко, и она предложила мне воды, за что я была ей очень благодарна. Тогда она мне сказала: «Боюсь, что вам очень неприятно ехать с такой веселой и шумной компанией. Я вижу, что у вас какое-то тяжелое горе, и мне жаль, что наше веселье, может быть, оскорбляет вас». Я ей ответила, что она не должна обращать на меня внимания, и что я только рада, что они могут веселиться, и что прошу их смеяться, сколько душе угодно. Мы расстались друзьями в Батайске, где снесло часть железнодорожного моста и надо было идти по деревянной жердочке, которая была переброшена через недостающий пролет. У входа на эту дощечку и там, где она кончалась, стояли солдаты, чтобы пропускать только по одному человеку. По бокам было приделано нечто вроде перил, но когда ты добирался до середины дощечки, то они оказывались где-то высоко над тобой, до них трудно было достать, а под тобой зияла пропасть и река. Все спешили перебраться, так что солдаты отгоняли толпу у входа. В толпе было много баб с какими-то огромными коромыслами, на которых висели большие круглые наполненные чем-то корзины, которые всем мешали и больно стукали по ногам. К моему удивлению, никаких несчастных случаев при мне не произошло. Перебравшись через мост, мы долго сидели перед станцией на своих чемоданах, дожидаясь поезда, который пришел только к вечеру.
В Кисловодске мы сперва жили с тобой в гостинице, а затем перебрались к милым Вавам[139]139
Вавы – так называли семейство князя Владимира Эммануиловича Голицына.
[Закрыть] на дачу. Тогда на Кавказе было еще довольно много продовольствия, но цены начали расти, и, например, сахару было уже мало, так что больше употребляли меда, на нем же варили компоты. Великая Княгиня Мария Павловна жила тогда в Кисловодске под домашним арестом, так что даже не могла выйти в свой садик. Она гуляла, прохаживаясь по большому балкону во втором этаже. Когда она выходила на балкон, то часовые, стоявшие в саду, в виде «милой» шутки прицеливались в нее из винтовок, но она неизменно, со свойственной ей храбростью, делала вид, что ничего не замечает, и спокойно продолжала ходить взад-вперед. Мы все навещали ее и приносили кто что мог из еды. Она всегда была очень тронута, сердечно благодарила и радовалась всякому пустяку. Мы часто бывали у Мещерских, которые жили недалеко от нас и искали дачу для тети Муми с семьей. В Кисловодске Катя (жена Вавы)[140]140
Екатерина Георгиевна, рожденная графиня фон Карлова, жена князя Владимира Эммануиловича, дочь герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого и его морганатической супруги Наталии Федоровны Вонляр-Ларской. В 1940 году была убита в Лондоне во время дневной немецкой бомбардировки города. Вава – князь Владимир Эммануилович. В 1914 году, за неделю до начала Первой мировой войны, был назначен адъютантом Верховного главнокомандующего Русской армией великого князя Николая Николаевича.
[Закрыть] перешла в православие. Она была раньше очень убежденной протестанткой, но ходила в православную церковь и молилась перед образом Святого Серафима Саровского, которого очень чтила. Обычно она поднималась на хоры (кажется, она тогда ожидала Георгия) и все не могла решить: переходить ей в православие или нет. Раз она спустилась вниз после обедни, чтобы приложиться к кресту, и священник ее спросил: «Когда же вы перейдете в православие?» и тут же, кажется, назначил день, в который она и перешла. Она мне говорила, что убеждена в том, что Святой Серафим внушил ей это желание, так как оно как-то сразу ее охватило.
В Кисловодске же я познакомилась с дорогим отцом Наумом, который потом сделался духовником и законоучителем Мещерских и, кажется, также Толстых и Тюриных. Вот как это было: мы с тобой переживали тогда очень тяжелые времена. В Духов день я предложила тебе пойти в церковь. Ты согласилась, но затем вскоре сказала, что болит голова, и ушла. Я осталась одна в церкви, которая была почти пуста почему-то, несмотря на Великий Праздник. В этот день читается всегда Евангелие о пастыре, который пошел искать свою заблудшую овечку, оставив не заблудших, а кончается это Евангелие словами о том, что если кто согласится здесь, на земле, просить Отца Небесного о чем-нибудь, то будет исполнена их молитва, но надо иметь кого-то, с кем просить, а у меня сейчас никого нет, с кем бы я смогла объединиться. И пока я так думала, о. Наум вышел на амвон и стал говорить слово на это Евангелие. У него был перевязан палец, и это как-то врезалось мне в память, как часто бывает, что в знаменательную для всех минуту почему-то обращаешь внимание на мелочь. И вот он говорил, что пастырь оставил все свое стадо и пошел искать овечку, а когда нашел, то не пожалел трудов, не рассердился на нее, не стал ее толкать, а взял на руки с любовью и понес домой на плечах. Говорил он недолго, но с таким воодушевлением, что мне захотелось вдруг встретиться с ним и стало как-то легче на душе. Когда обедня кончилась, я спросила у сторожа адрес батюшки, но он не знал, а потом вдруг сказал: «А вот батюшка и сам идет». Он выходил из церкви, разговаривая с сестрой милосердия, так что мне не хотелось им мешать (потом я узнала, что это была его дочь), и я пошла за ними, поотстав и думая узнать, где он живет. Шли они долго и наконец расстались на углу одной улицы, где он повернул в другое направление. Мне хотелось его догнать, но я боялась быть назойливой, наконец набралась храбрости и, окликнув, догнала. Сначала он не обратил внимания, но я подошла ближе и снова сказала: «Батюшка!» Он остановился, посмотрел на меня и, верно, подумал, что я хочу просить денег, но потом, вглядевшись попристальней и заметив мое волнение, спросил, что мне угодно. Я ответила, что мне надо с ним поговорить наедине. Он ввел меня в свой маленький садик, к которому мы подошли, и сказал, что сейчас выпьет чаю и освободится. Меня же просил подождать в саду. Садик был залит солнцем и пестрел цветами. Воздух был напоен их ароматом, птицы так и заливались кругом, а я сидела на скамеечке и молилась, чтобы Господь внушил батюшке, что сказать мне для помощи в моем горе. Вскоре он вышел и позвал меня в свою келейку, где, кроме кровати, двух стульев и столика, ничего не было, а только в углу стоял другой столик, на котором было нечто вроде складня из картона с наклеенными двумя иконами. Он не знал, кто я, поэтому мне было легко с ним говорить. Я рассказала ему о всех моих мучениях и беспокойстве по твоему поводу, не называя тебя. Он слушал молча, изредка задавая вопросы. Когда же мне становилось совсем трудно и слезы душили меня, он смолкал, опустив седую голову, чтобы дать мне успокоиться. Впервые было, чтобы я могла все рассказать о наболевшем на душе, и я почувствовала, что не уйду от него без утешения. Когда я кончила, он сказал: «Да! Надо молиться», а я ответила: «Но мне сейчас не с кем соглашаться молиться о ней, я вдова», на что он ответил, что никто не знал, чем была больна дочь хананеянки, которая все шла за Спасителем и молила его исцелить ее дочь. Может быть, ее болезнь была скорее духовная, чем телесная, и мы знаем только, что была она очень тяжелая. Однако своей настойчивостью, своей назойливостью она добилась исцеления дочери. Затем он встал, подошел к столику в углу и, указав на иконы, сказал: «Перед этой иконой я молился целую неделю с приговоренными к смертной казни, стараясь их утешить, а теперь мы с вами сговоримся молиться о вашей дочери, и наша молитва будет исполнена». Я вспомнила свои греховные мысли во время чтения Евангелия в этот день! Затем он сказал: «Сейчас здесь вместе помолимся». Мы оба встали на колени, и он начал читать из толстого молитвенника какие-то чудные молитвы, которых я ни раньше, ни потом никогда не слыхала, но мне казалось, что написаны они именно для матери в утешение. На прощание он меня благословил и сказал, что будет рад тебя видеть, но чтобы я не мешала Богу вести тебя Его путем. Когда я вышла от него, было уже 3 часа, и я неслась почти бегом, боясь, что ты будешь беспокоиться обо мне, но когда вошла к тебе, ты лежала на кушетке и читала, сказав только, что завтрак мне оставлен. Со временем ты узнала о. Наума, и я верю, что его святыми молитвами ты обрела успокоение и достигла своего положения в семейной жизни с Ванькой и Шимми,[141]141
Иван Семенович Унковский (1896–1975), супруг княжны Аглаиды Павловны, сын Семена Ивановича Унковского и Зои Львовны, рожденной Ауер. Шимми – сын А. П. и И. С. Унковских
[Закрыть] а если подчас и очень трудно в материальном отношении, то все же главное у вас есть, мои дорогие, то есть взаимная любовь, а все остальное, необходимое Бог пошлет, в этом не сомневайтесь. Бог никогда не оставляет того, кто ищет Его и Его помощи. Дорогой дядя Петя был тогда особенно трогателен со мною. Мы с ним совершали длинные прогулки, много говорили, и он всегда как-то меня подбадривал и смешил своими шутками. Но время шло, и я не могла бросить своих овечек, которых оставила в Царском. Я просила Тюрю приехать в Кисловодск, чтобы сменить меня и не оставлять тебя одну, хотя и Мещерские, и Вавы, и подъехавшая с детьми тетя Муфка окружили тебя заботой.
Вскоре после приезда Тюри мне пришлось расстаться с вами, и это было очень тяжело. Мне тогда в голову не приходило, что пройдет много лет до нового с вами свидания. Обратную дорогу совсем не помню, только знаю, что во всех отделениях первого класса в спальных вагонах валялись грязные развязные солдаты с винтовками, а все стекла в вагонах были побиты, клозеты не действовали, и чем дальше на север, тем реже попадались на станциях белый хлеб и молоко, которое продавали бабы.
Когда я добралась до Петербурга, то на вокзале не было ни носильщиков, ни извозчиков. Я кое-как вытащила чемоданы и стала думать, как их донести до Царскосельского вокзала через весь город, а дело было к вечеру. Наконец ко мне подошли два солдата, взяли мои чемоданы и спросили, куда их нести. Я сказала куда, они назвали какую-то огромную сумму, но спорить не приходилось, и мы тронулись в путь. Я почти бежала за ними, и мне казалось, что они хотят меня завести куда-нибудь и ограбить, так как мы шли по разным закоулкам и пустырям. Я спросила, куда исчезли извозчики. Они ответили, что теперь праздник. «Какой же такой праздник?» – удивилась я. «А что кровавого Николая больше нет», – был их ответ. «Кого?!» – переспросила я. «Кровавого Николая!» «Я не понимаю, кто это!» – возразила я. «Да бывший царь», – ответили они хладнокровно и вроде заученного урока. «Как! Вы так называете Государя Императора, который вам никакого зла не сделал, любил своих солдат, как отец родной, а Россию больше всего на свете? И вам не стыдно!» Я думала, что они меня тут же уложат на месте, так как шли мы по пустынным улицам, где не было ни души, но они вдруг сконфузились, и я поняла, что они повторяют как попугаи. Народ и солдат подзуживал кто-то, кому это было на руку.
В первые дни революции нам рассказывали, что, пока еще Государь не приехал в Царское, пришли сказать Императрице Александре Федоровне, что из Колпина идет толпа рабочих громить дворец, в котором она ходила за своими больными детьми. Когда она это услышала, то вышла к немногим солдатам, оставшимся верными присяге, и просила их не стрелять в толпу, если та подойдет к дворцу, так как она не желает кровопролития в ее защиту. Слава Богу, оказалось, что никакой толпы не было и все было выдумано, чтобы напугать ее.
На Пасху и Страстную неделю перевезли во дворец старого отца Афанасия, который был при Феодоровском соборе, и он служил для Царской Семьи, исповедал их, будучи все время, как и они, под арестом, но ему не было дозволено общаться с ними между службами. После Пасхи его отправили домой, и он, кажется, больше их не видел, хотя, возможно, я ошибаюсь. В это время ходили различные толки: одни – что Царскую Семью отправят на жительство в Крым, другие – что их отпустят за границу, но прибавляли, что Государь отказался покинуть пределы России.
Когда я уезжала с Кавказа, то, конечно, не подозревала, что пройдет много лет, пока я снова увижу тебя и Тюрю, так как вскоре мы оказались совсем отрезанными друг от друга.
У меня так все спуталось в голове, что не могу правильно в хронологическом порядке связать все, что происходило. Одно время у нас в Царском жила дорогая тетя Машенька Долгорукова. Она работала на фронте со своей подругой, Морильской, но после того, как солдаты стали брататься с неприятелем, бежали с фронта в деревни и потеряли всякое чувство долга и чести под влиянием жидовской пропаганды, она не выдержала и уехала с фронта, говоря, что не может видеть такого позора и хамства. Она несколько раз ездила в Петербург и хлопотала о выезде за границу, наконец добилась, получив разрешение из рук Урицкого, которого убили на следующий день. Грустно было расставаться с ней. Все вы ее нежно любили. Она лишь говорила, что хочет завещать вам часть своих вещей, но мы только смеялись, говоря, что она из породы бессмертных, так что переживет всех. Она, кажется, умерла года два спустя (но мы ничего об этом не знали) во Флоренции от рака, от которого же умерла ее приятельница, мисс Грегори, и их горничная-итальянка. После ее отъезда стали появляться кучами солдаты, бежавшие с фронта и под вечер стучавшие во все квартиры, требуя впустить переночевать. Когда же к нам тоже постучали, я, не открывая двери, попросила их подождать, а сама позвонила Брандорфу, жившему над нами, чтобы дал совет, как поступить. Он посоветовал указать на пустующий на нашей улице дом. Туда мы и направляли всех, приходивших к нам.
Все труднее становилось добывать еду, и Лапушка решил съездить в Марьино, чтобы узнать, нельзя ли там что-нибудь раздобыть. Он ездил несколько раз, и его всегда с неизменным радушием принимала и угощала семья нашего бывшего повара, женатого на нашей подняне Жене. Они его снабжали, чем могли, а затем стали наезжать к нам из бывших арендаторов курляндцы, особенно одна вдова, которая сшивала из холста длинные кишки, которые набивала мукой и обматывалась этим под платьем, так что казалась толстухой с худым лицом, а затем, смеясь, разматывала это все на кухне и трогательно радовалась тому, что надула революционеров, которые обыскивали ее корзины. Эти добрые люди делали все из памяти о Фрумошке, который был всеми горячо любим. За отсутствием мяса ели конину, за которой ходили в татарскую деревню. С нами ходил милейший Илья Дмитриевич Муханов, который тоже искал способ прокормить семью, состоявшую из его старой матери, Мими Мухановой, жены Таси (рожд. Мейендорф) и из трех детей: двух девочек и мальчика. Зимой мы на санках привозили с ним, сколько могли свезти, конины, а иногда, как лакомство, получали конские мозги, которые нам казались очень вкусными, а жеребятина считалась изысканным кушаньем. Из конины мы делали битки. Кто-то нам подсказал жарить на касторовом масле (кроме бобового масла, никаких жиров раздобыть было нельзя), так как вкус касторки и ее слабительное действие при этом пропадает. И правда, битки на касторке получались очень вкусными, но я детям не говорила, на чем мы их готовили. Беда в том, что масло это оказалось не по карману. Чего только тогда не ели: какую-то траву, растущую на кучах щебня вдоль дороги, какие-то лепешки из картофельной шелухи и кофейной гущи, тертую воблу, крахмал вместо киселя, но это, кажется, было позже, когда ни молока, ни хлеба, ни овощей нельзя было купить ни за какие деньги. Говоря о Муханове, хочу прибавить, что его вскоре арестовали почти одновременно с Чихачевым, жившим с семьей недалеко от нас. Оба они были исключительно хорошие люди, глубоко верующие, благородные и честные (les chevaliers sans peur et sans reproches),[142]142
Рыцари без страха и упрека (фр.).
[Закрыть] горячо привязанные к своим семьям. Их долго таскали по тюрьмам, и, между прочим, они тоже побывали в Москве в Новопесковском лагере, куда и мы со временем попали, а потом их отправили в Нижний, где оба умерли от сыпного тифа в местной тюрьме.
Наши семьи были очень дружны, и мы часто виделись, а когда нас потом засадили в ЧК, Чихачевы все время заботились об Алеке, Лапе и Фуге, оставшихся с Настей. Милый Фредди делил с ними, что имел, и старался помогать, чем мог.
Ловсик и Лап ходили в какую-то школу (не помню, как ее называли), так как там довольно хорошо кормили. Детям и служащим в школе давали рябчиков, молоко. Сторожа ворчали, что они к рябчикам не привыкли. Им лучше бы давали щи с мясом. Надо было временами ходить на родительские собрания, на которые мы с Марусей Чихачевой ходили вместе. На этих собраниях переливали из пустого в порожнее, но почему-то нужно было присутствовать. Именно раз на такое собрание явилась одна из жен Луначарского, которая была поставлена во главе всех детских учреждений Царского. Там без конца устраивали детские колонии, которыми она заведовала. Она явилась в меховой шапке, украденной у Императрицы Александры Федоровны, и держала себя с большим апломбом. Ее всюду сопровождал один из любовников – студент, который вскоре погиб, будучи раздавленным между двумя вагонами, куда попал оступившись, и говорили, что она долго его оплакивала. Тут, на собрании, она сидела перед нами, пила чай со всякими лакомствами и говорила какие-то глупейшие, заученные фразы, которые всюду повторялись всеми этими людьми. Мы с Марусей сидели в первом ряду, и так нам все это надоело, что мы встали и ушли во время ее разглагольствований. Из ее «благотворной» деятельности в детском мире приведу два примера: в большинстве заведений за детьми не было никакого надзора: мальчики и девочки были предоставлены друг другу. Их разговоры были ужасающими, судя по тому, что мне передавала наша бедная Алекушка, но Лапушка всегда ограждал ее и защищал, где только мог, и не давал в обиду. Результатом таких школьных отношений было то, что многие девочки забеременели. Тогда их всех собрали и отправили особым поездом на юг, будто бы с целью погреть на солнышке. Когда колпинские рабочие узнали обо всем этом, то пришли в ярость, хотели остановить поезд и избить педагогов, сопровождавших девочек, ибо, как они говорили, отдавали дочек в школу учиться, а не развратничать. Поезд удалось провести ночью, чего никто не ожидал. Должна добавить, что этот поезд с беременными детьми гоняли с места на место, и наконец пришлось им вернуться обратно в Царское, так как никто не хотел их принять. В дальнейшем Луначарская наградила каким-то знаком отличия одну из девочек за то, что она уже трижды рожала и увеличила народонаселение в столь юные годы!!! Второй случай был следующий: во многих колониях кормили детей кониной, но не проверяли качество мяса. Так в одной из колоний кормили непрожаренным мясом, и в результате все дети и учителя заболели сапом. А чтобы замять дело, решено было всех больных отравить, чтобы не распространять заразу. Всем с пищей дали отраву!!! Узнали мы об этом случайно.
Тогда многие возделывали огороды за Царским, чтобы иметь хоть какие-нибудь овощи. У нас был огородик вместе с Мухановыми, который мы обрабатывали по очереди, а Лапушка ходил в известные дни сторожить по ночам школьный огород. Конечно, всюду тогда воровали, так как хотели есть и добывали еду, кто где мог. Фуга нашла какое-то садоводство в окрестностях Царского и нанялась туда работницей. Там выдавали довольно большой кусок черного хлеба в день вместо оплаты. И вот наша Фугишечка трогательно вставала каждый день в пять часов утра, чтобы вовремя добраться на работу (дорога занимала час туда и час обратно), а вечером возвращалась со своим куском хлеба, который делила на всю нашу семью. Она загорела как негр, и другие работники называли ее Генеральшей, так как она исполняла добросовестно свою работу: таскала горшки, носила землю, полола и поливала огород, не принимая участия в сплетнях и пересудах других. Так она проработала все лето, а наши малыши, Ловсик и Лапушка, всегда старались принести нам из школы кусочек чего-нибудь съестного.
Не помню, тогда или позже мне дали знать из датского консулата в Петербурге, чтобы я туда явилась. Когда я пришла в бывшее помещение гостиницы «Дагмар», то встретилась с Варварой Ильиничной Мятлевой, которая спросила: «Вы тоже за посылкой?» Я ответила, что нет и что я сама не знаю, зачем меня вызвали, на что она возразила: «Ну, значит, посылка!» Меня провели в кабинет консула. По дороге я заметила Скерета, который стоял, прислонившись к окну, но сделал вид, что со мной не знаком, и я решила, что он, видно, не хочет, чтобы знали о его службе. Консул меня усадил и спросил, не нуждаюсь ли я в каких-нибудь съестных припасах, вроде муки, масла, какао и так далее. Я вытаращила на него глаза. Мы давно забыли о таких лакомствах, и сказала, что очень нуждаемся, но не в состоянии за это платить, и что я могу ему предложить несколько оставшихся у меня миниатюр в уплату. Он сказал, что ему поручено передать даром посылку провианта и что мы будем иногда получать такие посылки, за которыми я, по получении извещения, должна приходить лично или вместо меня доверенное лицо. Позже мы узнали, что посылки были от милой Веры Масленниковой. Консул был очень любезен и направил меня в их кладовые с очень милой датской сестрой милосердия, которую он вызвал по телефону. Она была вся в белом, еще очень молодая и расторопная. Кладовая оказалась небольшой светлой комнатой, уставленной ящиками и тюками с сахаром, чаем, маслом, какао, мукой и банками сгущенного молока. Сестра мне быстро собрала и упаковала большую посылку, затем проводила меня к выходу, а попутно она мне показала большую столовую, где они кормили несколько сот детей. Все это делалось даром. Когда я добралась домой со всеми этими лакомствами, не было конца радости всей семьи. Таких посылок мы получили несколько. Иногда за ними отправлялась Настя с кем-либо из детей. В последний раз, когда она поехала уже при большевиках, то увидела, что консульство было оцеплено и что туда никого не пропускают, а кто по глупости и входит, то больше не выходит, так как их и персонал арестовали. К счастью, она сообразила, что лучше уйти подобру-поздорову.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































