Читать книгу "Царь Иван Грозный. Избранные сочинения"
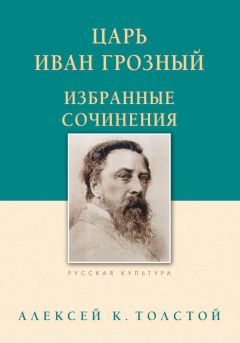
Автор книги: Алексей Константинович Толстой
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Совпадают и имена персонажей: вымышленные герои обоих произведений носят фамилии Морозовых, Серебряных (у Лажечникова Серебряный на сцене не появляется, зато есть Жемчужный). Князь Серебряный уже и раньше встречался в художественных произведениях, связанных с именем Ивана Грозного, таковы повесть А.А. Бестужева (Марлинского) «Наезды» (1831) и драма Н.И. Филимонова «Князь Серебряный, или Отчизна и любовь» (1841)[12]12
Филимонов Н.И. Князь Серебряный, или Отчизна и любовь: Драма в четырех действиях в стихах. Содержание заимствовано из повести «Наезды»; представлена в первый раз на Александринском театре 10 ноября 1841 года в пользу актрисы г-жи Самойловой. Музыка А.Е. Варламова // Пантеон русского и всех европейских театров. 1841. Ч. 2. Кн. 6. С. 1–38.
[Закрыть]. Сходство между Лажечниковым и Толстым можно, конечно, объяснить обращением обоих авторов к одному и тому же источнику – к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, и связь эту оба писателя не только не скрывают, но даже подчеркивают в своих произведениях. Но нельзя не отметить, что Карамзин не описывает подобного рода любовные коллизии.
Есть в обоих произведениях и еще одно сходство, которое трудно объяснить общими источниками. Это сцена прихода к царю Иоанну Грозному двух слепых певцов-сказителей. В «Опричнике» Лажечникова они сначала рассказывают (причем царь выбирает) сказку про царя Вахрома, поедавшего детей и запивавшего кровью, а потом по приказу царя играют «Давидову песнь», которая называется также «духовной песнью», под которую царь и засыпает. В романе Толстого к Ивану Грозному также приходят два якобы слепых певца – разбойники, чтобы выкрасть у него ключи от подвала, где заключен князь Серебряный. Эти «слепцы», так же как настоящие слепцы у Лажечникова, рассказывают сначала былину (причем царь выбирает сюжет), а потом читают духовный стих, под который царь якобы засыпает.
Думается, что сходство этих двух сцен, как и мотивно-образное сходство обоих произведений в целом не случайно. Толстой начал работу над романом еще в конце 1840-х гг. и какие-то фрагменты своего романа читал Н.В. Гоголю и А.О. Смирновой в Калуге уже в 1850 г.[13]13
Русская старина. 1886. № 12. С. 520–521.
[Закрыть], но в письмах 1855–1856 гг. он говорит о романе как о произведении незаконченом. И только в 1859–1861 гг. Толстой завершает роман, хотя и на этом этапе работает, как обычно, не торопясь. Как известно, Лажечников не препятствовал распространению «Опричника» в рукописи, так как, потерпев неудачу с публикацией драмы и постановкой ее на сцене, он всё же хотел, чтобы пьеса дошла до читателя. Поэтому вполне вероятно, что Толстой мог знать «Опричника» еще в 1840-е гг. и строить свой роман как опыт иного разрешения общей с Лажечниковым художественной задачи. Но возможно, что все эти совпадения появились только в 1859 г., когда Толстой познакомился с пьесой Лажечникова в печати: так долго не дававшийся ему сюжет романа он быстро и удачно простроил с помощью вновь прочитанной пьесы. При этом следует отметить, что оба писателя близки друг другу именно в политическом осмыслении эпохи Иоанна Грозного: здесь у них различий нет. Но Толстой хотел дать дополнительную мотивировку такому характеру, каким был Морозов у Лажечникова и каким он мечтал видеть самого себя и своего князя Серебряного.
Когда так сравниваешь роман Толстого с драмой Лажечникова и другими близкими произведениями, поневоле думаешь: а ведь Толстому не так много пришлось и сочинять. Верно: пришлось ему сочинять не так много. Но сила его в том, что он изумительно удачно сложил уже готовые кубики народного и авторского происхождения и построил из них такую композицию, которой до него не было.
Ивану Грозному принадлежит выражение, которое можно было бы назвать крылатым, если бы не грозный смысл его: «А жаловати есмя своих холопей волны, а и казнити волны же есми были»[14]14
Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина ХVI века. М.: Художественная литература, 1986. С. 34, 35.
[Закрыть], – так писал он в первом послании к князю Курбскому в июле 1564 г. Герои романа Толстого полностью согласны с этим убеждением, и князь Серебряный говорит: «Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить своих злодеев!» И боярин Морозов отвечает ему: «Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых…» И сам Грозный говорит так: «…напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руце Божией, говорит писание».
Для читателя XIX в. это изречение напоминало слова самодура, героя А.Н. Островского из комедии «Свои люди – сочтемся»: «Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище: хочу с кашей съем, хочу масло пахтаю». А Н.К. Михайловский писал об этом так: «Изречение Калигулы: “мне позволено всё относительно всех” и любимая мысль Грозного: “жаловать своих холопов мы вольны, а и казнить вольны же” – тождественны»[15]15
Михайловский Н.К. Критические опыты. С. 112.
[Закрыть].
И мы продолжаем читать сочинения Толстого о Грозном.
М.В. Строганов

И.Е. Репин. Портрет А.К. Толстого
Стихотворения
Василий Шибанов[16]16
Впервые: Русский вестник. 1858. № 9. Кн. 1. С. 1236–1240, подзаголовок «Баллада». Источник – «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Курбский «ночью тайно вышел из дому, перелез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю; усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю в Москве, на Красном крыльце, сказав: “От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича”». Царь ударил его «ногу острым жезлом своим; кровь лилася из язвы; слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского… Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Доброжелательный слуга именем Василий Шибанов… не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает» (История государства Российского. Т. 9. СПб., 1821. С. 59–62). В строфах 11–12 цитируются письмо Курбского к Ивану Грозному: «Прочто, царю, сильных во Израиле побил еси?.. Не прегордые ли царства разорили и подручных во всем тобе сотворили, мужеством храбрости их… Не претвердые ли грады германские тщанием разума их от бога тобе даны бысть?.. Или бессмертен, царю, мнишись? Или в необытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судии, богоначальному Иисусу… Кровь моя, якоже вода пролитая за тя, вопиет на тя ко господу моему!» (Сказания князя Курбского. Ч. 2. СПб., 1833. С. 3–5).
[Закрыть]
Князь Курбский от царского гнева бежал,
С ним Васька Шибанов, стремянный.
Дороден был князь, конь измученный пал.
Как быть среди ночи туманной?
Но рабскую верность Шибанов храня,
Свого отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану!»
И князь доскакал. Под литовским шатром
Опальный сидит воевода;
Стоят в изумленье литовцы кругом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воздает,
Недаром дивится литовский народ
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался другом!»
Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;
Готовится Курбский царю перечесть
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То все я пространно к царю напишу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо!»
И пишет боярин всю ночь напролет,
Перо его местию дышит;
Прочтет, улыбнется, и снова прочтет,
И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.
Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьмется?
Кому не люба на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожмется?
Невольно сомненья на князя нашли…
Вдруг входит Шибанов, в поту и в пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»
И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не слаба,
А вот и рубли в награжденье!»
Шибанов в ответ господину: «Добро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки
Письмо твое в царские руки!»
Звон медный несется, гудит над Москвой,
Царь в смирной одежде трезвонит;
Зовет ли обратно он прежний покой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол бьет,
И звону внимает московский народ
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.
В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.
Царь кончил; на жезл опираясь, идет,
И с ним всех окольных собранье —
Вдруг едет гонец, раздвигает народ,
Над шапкою держит посланье.
И спрянул с коня он поспешно долой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского, князя Андрея!»
И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне вслух
Посланье от слова до слова!
Подай сюда грамоту, дерзкий гонец!»
И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль – и внимает:
«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?
Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред Судьею предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.
Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.
Стоял неподвижно опричников ряд,
Был мрачен владыки загадочный взгляд,
Как будто исполнен печали,
И все в ожиданье молчали.
И молвил так царь: «Да, боярин твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной!
Кровь добрых и сильных ногами поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и друг,
И много, знать, верных у Курбского слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в застенок!»
Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену.
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же гонец?
Назвал ли он вора друзей наконец?» —
«Царь, слово его все едино:
Он славит свого господина!»
День меркнет, приходит ночная пора,
Скрыпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять мастера,
Опять началася работа.
«Ну что же? Назвал ли злодеев гонец?» —
«Царь, близок ему уж приходит конец,
Но слово его все едино:
Он славит свого господина!»
«О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе Бог
Измену твою пред отчизной!
Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час,
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье —
Помилуй мои прегрешенья!
Услышь меня, Боже, в предсмертный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь —
И твердо жду смерти желанной!»
Так умер Шибанов, стремянный.
1840-е
Князь Михайло Репнин[17]17
Впервые: Стихотворения графа А.К. Толстого. СПб., 1867. С. 156–158. Источник – «История Иоанна Грозного» князя А.М. Курбского: «Упившись, начал <Иоанн> со скоморохами в машкарах плясати, и сущие пирующие с ним; видев же сие бесчиние, он <Репнин>, муж нарочитый и благородный, начал плакати и глаголати ему: “Иже недостоит ти, о царю христианский, таковых творити”. Он же начал нудити его, глаголюще. “Веселись и играй с нами”,– и, взявши машкару, класти начал на лице его; он же отверже ю и потоптал, и рече: “Не буди ми се безумие и бесчиние сотворити, в советническом чину сущу мужу!” Царь же ярости исполнився, отогнал его от очей своих, и по коликих днях потом, в день недельный, на всенощном бдению стоящу ему в церкви… повелел воинам бесчеловечным и лютым заклати его, близу самого олтаря стояща, аки агнца божия неповинного» (Сказания князя Курбского. Ч. 1. СПб., 1833. С. 120–121).
[Закрыть]
Без отдыха пирует с дружиной удалой
Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой.
Ковшами золотыми столов блистает ряд,
Разгульные за ними опричники сидят.
С вечерни льются вины на царские ковры,
Поют ему с полночи лихие гусляры;
Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.
Но голос прежней славы царя не веселит,
Подать себе личину он кравчему велит.
«Да здравствуют тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!
Себе личину, други, пусть каждый изберет —
Я первый открываю веселый хоровод!
За мной, мои тиуны, опричники мои!
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи!»

К.Е. Маковский. Князь Репнин на пиру у Ивана Грозного
И все подъяли кубки. Не поднял лишь один,
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин.
«О царь, забыл ты Бога! Свой сан ты, царь, забыл!
Опричниной на горе престол свой окружил!
Рассыпь державным словом детей бесовских рать!
Тебе ли, властелину, здесь в ма шкере плясать!»
Но царь, нахмуря брови: «В уме ты, знать, ослаб,
Или хмелен не в меру? Молчи, строптивый раб!
Не возражай ни слова и ма шкеру надень —
Или клянусь, что прожил ты свой последний день!»
Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь:
«Опричнина да сгинет! – он рек, перекрестясь, —
Да здравствует вовеки наш православный царь!
Да правит человеки, как правил ими встарь!
Да презрит, как измену, бесстыдной лести глас!
Личины ж не надену я в мой последний час!»
Он молвил и ногами личину растоптал,
Из рук его на землю звенящий кубок пал…
«Умри же, дерзновенный!» – царь вскрикнул, разъярясь, —
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь.
И вновь подъяты кубки, ковши опять звучат,
За длинными столами опричники шумят,
И смех их раздается, и пир опять кипит —
Но звон ковшей и кубков царя не веселит:
«Убил, убил напрасно я верного слугу!
Вкушать веселье ныне я боле не могу!»
Напрасно льются вины на царские ковры,
Поют царю напрасно лихие гусляры,
Поют потехи брани, дела былых времен,
И взятие Казани, и Астрахани плен.
1840-е

Н.В. Неврев. Опричники
Старицкий воевода[18]18
Впервые: Русская беседа. 1858. № 3. С. 8, без заглавия. Источник – рассказ Н.М. Карамзина о гибели конюшего и начальника казенного приказа И.П. Челяднина-Федорова. Царь «объявил его главою заговорщиков, поверив или вымыслив, что сей ветхий старец думает свергнуть царя с престола и властвовать над Россиею. Иоанн… в присутствии всего двора, как пишут, надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, дал ему державу в руку, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий царь земли русския! Се приял ты от меня честь, тобою желаемую! Но имея власть сделать тебя царем, могу и низвергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом» (История государства Российского. Т. 9. С. 100–101).
[Закрыть]
Когда был обвинен стари цкий воевода,
Что, гордый знатностью и древностию рода,
Присвоить он себе мечтает царский сан,
Предстать ему велел пред очи Иоанн.
И осужденному поднес венец богатый,
И ризою облек из жемчуга и злата,
И бармы возложил, и сам на свой престол
По шелковым коврам виновного возвел.
И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты
И, в землю кланяясь, с покорностью, трикраты,
Сказал: «Доволен будь в величии своем,
Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!»
И, вспрянув тот же час со злобой беспощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою жадной,
И, лик свой наклоня над сверженным врагом,
Он наступил на труп узорным сапогом
И в очи мертвые глядел – из дрожи зыбкой
Державные уста змеилися улыбкой.
1858

В.М. Васнецов. Иван Грозный. Эскиз
Князь Серебряный
Повесть времен Иоанна Грозного[19]19
Впервые отдельное издание: Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного / Сочинение графа А.К. Толстого. 2 т. СПб.: Д.Е. Кожанчиков, 1863.
[Закрыть]
Ее императорскому величеству государыне императрице Марии Александровне
Всемилостивейшая государыня!
Имя вашего величества, которое вы позволили мне поставить во главе повести времен Иоанна Грозного, есть лучшее ручательство, что непроходимая бездна отделяет темные явления нашего минувшего от духа светлого настоящей поры.
В этом утешительном убеждении, с глубоким чувством благодарности и доверия, подношу мой труд вашему величеству.
Граф Алексей Толстой1863
…at nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerium, quam ne oderim tam segniter pereuntes.
Tacitus. Annales. Liber XVI[20]20
…а тут – рабское долготерпение и потоки пролитой внутри страны крови угнетают душу и сковывают ее скорбью; но у тех, кто ознакомится с этим моим трудом, я прошу снисхождения не за что другое, как только за то, что не питаю ненависти к отдавшим себя с такою покорностью на истребление. Тацит. Анналы. Книга 16 (лат.).
[Закрыть]
Предисловие
Представляемый здесь рассказ имеет целию не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.
Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.
В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.
В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.
Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.
1862
Глава 1
Опричники
Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или, по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.
За ним ехала толпа ратников и холопей.
Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, выведали от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал докончальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести, а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев где только Бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.
Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка – беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.
Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.
Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.
Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.
Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но, если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна, всею землею. Казалось, с его праведным царствием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.
Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то очередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Всё двигалось и кипело; веселился православный народ.
У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.
– Эхва! – сказал он весело, – вишь как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то. Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!
– Да, я чай, уже недалеко до Москвы! – сказал князь, очевидно не желавший остановиться.
– Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрошал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!
– Ну, добро, – сказал князь, – отдыхайте!
– Эй, вы! – закричал Михеич, обращаясь к ратникам, – долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!
Ратники и холопи были все в приказе у Михеича; они спешились и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.
– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кречет соколам не помеха!
– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем: уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры! – продолжал он, обращаясь к девкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!
– Какая опричнина? Что за опричники? – спросил князь.
– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!
Князь Серебряный вспыхнул:
– Царь указал обижать народ? Ах, они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!
– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономнясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вот на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха всё ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрышки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!
Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.
– Как, на царской дороге, под самою Москвой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?
– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди царские, опричники; нам-де всё вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.
– Дурень! – вскричал князь, – не смей станичников царскими людьми величать! – «Ума не приложу, – подумал он. – Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всём доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как Бог свят, не спущу!»
Между тем хоровод шел своим чередом.
Молодой парень представлял жениха, молодая девка – невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.
– Государь мой, тестюшка, – пел жених вместе с хором, – свари мне пива!
– Государыня теща, напеки пирогов!
– Государь свояк, оседлай мне коня!
Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.
– Пошел, тесть, к черту!
– Пошла, теща, к черту!
– Пошел, свояк, к черту!
При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня.
Мужики хохотали.
Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.
– Спасите! спрячьте! – кричал он, хватаясь за полы мужиков.
– Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?
В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страху едва мог говорить.
– Там, там, – произнес он дрожащим голосом, – за огородами, я пас телят… они наехали, стали колоть телят, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня…
Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни…
– Беда, беда! – кричали они, – опричники! Бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть.
В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.
– Гойда! Гойда! – кричал он, – колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!
Крестьяне бежали куда кто мог.
– Батюшка! Боярин! – вопили те, которые были ближе к князю, – не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!
Но князя уже не было между ними.
– Где ж боярин? – спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. – И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминучая, ох, смерть нам настала!
Детина в красном кафтане остановил коня.
– Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?
Мужик кланялся молча.
– На березу его! – закричал черный. – Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!
Несколько всадников сошли с коней и накинули мужику петлю на шею.
– Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!
– Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!
Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполовину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.
– Кто ты, мошенник? – спросил князь.
– А ты кто? – отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.
Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.
– Отвечай, окаянный, или застрелю, как собаку!
– Я тебе не слуга, разбойник, – отвечал черный, не показывая боязни, – а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!
Курок пистоли щелкнул, но кремень осекся, и черный остался жив.
Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.
– Скрутите и этого! – сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! – подумал князь. – Жаль, что разбойник!»
Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.
– Смотри, батюшка, – сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, – вишь, они какие осилы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!
Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.
– Это что за люди? – спросил князь. – Зачем вы их к седлам прикрутили?
– Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.
– Так отвяжите их и пустите на волю!

К.В. Лебедев. Князь Серебряный и связанные опричники
Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободою, остались посмотреть, что будет с побежденными.
– Слушайте, мошенники, – сказал князь связанным опричникам, – говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?
– Что, у тебя глаза лопнули, что ли? – отвечал один из них. – Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!
– Окаянные! – вскричал Серебряный, – коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!
– Да ты, видно, с неба свалился, – сказал с усмешкой черный детина, – что никогда опричников не видал?
И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю.
Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.
– Слушай, молодец, – сказал он, – твоя дерзостность мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как Бог свят, велю тебя повесить!
Разбойник гордо выпрямился.
– Я Матвей Хомяк! – отвечал он, – стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голов – что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?
Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику. Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему:
– Дозволь, боярин, слово молвить.
– Говори!
– Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!









































