Читать книгу "Царь Иван Грозный. Избранные сочинения"
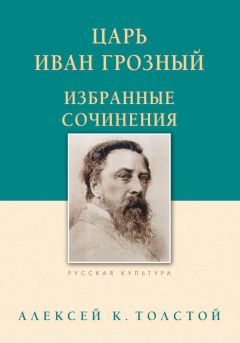
Автор книги: Алексей Константинович Толстой
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 37
Прощение
Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками.
Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.
Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез Бог весть куда; Митька последовал за ним; песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны…
Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на всё безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости.
Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников, насладившись мыслью, что они теперь стоят между жизнью и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.
При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.
Иоанн помолчал несколько времени.
– Здравствуйте, оборванцы! – сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: – Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?
– Государь, – ответил Серебряный скромно, – из тюрьмы ушел я не сам; а увели меня насильно станичники. Они же разбили Ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!
– Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? – спросил Иоанн у разбойников. – Откуда же вы знаете его?
– Батюшка царь, – отвечали вполголоса разбойники, – он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!
– В Медведевке? – сказал Иоанн и усмехнулся. – Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?
Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.
– Да полно тебе вины-то его высчитывать! – сказала она Иоанну сердито. – Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!
– Молчи, старуха! – сказал строго Иоанн, – не твое бабье дело указывать мне!
Но, досадуя на Онуфревну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях:
– Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед.
Серебряный взялся отвечать за разбойников.
– Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.
– Не захотел! – повторил Иоанн. – Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!
– Уж самого тебя, – проворчала мамка, – на том свету черти на кол посадят!
Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:
– А вас за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую. Выкатить им пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?
Мамка зажевала губами.
– Да живет царь! – закричали разбойники. – Будем служить тебе, батюшка государь! Заслужим твое прощение нашими головами!
– Выдать им, – продолжал Иоанн, – по доброму кафтану да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?
Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала:
– Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость!
– Как думаешь, – сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, – пригодны они в ратный строй?
– В ратный-то строй пригодны, – ответил Никита Романович, – только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать!
Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.
– Когда я кого милую, – произнес он торжественно, – я не милую вполовину!
– Да какая ж это милость, государь! – вырвалось у Серебряного.
Иоанн посмотрел на него с удивлением.
– Они, – продолжал Никита Романович, немного запинаясь, – они, государь, ведь доброе дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!
– Так почему ж им в опричнине не быть? – спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.
– А потому, государь, – выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее, – потому, государь, что они, правда, люди худые, а всё же лучше твоих кромешников!
Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский произвол.
В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание.
В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек, лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкой руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.
– Это что за крыса? – спросил царь, указывая на незнакомца.
Но тот уже успел скрыться в толпе.
– Раздвиньтесь, люди! – сказал Иоанн, – достать мне этого молодца, что там сзади хоронится!
Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.
– Что ты за человек? – спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.
– Это мой стремянный, государь! – поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича, – он не видал меня с тех пор…
– Так, так, батюшка государь! – подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости, – его княжеская милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость. Дозволь же, батюшка царь, на боярина моего посмотреть! Господи светы, Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть тебя!
– Что же ты хотел сказать ему? – спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича. – Зачем ты за станичниками хоронился?
– Поопасывался, батюшка государь Иван Васильич, опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь, это ведь, государь, всё такой народ…
И Михеич закусил язык.
– Какой народ? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение. – Говори, старик, без зазора, какой народ мои опричники?
Михеич поглядел на царя и успокоился.
– Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка! – проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица. – Не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!
Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.
– Ну что ты на него глаза таращишь? – сказала мамка. – Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?
Михеич, нашедши себе подмогу, обрадовался.
– Так, бабуся, так! – сказал он. – От них-то всё зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцев и не видано на Руси!
И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!
Когда царь вышел на крыльцо, он уже решился простить разбойников. Ему хотелось только продержать их некоторое время в недоумении. Замечания мамки пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и, вместо того чтоб предаться гневу, он вздумал посмеяться над Онуфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.
– Так тебе не люба опричнина? – спросил он Михеича с видом добродушия.
– Да кому ж она люба, батюшка государь? С того часу, как вернулись мы из Литвы, всё от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости Господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.
И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»
– Добрый у тебя стремянный! – сказал царь Серебряному. – Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили! А давно он у тебя?
– Да я, батюшка Иван Васильевич, – подхватил Михеич, совершенно ободренный царскою похвалою, – я князю с самого с его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили!
– А нет у тебя разве детушек, старичок? – спросил Иоанн еще милостивее.
– Было двое сыновей, батюшка, да обоих Господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев, саблей голову раскроил, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!
И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.
– Вишь! – проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича. – Ну, что ж делать, старичок, этих Бог прибрал, других наживешь!
– Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусишь!
– Что ж, – сказал царь, как бы желая утешить стремянного, – еще, даст Бог, другую хозяйку найдешь!
Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.
– Да этого добра как не найти, – ответил он, ухмыляясь, – только не охоч я до баб, батюшка государь, да уж и стар становлюсь этаким делом заниматься!
– Баба бабе рознь, – заметил Иоанн и, схватив Онуфревну за душегрейку, – вот тебе хозяйка! – сказал он и выдвинул мамку вперед. – Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей приживай!
Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.
Безжизненные глаза мамки вспыхнули.
– Страмник ты! – закричала она на Иоанна, – безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной! Страмник ты, тьфу! Еретик бессовестный!
Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее зажевали, а нос посинел.
– Полно ломаться, бабушка, – сказал царь, – я тебе доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?
– Умилосердись, батюшка государь! – проговорил Михеич в совершенном испуге.
– Что ж? Разве она тебе не по сердцу?
– Какое по сердцу, батюшка! – простонал Михеич, отступая назад.
– Стерпится – слюбится! – сказал Иоанн, – а я дам за ней доброе приданое!
Михеич с ужасом посмотрел на Онуфревну, которую царь всё еще держал за душегрейку.
– Батюшка Иван Васильевич! – воскликнул он вдруг, падая на колени, – вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорей на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!
Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом.
– Ну, – сказал он, выпуская наконец Онуфревну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь, – честь приложена, убытку Бог избавил! Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, – продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного, – ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!
И царь потрепал Серебряного по плечу.
– Никита, – прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя, – у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину; я дам тебе место выбылого Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.
Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного; они уже видели в нем новое, возникающее светило, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.
Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых.
– Государь, – сказал он, сделав усилие над собою, – благодарствую тебе за твою милость; но дозволь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит!
– Вот как! – сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного, – это значит, мы неугодны его княжеской милости! Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничим! Ну что ж, – продолжал он насмешливо, – я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода!
И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.
Глава 38
Выезд из слободы
Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.
Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названого брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив свое поручение, простился с нею, она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями.
Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости.
– Ну, боярин, – сказал он, – выпал же мне наконец красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романыч, я словно света Божьего не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведаю ль чего про тебя? Как услышал сегодня, что ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху! Ввек не забуду! Два молебна завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой – что соблюл меня Господь от этой ведьмы, не дал надо мною такому скверному делу совершиться!
И Михеич начал рассказывать всё, что с ним было после разорения морозовского дома, и как он, известив Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.
Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича.
– Ведь я, Никита Романыч, – говорил старик, – ведь я не слеп; хоть и молчу, а всё вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине Андреичу-то ездил. Не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку приходит! Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело другое; теперь ей некому ответа держать, Царствие ему Небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!
– Не кори меня, Михеич, – сказал Серебряный с неудовольствием, – а скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь?
– Позволь, батюшка, погоди; дай мне всё по порядку тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: залетела, говорит, жар-птица ко мне; отвези ее, говорит, к царю Далмату! Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой; только уже после, когда показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он про нее говорил! Вот и поехали мы с нею в вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей всё рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ этак будет за десять, она, вижу, зачинает беспокоиться. «Что ты, – говорю, – сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, – говорю, – боярыня, Дружина Андреич здравствует!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романыч, – говорю, – хоча и в тюрьме, а должно быть, также здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а всё же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, – говорит, – дядюшка, не могу ехать в вотчину!» – «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?» – «Дядюшка, – говорит, – видишь, золоченые кресты из-за лесу виднеются?» – «Вижу, сударыня». – «То, – говорит, – девичий монастырь; я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоит на своем: проводи да проводи! «Я, – говорит, – там с недельку обожду, Богу помолюсь, потом повещу Дружине Андреичу; он пришлет за мной!» Нечего было делать, проводил ее, батюшка; там и оставил на руках у игуменьи.
– Сколько будет до монастыря? – спросил Серебряный.
– От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру пойдем.
– Михеич! – сказал Серебряный, – сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не властен; надо моим людям царю крест целовать. Но ты сею же ночью поезжай о двуконь, не жалей ни себя, ни коней; попросись к боярыне, расскажи ей всё; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною!
– Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опасаешься ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, Царствие ему Небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать!
Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым.
Борис Федорович уже вернулся от заутрени, которую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.
– Что ты так рано поднялся, князь? – спросил он Никиту Романовича. – Это хорошо нам, слободским, а ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе неспокойно у меня было?
Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал причину бессонницы князя.
Приветливость Бориса Федоровича, его неподдельное участие к Серебряному, услуги, им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворцами привлекли к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.
– Всё это мне давно уже ведомо! – сказал, улыбаясь, Годунов. – Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ни подумаешь, всё у тебя на лице так и напишется. Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.
– А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?
– Тебе было поблагодарить царя и принять его милость.
– Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты сам разве вписан в опричнину?
– Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского да сделался бы оружничим царским и был бы в приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсекли бы!
– Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня всё на лице видно.
– Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего мы бы с тобой не сделали! А то посмотри на меня; я один бьюсь как щука об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы нас двое около царя, и силы б удвоились. Таких людей, как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо: я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя!
– Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего не выходит. Вот ты, дай Бог тебе здоровья, ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не сподобил меня Бог такому искусству. Впрочем, что теперь и говорить об этом! Сам знаешь, царь меня по моему же упросу в сторожевой полк посылает.
– Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но, если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить, всё же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб она постриглась: этого не будет, Никита Романыч; я лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла, незачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду, коли хочешь, твоим дружкой.
– Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое умение иметь. А я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, Господь свое указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в каждом правда была.
– Так ты меня уж боле не винишь, князь, что я не прямою, а окольною дорогой иду?
– Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч. Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на тебя!
Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством и служило ему мерилом его обаятельной силы.
– В мою очередь, спасибо тебе, князь, – сказал он. – Об одном прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим всё, что про меня знаешь!
– Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоем здравии, а если вернутся на родину, то и всем своим ближним закажут! Дай только Бог уцелеть тебе!
– Господь хранит ходящих в незлобии! – сказал Годунов, скромно опуская глаза. – А впрочем, всё в Его святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.
Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов нелегко ошибается в своих предположениях, и недавние опасения его насчет Елены рассеялись.
Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но еще прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашним понятиям, принадлежало к недобрым предзнаменованиям.
Близ одной церкви отряд был остановлен столплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.
Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время толпе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пение и спросил, по ком идет служба. Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебряного; но в чертах Малюты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость, без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослушивать панихиду, а станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со святыми упокой!»
Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входящей в темный лес, он оглянулся на Александрову слободу, и, когда скрылись от него золоченые главы дворца Иоан-нова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца.
Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Серебряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду или нагибал ее на сторону и чутко навастривал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.









































