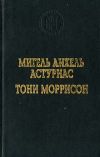Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
13.
Всю вторую половину 1969 года по барам и ночным клубам на Сансет-стрип, по сейшенам, где играли психоделические рок-группы со странными названиями, по туалетам, где шла торговля наркотиками, бродил обросший мужчина в пестром тряпье. Бросалось в глаза, что он старше возрастом, чем дети-цветы; он годился им в отцы, и хайр до плеч и борода до глаз не могли скрыть разницы в возрасте; впрочем, ни у кого это удивления не вызывало. Хиппи не лезут к людям с вопросами, не вторгаются в чужую жизнь с подозрениями. Если человек носит драные джинсы, мятую гавайскую рубашку и дырявую соломенную шляпу, то, значит, так ему хочется. Если человек каждую ночь появляется на Сансет-стрип и ведет разговоры с парнями, торгующими наркотиками, то, значит, так ему надо.
Мужчина мог быть профессором провинциального университета, уверовавшим, подобно великому Тойнби, в новую жизнь, которой следует учиться у детей; он мог быть поэтом-битником, влившимся в новый хаос, подобно тому, как это сделал Аллен Гинзберг; мог быть, в конце концов, обыкновенным алкоголиком, обретающим свою нирвану в многочисленных злачных местах. Но на самом деле он был полковником армейской разведки Полом Тейтом, который после убийства дочери, актрисы Шарон Тейт, ушел из армии, по всем правилам перевоплощения изменил внешность и на свой страх и риск пустился на поиски убийц. Под мятой рубашкой, заткнутый за пояс джинсов, у него всегда был револьвер. В мире хиппи он действовал как разведчик-профессионал, работающий в тылу врага.
Хиппи были для него враждебной нацией, захватившей его прекрасную Америку. Они не стриглись и не мылись и потому были грязными ублюдками. Они с умильными улыбками говорили о всеобщей любви, и они же породили в своей среде убийц, которые ночью 9 августа 1969 года пришли в дом к его дочери. Был ли полковник Тейт так уж не прав? Моррисон в сценарии фильма «HWY» изобразил молодого безымянного героя, торчащего от бензедрина и убивающего напропалую. Количество жертв в доме Тейт и в фильме Моррисона странным образом совпадает: пять. Подобно киллерам из Семьи Мэнсона, безымянный герой из фильма Моррисона тоже заходит в туалет автосервиса в Лос-Анджелесе, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги и кровавой бани.
Для Моррисона хиппи были beautiful people, родной восхитительный народ, к которому он принадлежал. Но и он уже чувствовал, что все пошло вкривь и вкось. Motel Money Murder Madness. Вот так, именно так он это чувствовал. Знаки препинания могли бы придать этой фразе без глаголов и прилагательных более-менее осмысленный вид, но Моррисон выдирает знаки препинания из речи, как дюбеля из стены, и стена рушится, а за ней оказывается густой кровавый туман. В месяцы, когда Doors записывали альбом L.A. Women, в центре Лос-Анджелеса, во дворце Правосудия, шел процесс над Мэнсоном и его девушками. Об этом каждодневно писали газеты и говорило ТВ. В последней песне альбома, которой Моррисон, как вскоре выяснилось, попрощался с Doors, он под убаюкивающий шум дождя спел об убийце, мозг которого отвратителен, как жаба.
Попасть на Ту Сторону можно с помощью амфетаминов, ЛСД, мескалина и другой химии. Можно улететь туда верхом на бутылке, полной виски или коньяка. Акт убийства будоражил и мучил воображение Моррисона, потому что с помощью такого акта человек тоже катапультирует себя на Ту Сторону. Убийца навсегда покидает теплый, светлый, дурацкий, суетливый и все-таки милый и прекрасный мир людей и уходит в холодный вакуум бесконечности, в черное небытие без прощения. В кого он превращается? В урода-недочеловека? В ницшеанского сверхчеловека? Моррисон думал об этом, кружил вокруг этого и внезапно в отвращении отталкивался от этого. «Always a playground instructor, never a killer»2020
Вечный инструктор по играм – и никогда не убийца.
[Закрыть].
Параллельное чтение стихотворений Моррисона и материалов уголовного дела «Народ против Чарльза Мэнсона» вызывает в душе исследователя тихий, медленно поднимающийся ужас. Читая эти вещи день за днем, находя все больше и больше соответствий, в какой-то момент вдруг начинаешь физически ощущать исчезновение опоры под ногами. Кажется, еще немного, и ослабевший покачивающийся пол сорвется с креплений, и ты, со всеми своими понятиями о добре и зле и возможном и невозможном, полетишь, кувыркаясь, в бездонную пропасть абсурда. Иногда кажется, что в эту пропасть лучше даже не заглядывать. Зачем мне это знание?
Девушки из Семьи Мэнсона, жившие на ранчо Спана, принимали все: марихуану, гашиш, семена вьюнка, фенциклидин, псилобицин, ЛСД, мескалин, пейот, метамфетамин, ромилар. Они истово занимались сексом и в конце концов коллективно достигли той же степени свободы, что и одиночка Моррисон в темной комнате мотеля «Alta Cinerga» в тот вечер, когда он напрочь забыл о концерте в клубе «Whisky a Go-Go». В тот момент, когда Манзарек ворвался в номер и потащил его в клуб, Моррисон уже освободил себя от смирительной рубашки этого мира. Он стал выше материи, сильнее географии. Выйдя на сцену, он перенесся в отчий дом, поднялся на цыпочках по лестнице и превратился в убийцу отца и любовника матери. «Наконец-то я достигла точки, когда уже могу убить своих родителей», – словно вторя ему, сказала одна из веселых хиппушек по имени Сандра Гуд, которую в Семье звали Сэнди.
Сандру Гуд в Семье звали Сэнди, Сьюзен Аткинс звали Сэди Мэй Глютц, Линетту Фромм Пищалкой и так далее. Отказываясь от прошлых имен, девушки отказывались от самих себя, какими были в родительском доме, в школе и колледже, от своего эго, от моральных ограничений нормальной жизни девочек из среднего класса. Сандра Гуд не могла воровать, а Сэнди могла. Сьюзен Аткинс не могла убивать, а Сэди могла. Для Линетты Фромм было невозможным трахаться с любым желающим, а для Пищалки раскрывался огромный простор чистого, освобожденного от чувств секса. «Если требуется изменить личность, самый простой способ добиться этого – сменить имя», – говорил урод Мэнсон, никогда не заканчивавший никаких университетов, но обладавший дьявольским чутьем манипуляции и трансформации. Моррисон тоже шел этим путем. Он преодолевал себя в себе с помощью наркотиков и алкоголя. Он всегда говорил журналистам, что его родители умерли, но никогда не объяснял, где, как и почему. Возможно, он умалчивал об этом потому, что правда, которую он мог бы им высказать, лежала за пределом того, что способны принять СМИ, раскручивающие образ героя. Его родители умерли, потому что он их убил. Он недаром называл себя то Повелителем Ящериц, то Шаманом, то Мистером Моджо Райзином – все это были новые имена новых существ, которые плодила его странная душа. Новые существа, the new creatures.
Новые существа хотят попробовать все. Как же им остановиться перед убийством?
Новые существа влюблены в свободу, которая не может иметь ограничений (тогда это уже не свобода). И как же тут им остановиться перед убийством?
Новые существа уходят в пустыню и молятся там Иисусу Мэнсону. Просветленный убийца Мэнсон протягивает ладонь, и гремучая змея подставляет под нее свою маленькую узкую головку. Обожаемый Мэнсон дует на мертвую птицу, и она взлетает. Всеобщий друг Мэнсон утверждает, что времени нет, и добра нет, и зла нет, а есть только Теперь. Воткни нож и наслаждайся.
«Вы едите мясо и убиваете создания, которые лучше вас самих, а потом ужасаетесь, какими плохими стали ваши собственные дети, называете их убийцами. Это вы сделали своих детей тем, что они есть…» (сказал Мэнсон).
«Дети, что идут на вас с ножами, – это ваши дети. Вы научили их всему, что они знают. Я не обучал их. Я просто помог им подняться на ноги» (сказал он).
«А эти дети – все, что они сделали, они сделали из любви к своему брату…» (Семь трупов только за две ночи, 169 ножевых ран.) И это тоже он сказал.
Любовь. Все в мире есть любовь. All you need is love. Любовью дышит каждый дождь, каждый ветер, каждая радуга, каждый жест каждого человека. Любовью дышат автомобили, с влажным шуршанием несущиеся по Сансет-стри, любовью сочатся ночные огни мегаполиса, в любви пребывают спящие в ночной пустыне хиппи. Никогда за тысячу лет христианской цивилизации не было другого такого десятилетия, когда чистая, искренняя, всеобщая любовь с такой силой охватила бы миллионы молодых людей. Свет любви, счастье любви, экстаз любви, воодушевление и восторг любви! Девушки Мэнсона говорили на суде, что легко убивать, когда делаешь это с любовью.
Часть третья
1.
В Лос-Анджелесе нет зимы. В декабре тут плюс 15. Отсюда, из России, из страны коротких зимних дней и мрачных длинных ночей, Лос-Анджелес кажется недостижимым раем, где не нужны шубы и шапки и в декабре можно выйти из дома в рубашке с короткими рукавами и пляжных шлепанцах. 8 декабря 1970 года, в свой день рождения, Моррисон – в рубашке с короткими рукавами и в шлепанцах? – отправился в район Виллидж, в студию звукозаписи, которая так и называется: Village Records. В присутствии нескольких гостей (там находились гитарист Боб Глауб, подыгрывавший Моррисону на басу, и две девушки, одну из которых звали Кэти, а про вторую известно только то, что она была из Германии) и звукорежиссера Джона Хини он три часа подряд читал на магнитофон свои новые стихи. Он пил и к концу третьего часа напился вусмерть.
В день рождения люди имеют обыкновение начинать новую жизнь – или, по крайней мере, давать себе слово в этом. В день рождения – так уж устроена человеческая психика – люди задумываются о прожитых годах и решают совершить свой самый главный поступок в самом ближайшем будущем. Моррисон, ощущавший жизнь как мистическое действо с таинственными персонажами и тайными мотивами, не случайно решил начитать новые стихи на студийный магнитофон в свой день рождения. Он словно посадил зеленый росток будущего в пустыне настоящего – символический поступок, достойный китайского мудреца или буддийского монаха.
Новая жизнь начиналась с отмашки звукорежиссера Джона Хини, с плавно вращающихся катушек магнитофона, со звука его медленного, темного, дымчатого голоса, с замкнутых в молчании лиц неизвестных нам людей, слушавших, как он произносит странные строки. Она начиналась со слова «Приди», с буйства солнца в декабре, с рокота волн на пляжах, с шелеста шин на шоссе, с суетливой беготни енотов во дворе дома, где жил Робби Кригер, с привета, который передал с Луны американцам астронавт Нил Армстронг, с мысли о путешествии в Непал, с цепочки дешевых бус на шее, с белой рубахи навыпуск, с ощущения холода в руке, который источает только что извлеченная из холодильника, покрытая изморозью банка пива. Новая жизнь начиналась с веры в себя, с умиротворения, с признания собственной малости, с ощущения огромного мира, который концентрическими кругами стремительно вырастал во все стороны, имея в центре неустанно вращающуюся катушку магнитофона.
Русский стих есть запечатленная в словах гармония, он весь пронизан прекрасным порядком рифмы. Американский стих Моррисона есть запечатленный в словах хаос, он весь пронизан распадом и разрывом. Это поток сознания, выплеснувшийся в разрозненные образы. В этих таинственных письменах ощущение нового начала присутствует – иначе зачем тут белый лист бумаги и белая стена, чуткие, ранимые вещи, которые способны запечатлеть нашу тень и наши слова и дать им бессмертие? Но наряду с желанием действовать тут есть грустное утомление от жизни, измаранной грязью поступков, как марают следы ног и колес чистейший первый снег: «Что же мы наделали?… Что мы натворили, друг мой, что же мы натворили?»
Два сборника стихотворений Моррисон издал за свой счет небольшими тиражами. Он раздавал книжечки друзьям, знакомым и журналистам, приходившим интервьюировать его. Пачки книг лежали в офисе Doors в Лос-Анджелесе на полу, у стены, и Моррисону это нравилось. Каждый раз, когда он приходил в офис, эти пачки книг на полу у стены напоминали ему о том, кто он на самом деле. Тут есть кое-что удивительное. В буйном герое и дебошире была печаль, слабость и зависимость от мира. Он хотел, чтобы серьезные люди, не имеющие никакого отношения к року и музыкальному бизнесу – редакторы издательств, литературные критики, – воспринимали его как поэта. Быть поэтом казалось ему выше всего на свете; это слово он полагал не обозначением профессии и даже не определением призвания, а – званием, которое трудно, почти невозможно заслужить. Но он хотел быть не просто поэтом, этот уставший от жизни алкоголик, которым в Америке пугали детей и который однажды заснул прямо на крыльце чужого дома, хотел быть признанным поэтом.
Все, что он писал, не важно, в стихах или прозе, было очень странным и ни на что не похожим. Эта текущая, переплетающаяся, расползающаяся и разлетающаяся масса слов не принадлежит никакому жанру и не вписывается ни в какие каноны. Читатель, скользящий по всему этому глазами, чувствует нарастающее недоумение и в конце концов просто обязан возопить: «Господи, ну что же это все такое?» По помойкам мегаполиса бродят бомжи, смерть оказывается только маскировкой перед новыми приключениями, убийца ищет свидетеля для своего убийства, два горячих тела сливаются в любовном экстазе в номере мотеля. Это бред. Да, жанр Моррисона – бред, в котором он скрывается, как в убежище. Вся жизнь безнадежно отравлена, она пропитана ratio, она источена мелкими мыслями, она превратилась в сухую слипшуюся корку. Бред есть освобождение от поверхности жизни. Сладкий бред, гремучий бред, тоскливый бред, отчаянный бред, в который можно бежать, как в еще не открытую Новую Америку.
Светлая и бесхитростная наркоманка Памела в это время иногда щебетала людям о том, что скоро они уедут на Таити, где Джим, как когда-то Поль Гоген, отдастся чистому искусству. Вряд ли Памела хорошо знала, кто такой Гоген, скорее всего, она пела эту песенку со слов Джима. Но тихо собрать чемоданы и улететь на Таити было бы слишком просто и банально. Это был бы дубль два, повтор. Лучше было бы вместе с Мэри Вербелоу, окончательно исчезнувшей из его жизни, ночью въехать на машине в океан – увидеть капот, уходящий в тихую волну, услышать шелест шин по подводному песку – и с расслабленной улыбкой глядеть, как зеленая вода просачивается сквозь стекла. Еще можно было бы котенком из одного его стихотворения шмыгнуть в небо и исчезнуть в облаке. Из этой пронумерованной, проштемпелеванной, разложенной по папкам и тарелкам жизни куда же ему еще деться? Ответ на удивление прост: конечно же, в сумасшествие! Принц Гамлет там его ждет. Но Гамлет там прятался, надеясь когда-нибудь вернуться в мир нормальных людей, а мы там поселимся основательно и будем жить долго. Пусть сознание, как жалкий трус, цепляется за норму – бей его по пальцам, лупи по рукам, пока не отцепится! Против инстинкта самосохранения у Моррисона всегда есть ЛСД. С его помощью он зайдет все глубже, и еще глубже, и опять глубже в сумасшествие.
ЛСД, с точки зрения создавшей препарат швейцарской компании «Sandoz», было всего лишь средством для врачебных экспериментов. Принимая ЛСД, «психиатр получает возможность проникнуть в мир мыслей и ощущений душевнобольных». Так сказано в одном из описаний препарата. В другом уточняется: ЛСД следует применять для получения «модели психоза короткой длительности у нормальных субъектов, способствуя таким образом изучению патогенеза психических заболеваний». То есть врач в белом халате должен принять триста микрограмм, на несколько часов превратиться в сумасшедшего и затем аккуратно записать свои наблюдения и соображения в специальный журнал. Моррисон действовал точно по инструкции, погружая себя в «мир мыслей и ощущений душевнобольного». Только впечатления он записывал не в журнал наблюдений, а в дешевые блокноты на пружинках. Что касается протяженности опыта, то он действовал наоборот: создавал модель психоза не короткой, а большой длительности. В конце концов целым рядом упорных и безостановочных мероприятий он достиг того, что длительность психоза стала равна длительности его жизни.
Оптимисты считали наступающие семидесятые началом новой эры. Все шло как нельзя лучше. Эти люди разбивали историю на свои периоды, у них были свои мерки и градации. Шестидесятые, полагали они, были временем разрушения старого мира, семидесятые пройдут в неустанном труде созидания мира нового. Джон Леннон собирался ехать с гастролями в Москву, Эбби Хофмана сняли с самолета, отправлявшегося в революционную Прагу. Неутомимый пророк Тимоти Лири, проведя расчеты, пришел к выводу, что американское общество изменится, когда количество принимающих ЛСД достигнет четырех миллионов человек; это должно было случиться как раз в конце одного десятилетия и начале другого. Для всех этих ярких и сверхактивных людей окончательная и бесповоротная победа рок-революции стояла на повестке дня.
Джерри Рубин в 1968 году отыскал где-то смышленого поросенка и выдвинул его в президенты Америки. Поросенка не избрали. Не хотите, значит, поросенка в президенты? Тогда получайте Тимоти Лири в губернаторы Калифорнии! В 1969 году пророк ЛСД (три буквы LSD расшифровывались то как «Luсy in the Sky with Diamonds», то как «Let’s Save Democracy», то как «League for Spiritual Discovery») вступил в борьбу за пост с Рональдом Рейганом. Лозунгом Лири было Come Together!, и эти слова вдохновили Джона Леннона сочинить одну из лучших битловских песен. Из политической кампании ничего не вышло, Лири арестовали за перевозку нескольких граммов марихуаны и сунули в тюрьму на десять лет. Но в мире любви нет тюрем, и в новом мире не может быть никаких стен. Уэзермены организовали Лири побег. Организация его и по сей день покрыта тайной. Известно только, что бывший профессор Гарварда, закрасив черной краской свои неизменные теннисные туфли пижона и плейбоя, ночью спустился с тюремной стены по канату. Через несколько часов, очутившись на конспиративной квартире, он впал в состояние непреодолимого смеха. Лири смеялся много часов подряд. Он представлял лица тюремщиков, обнаруживших, что заключенного Т. Лири в камере нет. Они вошли, а камера пуста. Дематериализовался. Исчез. И на него снова нападал приступ смеха.
Левая политика в шестидесятые была продолжением музыки другими средствами. Кантри Джо пел антивоенные песни о Вьетнаме и заставлял многотысячные толпы скандировать по буквам слово «fuck», Уэзермены позаимствовали свое название из песни Боба Дилана Subterranean Homesick Blues, Эбби Хофман пытался обращаться к пиплу со сцены Вудстока, но высокомерный Пит Таунзенд из The Who прогнал его, размахивая гитарой. Сто тысяч демонстрантов в Вашингтоне подступали к Белому дому, так что полиции приходилось спасать президента Никсона, окружая его обиталище баррикадой из рейсовых автобусов. Но что-то с чем-то не совпадало. Миллионы людей выходили на антивоенные демонстрации, но война все-таки продолжалась, сотни тысяч людей обретали новый опыт в коммунах и общинах, но привычная американская жизнь от этого все равно никуда не исчезала. Эйфория не оборачивалась победой, и тогда люди, пытавшиеся направлять Движение, требовали еще большей эйфории.
Новые левые политики в шестидесятые – герои без страха и упрека. Эбби Хофман пробрался с френдами на галерку биржи в Нью-Йорке и разбросал оттуда тысячу однодолларовых бумажек. Биржевые агенты сошли с ума, увидев падающие с небес деньги. Началась паника. Еще Эбби оторвал стрелки у часов в нью-йоркской подземке, давая понять всем, что время – глупая выдумка империалистов. Пассионарная фурия, сексуальная террористка Бернадетт Дорн, представленная на розыскном плакате ФБР в черной кожаной куртке, черных кожаных брюках и черных высоких ботинках, устроила «Дни гнева» в Чикаго. Подобной уличной войны Америка еще не видела. Мобильные группы Уэзерменов побили фонари и погрузили обеспеченные районы во тьму. Во тьме пылали символы успеха и процветания – автомобили.
Событие зависит от точки зрения, с какой мы на него смотрим. Небоскребы Нью-Йорка высоки, но только не для того, кто забрался на Эверест. У человека, смотрящего на буйства американских новых левых из России, поначалу сердце переполняется радостью. В России такой веселой революции никогда не было. Но, насладившись описаниями шуток и приколов Эбби Хофмана и Джерри Рубина, потихоньку начинаешь испытывать недоумение. Они сражаются, но как будто чего-то не знают. Они прикалываются, но как будто не прочли нескольких самых главных книг. Они окончили университеты, но как будто отстали в развитии. Продвинутая Америка хитрым образом оказывается позади отсталой России.
Американская революция кажется бесконечно провинциальной. Она идет по тем же дорожкам, по которым сто лет назад уже прошли русские юноши с горящими взорами. Все это уже было. Молодая Америка в шестидесятые носится с Ницше так, словно его первая книга вышла только вчера. Моррисон увлечен Ницше, Мэнсон увлечен Ницше, Боб Дилан в своих мемуарах упоминает Ницше. Для России и Европы весь этот антураж со Сверхчеловеком, Заратустрой и черными кожаными куртками является глубоким прошлым, а для Америки это современно и живо. Европа и Россия уже отработали миф, молодая Америка в него только начинает погружаться. Уэзермены идут шаг в шаг по следам русских эсеров: тот же героизм и в конце концов тот же тупик. Любой русский школьник усвоил закономерность, в соответствии с которой чем громче лозунги революции, тем подлее ее бесы. И появление беса Мэнсона в Калифорнии удивительно только для того, кто не знает истории о появлении Сергея Нечаева в Москве. Кстати, студент Иванов был убит в гроте парка при Петровской сельскохозяйственной академии 21 ноября 1869 года, то есть почти точно за сто лет до убийств на Сиэло Драйв в Лос-Анджелесе. До полного совпадения чисел не хватило четырех месяцев.
В отношении революции Америка оказывается далеко в хвосте России. Отстав в развитии общества, в высоких технологиях, еще в десятках иных областей, Россия странным образом оказалась впереди всего мира в области революций. Этот опыт мы освоили в таких объемах, которые не снились ни Джерри Рубину, ни Эбби Хофману, ни Че Геваре. Все они, так же как Уэзермены, всего только бедные приготовишки в университете имени товарища Ленина.
Джим Моррисон почувствовал революционный тупик тогда, когда его еще не чувствовал никто. В наступающих семидесятых он угадывал не торжество светлых идей Вудстока, а новые сумерки, новую пустоту и новый распад. Шестидесятые должны были умереть, рассыпаться, стать трухой, превратиться в собрание забавных баек и глупых сказок, которыми будут тешить себя жители будущего, из всех развлечений предпочитающие шопинг. Но Джим Моррисон не чувствовал себя намертво связанным ни с группой Doors, ни с шестидесятыми как движением и эпохой, он, пусть даже усталый и потолстевший, не собирался превращаться в принципиального старого хиппи, который сидит на завалинке, вспоминает прежние светлые дни и не замечает, что его длинные волосы давно стали седыми. Моррисон собирался жить дальше – в том холодном и малоприятном мире, который брезжил на горизонте.
Он много говорил на концертах и писал в свой блокнот на пружинках о смерти, но этот метафизический интерес еще не означал, что он собирается скоро умереть. В первый год нового десятилетия Моррисон собирался, как змея, сбросить кожу Повелителя Ящериц и предстать в новом обличье. Каком? Видел ли он себя бородатым прозаиком в грубом свитере, расхаживающим по своему дому, заложив руки в карманы широких штанов цвета хаки? Придумывал ли он себя поэтом, путешествующим в компании рыжеволосой и зеленоглазой подруги по Африке в поисках оружия, когда-то забытого тут Артюром Рембо? Ясно, что из грохочущей консервной банки под названием Doors он решил выбраться. Повелитель Ящериц задумал очередной break on through.
Горечь в нем была. Горечь человека, потратившего годы жизни на движение к абсолютной свободе и в результате осознавшего, что свобода это химера. Горечью отравляла его организм не справляющаяся с потоками алкоголя печень. После четырех лет, вместивших так много sex, drugs & rock’n’roll, Моррисон остался «один на один со своим мозгом, похожим на отбойный молоток». Так он описал свое состояние постоянного похмелья. «Сожалею о потерянных ночах и потерянных годах. Я проссал все это». Компания «Elektra» и группа Doors гордились выпущенными альбомами, цифрами продаж, местами в хит-парадах, рецензиями в «Rolling Stone» и «Billboard», которые подтверждали их место в современности и роль в музыкальном процессе, он же писал в свой блокнот, что посредине всего этого восторга и торжества ощущает себя «счастливым трупом».
То, что отличные музыканты и хорошие люди Манзарек, Кригер и Денсмор воспринимали как большой жизненный успех, их пьяный предводитель и шаман с бубном воспринимал как трагедию. Калифорния, с ее апельсиновыми деревьями и синим океаном – рай земной. Там Моррисону не нужны были ни еда, ни одежда. Однажды в этом раю он был Адамом, писавшим стихи на прогретой солнцем крыше. Для Манзарека, Кригера и Денсмора, как и для большинства нормальных артистов, шоу-бизнес был лифтом, поднимающим их на верхние этажи богатства и славы; но для Повелителя Ящериц шоу-бизнес был Змеем-искусителем, сунувшим каждому из них по заманчивому яблоку. Стоило откусить, как во рту возникал мерзкий вкус пластмассы, и сияющая солнечная Калифорния таяла как дым. Все эти бесконечные нью-йорки, вашингтоны, далласы, сиэтлы, торонто, куда его заносило с концертами, были станциями холода, местами изгнания.
Doors, начинавшие как полуподпольная группа, игравшая в маленьких залах и клубах, за четыре года превратилась в крупное и хорошо налаженное предприятие по зарабатыванию больших денег. За каждый концерт – а только в 1970-м, не самом успешном году, группа дала их 27 – музыканты получали не меньше 20 тысяч долларов, или 60 процентов от дохода устроителей. Даже многомесячное пьянство Моррисона, даже его дикие выходки и провоцирующие поступки не могли остановить работу этой фабрики. Каким бы пьяным, обкуренным или безумным ни появлялся он на сцене, это все равно привлекало тысячи людей, вызывало бурный восторг (Или ужас. Или отвращение) и увеличивало кассу. В конце концов он, хорошо понимавший, что происходит, с грустной иронией назвал себя «князем индустрии».
В 1970 году маршруты Doors еще охватывали большую часть Америки. В январе группа дала два концерта в «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, потом перелетела в Гонолулу, а оттуда отправилась в Сан-Франциско, где 5 и 6 февраля играла в зале «Winterland Arena», принадлежавшем Биллу Грэму. На следующий день Doors сыграли в калифорнийском городке Лонг-Бич, а через неделю они, перелетев континент, уже были на берегу озера Эри, в Кливленде, штат Огайо. За Кливлендом последовал Чикаго, а на следующий день после концерта в Чикаго Моррисону пришлось снова пересечь континент, на этот раз в обратном направлении, и прибыть в штат Аризона, где в городе Финикс его судили за пьяный дебош, который он учинил в самолете. Все начало года, всю зиму и весну он носился по Америке и над Америкой, по ее городам, отелям, мотелям, концертным и судебным залам, как ее персональный демон.
В этом году Моррисон еще спал в автобусах, уносящих группу к новым концертным залам, еще отсыпался в отелях и мотелях и медитировал за кулисами, ожидая начала концерта. Чтобы обрести равновесие, он монотонно повторял свою любимую мантру, приводившую окружающих в ужас: «Убей отца… трахни мать». В огромных и пустынных закулисных помещениях четверо музыкантов ждали начала концерта, отрешенные и суровые, как пехота перед атакой. Они сидят на сбитых в ряды креслах или разрозненных стульях, у голых стен, у пожарных лестниц, у запертых дверей. Их фотографируют. У них сосредоточенные лица людей, которым предстоит взлететь в воздух и прокатиться на торнадо. Они слышат глухой нарастающий шум с той стороны черного задника, из медленно наполняющегося зала. Между собой они уже почти не говорят. Группа живет в молчании. Трещина между ними превратилась в пропасть.
Некоторые сцены из жизни группы этого времени невозможно воспринимать иначе как анекдот. Вот Doors едут на концерт в огромном черном лимузине, достойном президента Уганды или императора Эфиопии. До начала еще есть время, и трое решают остановиться у кафе и купить мороженое. Император Мороженого Моррисон обзывает их идиотами и в одиночестве отправляется в винный магазин. У него и трех других как будто различный состав крови и по-разному идут процессы метаболизма; там, где им нужны овощи, конфеты, пироги, мороженое, отщепенцу нужен только спирт. И вот лимузин едет дальше, трое сидящих в нем взрослых мужчин старательно лижут мороженое, а четвертый так же старательно сосет из горла свой любимый напиток. Бутылка виски «Jack Daniel′s» культурно спрятана в коричневый бумажный пакет. И снова никто ни с кем ни о чем не говорит.
2.
К лету 1970 года Doors умудрились пропустить два самых значительных рок-фестиваля. Речь о Монтеррее и Вудстоке. Но если в Монтеррей их не пригласили, то ли просто забыв, то ли умышленно проигнорировав, то в Вудсток они не поехали сами, несмотря на то, что президент компании «Elektra» Джек Хольцман, с его точным нюхом на продвижение, упрашивал их туда отправиться. Троих он, может быть, и уговорил бы, но с Моррисоном ничего поделать не смог. Шаман не хотел выступать на открытом воздухе. Не хотел, и все. В результате в Вудсток приехал только Джон Денсмор – как зритель.
Репортажи из Вудстока шли во всех новостных выпусках ТВ начиная с пятницы 15 августа 1969 года. Событие быстро превратилось из чисто музыкального в общечеловеческое. Автомобильная пробка на подъезде к Вудстоку составляла несколько десятков километров. Люди бросали машины и шли пешком. Все понятия Doors о больших аудиториях в этом случае были неуместны. Пятнадцать тысяч, двадцать тысяч человек в зале – что все это значило перед четырьмя сотнями тысяч хиппи, собравшимися на зеленых холмах в штате Нью-Йорк. Потом их стало полмиллиона, а потом счет сбился и исчез. Возможно, на второй день их было уже восемьсот тысяч, а может быть, миллион. Это вообще был уже не концерт, а массовое радение, коллективный транс, самый крупный в истории Земли deep down. Музыка звучала день и ночь. Светило солнце, и звучала музыка, появлялись звезды, и звучала музыка, и снова восходило солнце, а музыка не кончалась. Тогда пошел дождь. Глядя на быстро приближающиеся тучи, хиппи качали головами: они предполагали диверсию власти, желавшей разрушить праздник мира и любви. Но даже война в новом прекрасном мире превращалась в сказку. Свиньи больше не запускали ракеты и не поднимали в воздух бомбардировщики, они включали огромные тайные воздуходувки, создававшие свирепый ветер, нагонявший грозовые тучи. Президент Америки, противный дядька Никсон, бегал по Овальному кабинету Белого дома, бормоча под нос заклинания и щелкая пальцами, а губернатор Калифорнии и киношный идиот Рональд Рейган, первым среди губернаторов запретивший ЛСД в своем штате, носился над Вудстоком на биплане и рукой в перчатке с раструбом разбрасывал химикаты. Надо было обороняться, и со сцены прозвучало: «Если мы подумаем вместе, то остановим дождь!» Миллион фриков и хэдов затих в сосредоточении2121
Самоназвание молодых людей тех лет. Так называли себя люди нации Вудстока.
[Закрыть]. Дождь не кончался. Ох и сильный же колдун этот Ричард М. Никсон, ох и много же силы скопила эта вредная власть на своих секретных военных базах! «Продолжайте думать!» – неслось со сцены, и то там, то тут в огромном собрании сидящих на траве людей возникали и крепли дружные возгласы: «No rain! No rain!»2222
Нет дождю! Нет дождю!
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.