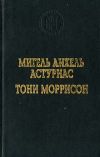Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
12.
С Дженис Джоплин у Моррисона не было ни романа, ни любви, а секс был. Это случилось на пьяном сейшене на хипповом флэду, куда Моррисон пришел с Памелой Курсон. Рыжая Дженис, разговаривавшая хриплым голосом, произвела на него неизгладимое впечатление. Они ушли в спальню, Памела в слезах покинула квартиру одна. То, что произошло за закрытой дверью спальни, вряд ли доставило удовольствие Повелителю Ящериц и Королю Оргазма. Из воспоминаний любовников Дженис известно, что она вела себя в таких случаях как мужчина, причем как грубый мужчина. Получив то, что хотела, она заканчивала секс, не обращая никакого внимания на то, что происходит с партнером. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется раздражение, которое впоследствии она вызывала у Моррисона, а также то, что при следующей их встрече он спьяну вцепился ей в волосы. Но Дженис не походила на Памелу, которая плакала и давала ему пощечины. Она – тоже спьяну – врезала ему бутылкой своего любимого ликера «Southern Comfort» по голове.
С другой знаменитой женщиной, Нико, Моррисон познакомился в ноябре 1966 года, когда провинциальные Doors впервые приехали в Вавилон – то бишь в Нью-Йорк – и играли в дискотеке Ондина. Первый альбом группы уже был записан и в это время сводился в студии. Моррисон в паузах между концертами открывал для себя Нью-Йорк, что означало безумную активность в посещении баров и постоянный секс в номере отеля. Вряд ли он в эти дни спал. Цепочку знакомств, приведшую его к Нико, можно легко представить. Создатель и владелец модной дискотеки Ондин вместе с Нико играл в фильме «Chelsea Girls», снятом на фабрике Энди Уорхола. Сам Энди явился в дискотеку на концерт Doors и, как король, сидел за длинным столом со всей своей свитой. Он был восхищен молодым эротическим героем, явившимся в стылый Нью-Йорк из солнечной Калифорнии. Он пригласил Doors посетить свою мастерскую, под которой ни в коем случае не надо подразумевать студию художника, где он создает свои полотна. Мастерская Уорхола была светским салоном, богемным притоном, генератором слухов и сплетен, местом самых странных трансформаций и превращений. Это было очень модное место, притягивавшее тех, кто мечтал о славе (хотя бы на пятнадцать минут). Одна девушка так хотела там быть, что пару недель даже прожила в лифте. Гуманный Энди приносил ей туда кока-колу.
В компании Уорхола никто не носил своих настоящих имен: ни сам Уорхол, настоящая фамилия которого Вархола, ни Ондин, которого на самом деле звали Роберт Оливо, ни Нико, которая появилась на свет как Криста Пэффген. Именами дело не ограничивалось. В кругу Уорхола все было предметом игры, включая внешность и пол. Сам Энди искусственно сделал свои волосы седыми и подвергся не очень-то приятной операции полировки носа; вопрос его сексуальной ориентации остается открытым до сих пор. Этот безобидный король поп-арта, пуще всего на свете любивший холлы роскошных отелей, сладости и длинные разговоры по телефону, постоянно блуждал в лабиринтах своих маленьких пороков и пристрастий. Он был латентным гомосексуалистом, получавшим наслаждение, глядя на секс других. Рей Манзарек со слов Моррисона рассказывает, что Уорхол умолял Джима разрешить ему посмотреть, как тот занимается любовью с Нико; извращенное наслаждение импотента в духе погрязшего в разврате двора Людовика Пятнадцатого. Моррисон послал его к черту.
Продвинутый Нью-Йорк, падший город. Нико очень хорошо вписывалась в эту стилистику. Она была высокой и статной девушкой, в лице и фигуре которой были выражены в том числе и мужские черты. Она могла представать откровенно женственной, как на обложкe журнала «Elle» 1963 года и на конверте диска Кейси Андерсона «Blues Is a Woman Gone», выпущенном в 1965-м, но, словно оборотень, вдруг превращалась в атлета с широкими плечами, крупными ступнями и грубоватыми чертами лицами. На фотосъемке Лизы Лоу, сделанной в 1967 году в Лос-Анджелесе, Нико танцует в позаимствованном у фотографа платье для беременной: то ли угловатая женщина с крупными ногами, то ли хрупкий женственный юноша, мечта гомосексуалиста.
Эта манекенщина и певица, только что выпустившая диск вместе с Velvet Underground, подруга Алена Делона и Брайана Джонса, была крупной потребительницей героина. В отличие от Моррисона, который никогда не кололся, она не испытывала страха перед иглой. Начало их романа было столь бурным, что бедный Джон Денсмор в соседнем номере не мог спать всю ночь. Моррисон за стеной ревел, хохотал, бросал предметы в стену, двигал шкафы и подпрыгивал на кровати до потолка. Он был так не похож на манерных персонажей неопределенного пола с фабрики Энди Уорхола, что Нико влюбилась. «О, Джим, он такой crazzzy!» – фраза, произнесенная ее темным глубоким голосом, запомнилась многим. Она говорила это с придыханием и со своим неповторимым немецким акцентом, широко раскрывая глаза.
В момент знакомства с Моррисоном Нико была блондинкой, а затем покрасилась в рыжий. Возможно, это была игра, принятая в круге Уорхола, но скорее, Нико очень хотела понравиться Моррисону, которого привлекали женщины с темно-рыжими и красноватыми волосами. У Памелы Курсон были такие волосы. У Патриции Кеннили, которая в это время уже была влюблена в Моррисона, хотя и незнакома с ним, тоже были такие волосы. Бешеный роман Моррисона и Нико получил продолжение в Калифорнии, в кинематографическом замке, принадлежавшем какой-то голливудской звезде. Нуждавшаяся в деньгах звезда сдавала замок всем желающим, и туда часто приезжали Jefferson Airplane, Velvet Underground и другие рок-н-ролльные команды. В этот раз в замок на уикенд заехали Моррисон, Нико и еще какие-то люди. Все наширялись. Дэнни Филдс, поставленный компанией «Elektra» присматривать за Моррисоном, оставил впечатляющие воспоминания об уикенде.
«Я как раз спал, когда в комнату с воплем ворвалась Нико: «Черт, он решил убить меня! Он хочет меня убить!» Я сказал: «Отвали, Нико! Не видишь, я пытаюсь заснуть!» Она заплакала: «У-у-у-а!» Потом она вышла из комнаты, а чуть позже я услышал крики. Я выглянул во внутренний двор: там Моррисон дергал ее за волосы. Я вернулся в кровать. А потом один парень вбежал в мою комнату и сказал: «Ты должен это видеть!».
Я опять встал и обнаружил Нико на подъездной дорожке к замку. Она всхлипывала. Совершенно голый Моррисон в свете луны карабкался на крышу. Он прыгал с одной башенки на другую, а Нико плакала.
Я опять пошел спать. Вот такие у нас были отношения: он таскал ее за волосы и бегал голым, она ревела, а я пару дней прятал его ключи от машины и ждал, пока он оклемается».
13.
Рок-революция создавала по всей стране свои опорные пункты, свои точки притяжения и кристаллизации. Это были клубы и залы, в которых выступали не политики с речами о задачах движения и докладами о текущем моменте, а рок-группы с длинными психоделическими композициями. В 1967 году слово «психоделия» уже превращалось в ключик, которым – щелк! щелк! – легко открывается дверь в иной мир. О том, сколько звучал всеамериканский хит Doors Light My Fire, мы уже говорили. Jefferson Airplane играли свою Thing одиннадцать с половиной минут, Grateful Dead исполняли The Other One восемнадцать минут (из них первые пять звучали только барабаны). Целая вечность! За это время можно погрузиться в транс, утонуть в глубоком поцелуе, выкурить самокрутку с марихуаной, уплыть на тот берег в глубокой медитации, заняться любовью и в такт с заключительными аккордами дойти до потрясающего, невиданного оргазма.
На Западном побережье опорными пунктами рок-революции были залы «Fillmore West» Билла Грэма и «Avalon Ballroom» Чета Хелмса. Два этих человека олицетворяли два разных подхода не только к делу, но и к жизни. Билл Грэм имел репутацию акулы, которая запросто отхватит руку тому, кто рискнет помахать в воздухе долларовой купюрой. Многие играли в его залах «Fillmore West» и «Winterland» в Сан-Франциско и «Fillmore East» в Нью-Йорке, но не многие любили его. Дженис Джоплин отзывалась о «Fillmore West» с презрением: «Это притон для моряков, куда они ходят, чтобы снять телку на ночь». Зал был как зал, несдержанная Дженис таким образом говорила не о зале, а о его владельце. Билл Грэм, носивший шляпу с низким плоским верхом, словно позаимствованную у матадора, и безрукавку, был чересчур жесток для лета любви и эпохи всеобщего братства. Рей Манзарек рассказывает в своей книге, как Билл Грэм наорал на двух проникших на репетицию Doors хиппи и как ужас парализовал не только двух длинноволосых бедолаг, прятавшихся в задних рядах, но и музыкантов на сцене. Джим Моррисон, не раз посылавший полицейских куда подальше, притих, когда страшный Грэм раскрыл свой акулий рот и обрушился на братьев по вере! Эти fucking хиппи! Они все хотят получить задарма! А ну пшли отсюда вон, придурки!
Билл Грэм разругался из-за денег с художником Уэсом Уилсоном, рисовавшим постеры – и прогнал его. Когда ребята, устраивавшие световые шоу во время концертов, объявили забастовку, требуя повысить оплату, Билл Грэм выгнал их из своих залов. К тому же он мухлевал. В самом центре рок-революции он крутил свои сомнительные гешефты. Он переманивал у Чета Хелмса группы и продавал одни и те же билеты на разные концерты. Полученный таким образом черный нал он со странной поспешностью перегонял на секретные счета в банки Швейцарии, словно ждал, что вот-вот разразится война и ему придется пуститься в бега. Все вокруг счастливо витали в облаках сладкого дыма, в гирляндах цветных воздушных пузырей, в лучах проекторов, демонстрировавших сюрреалистические картины, а Билл Грэм как заведенный делал деньги.
Чет Хелмс, конкурент Билла Грэма, долговязый длинноволосый хиппи, был энтузиастом движения. Он вел дела Big Holding Company и привел в группу Дженис Джоплин. В Сан-Франциско он снял старый танцевальный зал с позолоченными колоннами и обтянутыми красным плюшем нишами и устраивал в нем рок-концерты. У него вечно не сходились концы с концами и вечно не хватало денег, чтобы расплатиться с артистами. Чувак, я потом тебе отдам, у меня сейчас нет! Для него дело было не в деньгах, а в Движении, которое он поддерживал, продвигал и спонсировал, отдавая вырученные деньги то на печать психоделических постеров, то на организацию световых психоделических шоу. Билл Грэм занимался бизнесом, он основал собственное концертное агентство, и в его делах всегда был порядок, а Чет Хелмс курил марихуану, организовывал одновременно тридцать мероприятий и катился в веселом шарабане навстречу краху. Крах настал в ноябре 1968 года, когда у муниципальных властей Сан-Франциско кончилось терпение. «Avalon Ballroom» их достал. Там вечно базарили с пожарниками, всегда были нелады с проводкой, а по вечерам обкурившиеся хиппи раздевались догола на улице и приставали к прохожим с объяснениями в любви. Власти закрыли «Avalon Ballroom» и отобрали у Чета Хелмса лицензию на организацию концертов.
Это были не просто залы, где вечерами играла музыка; это были источники новых излучений, генераторы новых идей и видов искусства. И хищник Билл Грэм, и просветленный Чет Хелмс шли одним путем: они общими усилиями создавали мир, в котором слово, звук, свет, образ сливались в единое действо, отменявшее унылую, сухую, скучную и рутинную реальность. Мир после концерта в «Fillmore West» или «Avalon Ballroom» уже не мог быть таким же, как до: он становился ярче, тоньше, глубже, чудесней. Это были инъекции волшебства в засохшую плоть социума. Афиши, которые рисовали к концертам художники Уэс Уилсон, Бонни Маклин и Виктор Москозо, расцвечивали стены города на берегу залива, как целые сонмы ярких цветных бабочек, вылетевших на улицы из массовых наркотических снов. С наивностью американцев, воспринимающих европейскую культуру как шкатулку со стилями и идеями, художники Дальнего Запада в середине шестидесятых вернули к жизни стиль ар деко, на Старом континенте давно отошедший к музеям. Но здесь, в новом мире Свободы и Любви, в пьянящем прекрасном воздухе на берегу океана, в свободном потоке и в единой галлюцинации смешивались свет и тьма, ар деко и поп-арт, черный блюз и белый рок, марихуана и гашиш, Герберт Маркузе и Фридрих Ницше.
Про Билла Грэма говорили, что он составляет программы своих вечеров как меню: в них есть закуска, первое, второе, десерт. Он начал свои эксперименты еще в начале 1966 года, когда сделал попытку соединить в одном представлении несоединимые вещи. 7 апреля 1966 года в «Fillmore West» читал стихи советский поэт Андрей Вознесенский, молодой человек с шелковым платком на шее, а американский поэт-битник Лоуренс Ферлингетти переводил их. На десерт последовал концерт Jefferson Airplane. Doors попали в меню Билла Грэма в виде десерта в январе 1967 года. 13 января группа играла в «Fillmore West» после Grateful Dead и Junior Wells & His Chicago Blues Band. Роскошную розово-красную афишу к этому вечеру нарисовал художник Уэс Уилсон, еще не успевший к тому времени поругаться с Биллом Грэмом.
В «Avalon Ballroom» у Чета Хелмса Doors выступили 3 и 4 апреля 1967 года. Судя по сохранившейся записи концерта в «Avalon Ballroom», Моррисон в тот вечер был пьян. Его пьяный смех и неразборчивый говор предваряют Back Door Man – песню с одуряющим ритмом и ошеломляющим драйвом, которой группа часто начинала концерты. Может быть, эту дикую и циничную песню и нужно петь пьяным. На концерте в «Avalon Ballroom» Моррисон – пьяный ли, трезвый ли, все равно – был в отличном состоянии духа: он что-то напевает себе под нос, смеется и лихо кричит: «All right, эй!», – запуская своим криком нервораздирающее соло на губной гармошке.
Новый мир возникал прямо на глазах со страшной силой. Только что это была уважающая себя Америка, страна адмиралов, приказывавших собственным детям говорить им «сэр», и вот уже тысячи призывников скандировали в лица генералам и адмиралам звонкое слово fuck и играли на флейтах и бубнах. Клерки отращивали бакенбарды и меняли костюмы на хламиды в розовых разводах. Оранжевая тога буддийского монаха входила в моду. Мечта Александры Коллонтай сбывалась, секс становился простым, как стакан воды. Красные, синие, желтые, зеленые, какие-угодно-еще мини-юбки открывали женские ноги, а вид стройных женских ног моментально делает мир веселым, соблазнительным, прекрасным. Какой дурак предпочтет войну любви? Короткая юбка, восхитительная мини, становилась флагом революции.
Новый мир пер из земли, как скорорастущий пьяный лес, вылепливался из густого сочного воздуха, словно из пластилина. Хиппи захватывали землю, как когда-то пионеры. По всей стране они вселялись в заброшенные дома и пришедшие в упадок фермы. Электричество на таких фермах под запретом. Телевизор тоже. Все ходят голые или хотя бы босые. Тела должны быть открыты солнцу и ветру, голым ступням надлежит впитывать энергию земли, нежность травы, тепло песка. Одна из коммун так и называлась – «Сыновья матушки Земли». Сыновья относились к матушке с нежностью и почтением, химикатами ее не фигачили, тракторами не насиловали, урожаи не вымогали. В Сан-Франциско, в парке Золотые Врата, эти новые христиане захватили возвышенность, которая получила название Холм Хиппи; на холме с утра до утра, сутки напролет, валялись, трепались, смотрели в небо, курили траву, говорили о музыке и целовались несколько десятков окончательно освободившихся людей. Они были там всегда. Почетный караул мироздания. Часовые любви.
Другие основали Лигу сексуальной свободы и приступили к важному делу освобождения человечества от стыда. Ходить голыми по улицам или заниматься любовью в чистом поле – это только разминка, гораздо важнее целенаправленные акции. Дюжина хиппи во все том же парке ходят голыми по аккуратным дорожкам. Это не трехголовые чудовища, не пришельцы, высадившиеся из НЛО, не вампиры с кровью на губах, это всего только молодые люди, но у полицейских остекленевают глаза, у садовников отвисают челюсти, у шагающих по парку клерков начинается нервный тик. Мамы с колясками удаляются спешным шагом. Человек, освобожденный от одежды, вернувшийся к самому себе, вызывает ужас! Но не все так тупы. Пять или шесть девушек, весело щебеча, присаживаются на скамейку рядом с пенсионером и неспешно раздеваются догола. Старик – о чудо! – остается в живых и не погибает от инфаркта. Ему даже нравится. Девушки водят вокруг довольного пенсионера хоровод. Сотрудничество поколений. Мир на Земле. Парадиз 1967 года.
Придурки капитулируют. Все знают, что дурак Танзини выгнал Doors из клуба «Whisky a Go-Go» и еще кричал им вслед, что ноги подлых матерщинников и охальников тут больше не будет; это изгнание – одна из основных сцен в мифологии группы. Но Фил Танзини изменил свое мнение очень быстро, и изгнание продлилось не так уж долго: уже 4 февраля 1967 года группа снова играла в престижном «Whisky a Go-Go». И не просто играла, а участвовала в действе, которое более походило на вторжение и захват, чем на скромное культурное мероприятие. Организация, именовавшая себя The Love Conspiracy Commune, устраивавшая концерт, явила миру свой лик; и этот лик был прекрасен и ужасен. Длинноволосые заговорщики амфетаминов и конспираторы секса и любви уверенными жестами магов трансформировали мир рутины во Вселенную неожиданности. Световое шоу мощными прожекторами резало в куски тьму ада. В подвешенных под потолком стеклянных кабинках извивались исходящие тоской по сексу девушки с голыми ногами и лепестками на сосках. И посредине всей этой трансформации, в перекрестии мерцающих лучей, в самом центре беспрерывно распускающегося белого лотоса неутомимый, таинственный, эротический Джим Моррисон темным голосом пел When the Music’s Over.
14.
Моррисон принял славу как должное. Она не удивила его, не потрясла, не изменила. В нем была свобода клоуна, отщепенца и ваганта, которую невозможно истребить большими гонорарами или всеобщим вниманием. На деньги он плевал. Их было много, но он никогда не знал, сколько у него на счете, и тратил их, как взбредет в голову. Деньги почему-то заканчивались, и он одалживал их у трех других Doors. Всеобщее внимание он воспринимал несколько по-плутовски, словно он был Фигаро, внезапно ставший поп-звездой. На людях, во время съемок, во время пресс-конференций и интервью он раздваивался и немножко играл в рок-звезду Джима Моррисона. Отсюда его томный взгляд и медленный голос, многозначительно закрытые глаза и таинственные интонации. Бомж Моррисон в эти мгновения отваливал прочь, поэт Моррисон прятался внутри. На людях оставался Повелитель Ящериц…
Он любил длинные интервью, которые давал в офисе Doors, и в барах, и на лужайках, на открытом воздухе. На записи одного интервью слышно, как пролетает самолет, и этот давным-давно пролетевший в небе самолет вдруг дает почувствовать время. Вот он сидит в саду, откинувшись на спинку белого пластмассового кресла, в майке с короткими рукавами, с банкой пива в руке, и ветерок дует ему в лицо, и вокруг ножки стула кружит оса, и поблизости улица, по которой идут люди, которые уже давным-давно по ней прошли. Эти люди, если они живы, изменились так, что не узнают самих себя, какими они были сорок лет назад, и разъехались в другие города, и ездят на совсем других машинах, и разбогатели, и достойно прожили жизнь, а он все сидит в саду, и самолет все гудит, и его медленный темный голос наполняет пространство. Спасибо звукозаписи.
Моррисон был публичной фигурой, беспрерывно дававшей интервью, а также постоянным собутыльником многих людей, но при этом он оставался закрытым и замкнутым человеком. Как это ни удивительно прозвучит, но в группе никто ничего толком не знал ни о Мэри Вербелоу, ни о его родителях. Он не рассказывал. Он сохранял дистанцию с внешним миром и даже с самим собой, игравшим в рок-звезду. Самые важные события своей жизни – катастрофу, постигшую его с Мэри Вербелоу, разрыв с отчим домом – он носил в себе, как тяжелый камень. Это были его вериги, которые он ни разу за свою жизнь никому не продемонстрировал.
Манзарек, Денсмор и Кригер никогда не порывали с семьями; они были «домашние хиппи», у которых родители жили под боком, в Лос-Анджелесе. Манзарек любил своих родителей, своих Dad и Mom, у него было счастливое детство, и ему и в голову не могло прийти бросить их. У Кригера после подростковых ссор с отцом все наладилось; отец поддерживал его музыкальные проекты и даже давал деньги на инструменты. Нервный, нагруженный комплексами барабанщик Денсмор находился в упорном противоборстве с родителями, которое, однако, никогда не доходило до окончательного разрыва; и когда вышел первый альбом Doors, барабанщик усадил маму и папу в кресла, поставил диск на проигрыватель и прокрутил им песню за песней, сопровождая каждую комментариями. Мать была восхищена не песнями, а успехом сына, отец слушал молча. Но Моррисону и в голову не могло прийти посылать пластинки матери и отцу и прилагать к ним милые записки. Он изгнал родителей из себя. Навсегда.
Он представал перед тысячами своих поклонников затянутым в черную кожу героем, вокруг которого клубилась тайна. Кто он, откуда взялся, где такой вырос? Так когда-то появился Каспар Хаузер, о котором никто не знал, откуда он пришел, где провел детство и кто его родители. Моррисон утверждал, что его родители умерли. Так являются миру герои и пророки, преодолевшие в себе человеческую слабость, освободившие себя от привязанностей и связей. «Враги человеку – домашние его». Это сказал Христос. Богочеловек считал отказ от ближних необходимым для того, кто хочет идти в новый мир и жизнь вечную. Новый мир возникал вокруг Моррисона, жившего в самой гуще рок-революции, и вечная жизнь тоже была близка. Она достигалась посредством медитации, любви и наркотических трипов.
В сентябре 1967 года, когда Doors приехали с концертами в Вашингтон, мать позвонила Моррисону в его гостиничный номер. Она тоже приехала в Вашингтон, чтобы возобновить отношения с сыном. Разговор был короток, трубка грохнулась на аппарат и чуть не разнесла его. Повелитель Ящериц, стоя посредине роскошного люкса голый по пояс, в черных кожаных штанах с огромными серебристыми бляхами, издал вопль, который заставил вздрогнуть тридцать пять горничных, пять швейцаров и трех девушек на ресепшн. Он не хотел их знать! Он отослал их в царство мертвых, в призрачную Л’Америку, и запретил появляться оттуда! Его настойчивая мать, однако, пришла на концерт; возможно, она считала, что таким визитом отдает Джиму должное и делает первый шаг к примирению. Она хотела вернуть непутевого сына в лоно семьи. Неужели она еще не понимала, что все это более чем серьезно, неужели еще надеялась на семейный ужин с нашпигованной яблоками индейкой на Рождество, на нежный поцелуй сына, вкусно пахнущего зубной пастой и одетого в полосатую пижаму? Повелитель Ящериц впал в ярость.
Он отработал концерт как обычно, но The End спел именно для нее. Она сидела в пятом ряду, и ее сын недрогнувшим голосом произносил во внезапной гробовой тишине кошмарные строки, которые должны были кончиться известно чем. Он, возвышаясь на сцене в голубом луче софита, вздевая правую руку, как страшный судия, указывал на нее, и сотни лиц оборачивались в любопытстве к этой женщине, рассматривали ее лицо, ее руки, ее платье, ее волосы, ее ноги, ее туфли. Вот она, та самая, которую он проклял, от которой он отказался, жена контр-адмирала, американская добропорядочная женщина, в застенке своего дома насиловавшая душу своего сына. Вот она, эта сука, воплощающая собой всю мерзость Америки, с которой длинноволосые оборванные дети не хотели иметь ничего общего. Гитара вздрогнула в темноте, испустив стон, ударные уронили в тишину груду камней, и Повелитель Ящериц взорвался диким воплем. Mother, I want to fuck you! Кровосмешение свершилось.
Телевидение, интервью, самолеты, концерты – колесо закрутилось. Никто не спрашивал их, согласны ли они жить такой жизнью, это было принято по умолчанию. По умолчанию считалось, что для музыканта нет ничего притягательнее, чем гастрольные туры, а также беспрерывные встречи с прессой и презентации с выпивкой. Весь 1967 год группа носилась по Америке из города в город и везде имела аншлаг. В начале года две тысячи человек, собравшихся в зале Cheetah, заставляли их нервничать, а к концу года они уже не принимали предложений, если площадка вмещала меньше десяти тысяч зрителей. Десять тысяч зрителей! Да столько соберет не всякий баскетбольный матч или боксерский поединок! Прошел всего год с того времени, как они играли пяти забулдыгам, забредшим во втором часу ночи в London Fog, и вот уже перед ними были уходящие вдаль ряды, забитые поклонниками. Мик Джаггер прилетал из Англии, чтобы прийти на их концерт в «Hollywood Bowl». Люди хотели их. Мир хотел их. Это было чудо. Мальчик Джим Моррисон обрел дар левитации и взлетел, из книгочея и интраверта превратился в манипулятора масс, в поджигателя мятежей, в Повелителя Людей и Ящериц.
Но не сразу. Даже для него, жившего на большой скорости, это был не акт, а процесс. Ему требовалось время, чтобы освоить игру, вписаться в нее. Застенчивый поэт, обитатель крыш и мотелей, клубный певец с эротической аурой, привыкший к маленьким залам и теплой атмосфере, выходя на огромные и высокие сцены, чувствовал себя как человек, вытолкнутый из чулана на всемирные подмостки. Тысячи глаз ощупывали его фигуру. Он чувствовал себя как голый на приеме у королевы. Спрятаться негде. Уютной тесноты маленькой сцены, на которой едва умещались четыре человека с аппаратурой, как не бывало. Теперь от Манзарека справа до Кригера слева оказывались десятки длинных метров. Сзади, за его спиной, вознесенный на высоченный помост, Денсмор грохотал, как машина судьбы. Актер Моррисон должен был заполнить собой эту пустоту, насытить пространство своей плотью, своим телом, своим жестом и голосом.
Это не давалось ему легко. Это был акт самоотдачи, нечто вроде жертвоприношения. Сначала он отдавал себя публике наугад, робко, неумело, но с каждым концертом туман рассеивался, робость уходила, и он видел дело во всей его простоте. Они хотят простого, грубого шоу, они хотят слышать крик и видеть, как он выворачивает себя наизнанку. Им мало песен, им надо, чтобы на сцене он был таинственным монстром из другого мира. И он становился им, выходя на сцену: мистическим, порочным, сексуальным, героическим монстром. Этот переход из состояния в состояние требовал усилия, и он совершал его, испуская дикий и жуткий вопль, без которого не обходился ни один концерт Doors; это был вопль, которым он разрушал картонные стенки сознания, превращал себя в безумную протоплазму, вздымающуюся дикими протуберанцами. Это был вопль, с которым его внутренний монстр – Шаман, Повелитель Ящериц, Король Рока – появлялся на свет.
Отныне, став всеамериканским артистом, героем рок-н-ролла, моделью для обложек и пугалом для свиней, Моррисон жил в постоянном напряжении раздвоения. Внешний мир забирал его все сильнее и сильнее. А как иначе? Он только успевал прийти в себя после одного концерта, как уже начинался другой; он только успевал поднять голову с подушки, как раздавался телефонный звонок менеджера, напоминавший ему об интервью. Рок-звезда Моррисон позировал на авансцене жизни двадцать четыре часа в сутки, бомж Моррисон и поэт Моррисон забились в дальний угол его души. Напряжение в треугольнике нарастало, и он пил. И принимал таблетки. Судя по его стихотворениям, внутри себя он по-прежнему оставался одиноким странником, чья голова наполнена туманами и фантазиями. Но что это значит – внутри себя? Как он внутри себя сочетался с тем, кто был снаружи? Как вообще устроено это раздвоение и растроение личности, вовсе не являющееся болезнью для любой творческой натуры? Иногда кажется, что был и четвертый Моррисон, который смотрел на все это со стороны, в мрачном любопытстве, ни во что не вмешиваясь. Наркотики и алкоголь снимали напряжение, размазывали границы реальности и границы личности, смешивали события и движения души в один поток.
Рок-звезда, герой, клоун, актер, поэт, миллионер, нищий… какая разница? Усталость, появляющаяся в людях после десятилетий жизни, на шестом десятке, в Моррисоне стала появляться, когда ему не было и двадцати пяти. Пока что это были только намеки, неразличимые для трех его бодрых компаньонов. Однажды он сказал, что у него нервный срыв, и попросил освободить его от Doors, но его, конечно, никто не послушал. Кроме Памелы. Она, знавшая его тяжелый сон и утреннее похмелье, говорила, что ему нужно заканчивать с рок-н-роллом. Это убивает его. Он поэт. Ему надо писать. В тишине и покое. Теперь не послушал он. Инерция жизни уже вела его. Тот, четвертый Моррисон, управлял кораблем, не предпринимая никаких действий. Плывет куда плывет. Как будет, так будет. Если Памела слишком надоедала ему своей заботой, он хамил ей, например, отказывался сажать в машину, которая должна была везти их на концерт. И она, одетая в свои стильные хипповые шмотки, с уложенными волосами, плелась назад в их квартирку, а он уезжал, чтобы через час с воплем вылететь на сцену очередного зала.
В размытом наркотическом сознании Моррисона явь часто была разновидностью сна. Как отличить концерт от видения, вызванного ЛСД, как состыковать жесткий рабочий ритм и беспрерывное пьянство? Он сочетал в своей жизни несочетаемое и поэтому очень остро, очень хорошо чувствовал условность и странность жизни, которой жил. Города, напитки, люди. Люди, города, напитки. Самолеты. Отели. Отели. Лимузины. Все чего-то хотят. Все куда-то движутся. Все это бесконечное кино. Все это мульки, друзья. Все это Strange Days. Он прикладывался к бутылке виски, которую предусмотрительно упрятывал в целлофановый пакет. Такой человек не может слишком уж всерьез принимать побрякушки и игрушки этого мира.
Его образ, известный ныне каждому – взбитая грива темных волос, черные кожаные штаны на широком ремне, украшенном серебристыми раковинами, остроносые сапоги на высоком каблуке – появился не сразу. В январе 1967 года, в передаче пятого канала ТВ Лос-Анджелеса, мы видим Моррисона в куцем пиджачке-френчике, узком в плечах, и никаких кожаных штанов пока что нет и в помине. Он и магазина не знает, где такие продаются. Есть фотографии, показывающие его на концерте в широких светлых «бананах», зауженных в щиколотках. Роскошную львиную гриву ему сделал стилист Джей Себринг, в студию которого Моррисон ходил в Лос-Анджелесе. Клиентами Себринга были люди из Голливуда. Все это означает только одно: несколько месяцев в начале 1967 года Моррисон нащупывал свой новый образ, искал свое новое соответствие для изменившихся условий. Вместо мятых маек с короткими рукавами, в которых он бродил по пляжам, – артистические блузы с тремя пуговицами под самое горло. Вместо босых ног – стильная обувь с длинными узкими мысами. Вместо мятого тряпья, в котором так удобно спать на крыше и сидеть в кафе у Оливии – расcтегнутая на груди рубашка старомодного покроя, которую Рей Манзарек почему-то называет «рубашкой русского поэта». И в результате вот он, новый Джим, затянутый в черную кожу король сцены, демонический лидер мрачной группы в пурпурной шелковой рубашке, король разъездного цирка-шапито, гремящего по американским городам и весям.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.