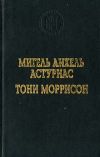Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
3.
Алкоголь Моррисон поглощал в огромных количествах. Литр виски он выпивал не в виде рекорда по праздникам, а каждый день. В отличие от Дженис Джоплин, пившей в основном свой любимый ликер «Southern Comfort», Моррисон был всеяден и заправлялся всем, чем придется. В Германии он пил местное вино, в Мексике текилу, во Франции коньяк, в Англии джин. Вместо воды он использовал пиво. Там, где обыкновенному человеку хватило бы банки, он покупал себе шесть. Раблезианское пьянство во время гастролей не прекращалось. Когда остальные музыканты, усталые после концерта, шли спать, он бодро шел в бар. Его фантасмагорическая попойка с Creedence Clearwater Revival вошла в историю. Горничная, пришедшая утром убирать номер, нашла его лежащим на столе со сложенными на груди руками и решила, что он умер. Но он не умер, он просто напился до потери сознания, и добрые Creedence осторожно положили его на стол и уехали в свой ангар, называвшийся «Cosmo′s Factory». Но обычно по утрам Мориссон бывал бодр и свеж, так, словно не надирался в компании случайных собутыльников до пяти утра. И, пока менеджеры готовили отъезд в аэропорт или в концертный зал на саундчек, он снова успевал зайти в бар и пропустить на завтрак рюмку-другую.
Он пил во всех обстоятельствах и ситуациях. С актером Томом Бейкером он напился в самолете, летевшем на концерт Rolling Stones в город Финикс; в студии компании «Elektra» он пьяным записывал сложные вокальные партии; с дружками Фредди и Весом, фамилии которых история не сохранила, напился во время записи альбома Waiting for the Sun; с классной чувихой Сейбл Сперлинг он катался по Лос-Анджелесу в ее розовом кабриолете, распивая по пути из горла виски «Wild Turkey». Вечером после всего этого они с Пам выпивали бутылочку-другую винца и выясняли отношения. Он никогда не был смирным алкоголиком, согласным тихонько приткнуться с бутылкой в углу и сладко посасывать огненную воду; активность Моррисона в пьяном виде зашкаливала. Он кричал, смеялся, размахивал руками, плел невесть что и в приступе энергии деятельно учинял дебош за дебошем. В дорогом нью-йоркском винном погребе, прыгая по столам, он вытаскивал из витрин бутылки со старым выдержанным вином, каждая из которых стоила пару тысяч долларов, и щедро раздавал их знакомым и незнакомым людям; в другой раз в другом баре он танцевал на столах, представляя себя то ли Фредом Астером, то ли своей любимой Марлен Дитрих.
Моррисон, перепробовавший чуть ли не все алкогольные напитки мира, прекрасно знал о двойственной сущности алкоголя. С одной стороны, он возбуждает и дает человеку храбрость, а с другой – погружает его в ничтожество. Он называл алкоголь и «орлиным эликсиром», и «изысканным ядом из тараканов». Горький и терпкий, острый и тупой, возбуждающий и отупляющий, согревающий кровь и будоражащий мозг – алкоголь превращал пафосного Повелителя Ящериц в веселое чучело с разъезжающимися глазами. В этом состоянии он охотно звонил друзьям и коллегам с сообщениями разной степени важности. Робби Кригеру он однажды сообщил по телефону в четыре часа утра: «Здравствуйте, я Господь Бог, я подумал и решил отправить вас на хрен из этой Вселенной!» Бесконфликтному, интеллигентному Робби это даже понравилось.
Моррисон знал о себе, что он запойный алкоголик. Запойный алкаш – отброс общества, перекати-поле, никчемный человек, неуместный в порядочном обществе. Вот именно этим самым он и был. И знание о том, что он запойный алкаш, на котором скоро пора будет ставить крест, давало ему чувство смирения. Однажды, когда он уже совсем пошел вразнос, трое других пригласили его в дом Стю Кригера на беседу. Но что они могли сказать ему? Что пить нехорошо? Что своим беспрерывным пьянством он ставит под угрозу их карьеру? Что наносит вред своему здоровью? Все соображения здравого ума выглядят нелепой чепухой перед высокой истиной сумасшедшего. Смиренный алкоголик Моррисон выслушал их и пообещал, что постарается завязать. Естественно, он и не пробовал. В солнечной, пронизанной прекрасным теплом Калифорнии он пил, как последний эскимос, в столице мира Нью-Йорке он поддавал, как деревенский мужик, и в номерах фешенебельных отелей он орал, ревел и бросал посуду в стену, как словивший белку дебошир. В его пьянстве было что-то безбрежное, дикое, славное, славянское – русское.
Пьяный сет в кругу близких друзей, включающий в себя нечленораздельный рев в микрофон и прыжки по столам и стульям, не был наивысшим спортивным достижением Джима Моррисона. Он продолжал ставить рекорды. 7 марта 1968 года состоялось событие, которое могло бы войти в анналы рока: Джим Моррисон и Джими Хендрикс выступили вместе в клубе «Paul’s Scene» в Нью-Йорке. Но что значит выступили? Выступал Джими Хендрикс, а Джимми Моррисон спьяну залез на сцену и принялся орать. Первые пять минут этого концерта они действовали каждый сам по себе: Хендрикс играл блюз, а Моррисон с пьяным упорством кричал в зал: «Fuck you! Fuck you, baby! Fuck you, поняли все? Имел я вас всех! Я вас имел!» Никто особенно не переживал и не реагировал. Он кричал свои любимые слова на все лады и даже пытался приспособить фразу к мелодии песни. Он очень старался оскорбить публику, но при этом плохо держался на ногах и невнятно артикулировал. Вскоре он исчез – может быть, отправился добавить пивка за кулисы, а может, его стащили со сцены охранники – но затем появился опять и принялся за прежнее. Его нечленораздельный вой и протяжные вопли на протяжении всего концерта трудно назвать пением.
Хендрикс в этот вечер был прекрасен. Я не знаю, распивал ли он с Моррисоном перед концертом или нет, но в любом случае ничто не могло помешать ему в его мощных, густых импровизациях. Его гитара в «Paul’s Scene» владеет миром. Звук течет и извивается, как раскаленная лава, стекающая по бесконечным склонам огромного вулкана, верхушкой уходящего за облака. А Моррисон рядом с ним – просто паяц, которому не стыдно своего унижения, просто дурачок, который сам не понимает, что творит. Так кажется. Но это слишком простое объяснение для мистера Джеймса Дугласа Моррисона.
Были ли пьяные выступления Моррисона всего только потехой молодого героя – или тут следует видеть нечто более глубокое? Моррисон был слишком тонким и сложным инструментом, чтобы даже в пьяном виде играть примитивный дурацкий мотив; в его странных выходках и мозаичных стихотворениях страдает разрубленное на куски сознание. Публика, которая жадно пожирала его на сценах американских городов, сначала вызывала у него радостное недоумение: ну надо же, они хотят меня! – но потом недоумение стало сменяться раздражением и даже ненавистью. После сотни концертов перед десятками тысяч человек он уже очень хорошо знал, что они приходят на концерт Doors, как в пиццерию: перекусить его телом, выпить его голос. Он их раб, их пища, их жертвенный агнец. Он то, чем они, эти трусливые сукины дети, никогда не смогут стать; человек за чертой, отверженный, юродивый, сумасшедший. Иными словами – поэт. И для него все возможно.
Он кормил собой не только массы публики, он кормил собой и трех других Doors. Они питались его мозгом, его душой, его энергией. Если и есть в Моррисоне что-то христианское, то именно здесь, в этом самопожертвовании во имя друзей. От них концерт требовал не самопожертвования, а всего лишь мастерства. Какая малость. Они были музыканты, и только. Они пристойно, грамотно и за хорошие деньги выполняли свои роли и партии, а он каждый раз скармливал себя жадным человеческим существам, охочим до впечатлений. Но какие противодействия вызывали в нем его собственные действия? В какой яд перерабатывал он свою собственную славу? Вылезая на сцену невменяемым, обдолбанным и пьяным, он – очень может быть – мстил им всем за то, что они из него сделали. Вы хотели зрелища, вы мечтали об острых ощущениях? Вы хотели меня, ну так вот он вам я, безумец и отброс, получайте! Молчание и смущение публики вызывали у него странную радость и только усиливали кураж.
Концерт 5 июня 1968 года в «Hollywood Bowl» был очередным торжеством и очередным испытанием группы. Выступить в престижном Голливуде, перед огромной аудиторией в восемнадцать тысяч человек – такого они еще не переживали. Здесь когда-то играли Beatles. Это возносило Doors на самую вершину, превращало в музыкальных богов. Трех музыкантов пугало, что им придется играть на необычной для них открытой площадке, представлявшей собой сцену-раковину; Моррисона не пугало ничего. Чтобы избежать рассеяния звука и создать плотную звуковую среду, звукотехники расставили несколько сотен динамиков вокруг концертного зала. Послушать Doors прилетел из Англии Мик Джаггер, которого Моррисон, кстати, терпеть не мог. Он чувствовал фальшь в этом кривляке и ломаке. Столь ответственного выступления перед столь большой аудиторией у группы еще не было.
За кулисами нервный и перевозбужденный Джон Денсмор, старавшийся держать все под контролем, потребовал, чтобы каждый написал на бумажке названия четырех вещей, с которых группа начнет концерт. По итогам всеобщего голосования первой была названа When the Music’s Over. Странный выбор: мощная композиция о последних вещах с большим основанием могла бы заключать концерт. Манзарек начал с длинного органного соло, а вслед за When the Music’s Over последовали Whiskey Bar, Back Door Man и Five to One, сыгранные без перерыва. Уже тут, в начале концерта, во время исполнения Back Door Man, обнаружилось, что Повелитель Ящериц находится в прекрасном расположении духа, хотя и не в себе. В один из моментов он зачем-то чмокнул микрофон, издавая не вполне приличный звук, отчего публика рассмеялась, а сам он расплылся до ушей в хитроватой шкодливой улыбке. На записи концерта слышен его идиотский смех и выкрики «Love my girl!» и «She looks at me!». Кто должен любить его девушку и кто там на него в этот момент смотрит – Памела Курсон из пятого ряда или Мэри Вербелоу из района Калькутты, – нам никогда не узнать. Известно только, что перед концертом – назло чувству ответственности и для увеселения души – Моррисон зарядился кислотой.
На этом концерте – одном из немногих – Doors сыграли Spanish Caravan. Затем пришел черед Light My Fire, первые аккорды которой вызвали рев восторга. Сотни спичек и зажигалок горели в темном воздухе, когда Doors играли эту вещь, полную огня. Вообще зал был живой, и овации следовали то и дело. Во время имитации расстрела в Unknown Soldier завыла воздушая сирена: это постарался Рей Манзарек со своим органом. Сам расстрел – Робби Кригер держит гитару наперевес и палит из нее, и Моррисон падает как подкошенный – вызвал в публике возбуждение и смех, а вслед за фразой «The war is over» последовали новый восторженный рев и новые долгие аплодисменты. Война окончена! Здесь, этим вечером, на холмах Голливуда, в теплом воздухе Калифорнии, под черным звездным небом война была наконец окончена – не только вьетнамская, но вообще всякая и любая война сегодня, завтра и послезавтра и во веки веков. Аминь. Последней вещью на концерте стала The End – после нее ни сказать, ни сыграть уже ничего невозможно.
Был ли концерт в «Hollywood Bowl» успехом или провалом, неизвестно до сих пор. Витающий в иных мирах веселый алкаш Моррисон благополучно избежал этого вопроса, так волновавшего всех, кто работал над продвижением группы. В тот вечер в его состоянии духа для него все было успехом. Оптимист Манзарек полагал выступление удачным: как может быть неудачным концерт, на который пришли восемнадцать тысяч зрителей во главе с Миком Джаггером? Но мнительный Денсмор – постоянно напряженный комок нервов, все время ожидающий очередной выходки Моррисона и катастрофы – считал концерт полным провалом. Он полагал – справедливо или нет, я не знаю, – что Повелитель Ящериц подвел друзей, наглотавшись перед концертом кислоты, и умышленно провалил концерт, валяя дурака в самых патетических местах. Кажется, за кулисами Джон Денсмор даже бросил в раздражении палочки на пол.
4.
В сентябре 1968 года Моррисон впервые в жизни перелетел океан и прибыл в Европу, где когда-то сходил с ума его любимый философ, больной сифилисом Ницше, и слагал стихи в алкогольном бреду его любимый поэт, гомесексуалист Рембо. На трапе самолета на лице его вдруг появилась непроизвольная улыбка ребенка, который не может скрыть удовольствия. Это удовольствие не связано с чем-то конкретным, оно произрастает из хорошей погоды, положения светил, круговорота лиц, ощущения любви. Такую улыбку не сыграешь, ее невозможно симулировать, да и зачем ему это? Он улыбается радостной улыбкой ребенка, который смущен вниманием к себе и при этом очень рад.
Прибытие Doors в Европу зафиксировано на кинопленке. У трапа его уже ждут люди с кинокамерой. Его спрашивают о профессии. Трое, сошедшие перед ним, отвечали на этот вопрос ясно и четко, Манзарек значительно, Денсмор просто, Кригер изящно. У Моррисона вопрос вызывает радостное недоумение. Род занятий? Он закидывает голову вверх, с иронией и лукавством смотрит в камеру, не знает, что сказать. Глядя на его лицо, легко представить ход его мыслей. Кто я? Ну да, эти чуваки хотят знать, кто я! Музыкант? Поэт? Повелитель Ящериц? Шаман? Клоун? Все сразу? Он реагирует как человек, который каждый обращенный к нему вопрос – даже банальное «Как дела?» – воспринимает всерьез, а не как поп-звезда, у которой на все вопросы тут же есть заранее заготовленные, звонкие и пустые ответы.
Два концерта во Франкфурте, последовавшие в один вечер, не удались. Первый Doors отыграли рутинно и небрежно, так, словно они уже закоснели в своем величии. Возможно, они действительно чувствовали себя живыми богами рока, снизошедшими в провинциальную Европу из продвинутого Лос-Анджелеса; а возможно, они ощутили, что публика в зале не та. Зал был мертв, оттуда не шел воздух. Моррисон был чувствителен к таким вещам. Концерт во Франкфурте был статусным мероприятием, на которое съехался продвинутый немецкий бомонд. Они пришли не затем, чтобы восхищаться Повелителем Ящериц (а он любил, когда им восхищаются) и не затем, чтобы погрузиться в его клубящийся бредом мир; нет, эти люди в пиджаках и при галстуках пришли посмотреть на американское чудо-юдо, о котором шли слухи, что оно плюется со сцены, изрыгает огонь и кроет всех матом. Взаимного равнодушия публики и группы во Франкфурте Моррисон никогда не забывал и всегда говорил потом о немцах с иронией. Похоже, он так и не простил им их тупости. На второй концерт в тот же вечер он вышел уже раздраженный и из чувства противоречия пел блюзы, тогда как люди в зале хотели, конечно, Light My Fire. И имели наглость сначала просить эту вещь, а потом даже требовать. Он послал их в задницу, обозвал грубыми словами, замахнулся микрофонной стойкой и, разбежавшись, чуть не запустил ее в десятый ряд, как копье; но в конце концов смилостивился и спел им их любимую песню. Он закончил концерт с той решительностью, с какой хозяин встает с места, давая понять гостю, что тот засиделся. Немцы засиделись на его концерте. Им было пора идти вон. Германия, иди вон! Он выставил их на улицу, а потом, когда они ушли, устроил в пустом темном зале отчаянный сет. Мне неизвестно, существует ли запись этого сета, но мне известны воспоминания людей, которые, услышав звук органа и гитары, из полупустого вестибюля франкфуртского Дворца выставок бегом вернулись в зал и услышали то, что так хотели услышать.
Хендрикс играл свои сорокаминутные импровизации без единого зрителя, стоя лицом к белой оштукатуренной стене. Моррисон в сентябре 1968 года в пустом темном зале в чужой стране снова пытался прорваться в иное пространство. Он обрел себя только тогда, когда любопытная публика отвалила к черту. И тут, перед пустыми рядами кресел, Повелитель Ящериц, затянутый в черную поблескивающую кожу, снова пел про смерть и плясал свои дикие танцы.
Вершина европейского тура – это Амстердам. После пьяной Германии, где Повелитель Ящериц, продегустировав сладкое вино «Goldner Oktober», заказал себе двести бутылок, наступал черед наркотической Голландии. Моррисон прибывает во всемирную столицу хиппи, в самый свободный город на свете. Эта свобода чувствовалась в Амстердаме и тридцать два года спустя, когда я сошел с поезда, пришедшего в центр города из аэропорта Шипхол, и пересек просторную привокзальную площадь. Дюжий черный парень в синем комбинезоне, собрав вокруг себя небольшую толпу, с серьезным лицом учителя жизни объяснял что-то людям. Тут же тусовались растаманы с косичками и подростки с бритыми черепами. Малайские эмигранты пели реггей. Справа звенела гитара, слева весело и ритмично постукивали ладонями по мусорным бакам обтрепанные оборванцы. Между всех этих групп и группок носились на роликовых коньках стройные девочки в бриджах, с обнаженными икрами.
Нигде никогда я не испытывал такого чувства свободы и безопасности. Московская свобода пахнет стрессом, грубостью, деньгами и агрессией. Безопасность в Москве – это черные металлические двери подъездов и квартир, охранники в продуктовых магазинах, решетки на окнах первых этажей. Мой друг, имеющий бизнес, одно время приезжал к футбольному полю, где мы по воскресеньям гоняем мяч, в сопровождении двух милицейских автоматчиков в бронежилетах. В Амстердаме люди не ходят в камуфляже: война против герцога Альбы закончилась давно и навсегда. Свобода тут уже отстоялась, очистилась, сделалась комфортабельной и приятной. Хиппи как движения не существует, но хиппи как отдельные люди здесь все еще есть; утром в павильончике автобусной остановки я видел девушку в фенечках и с рюкзачком, которая напомнила мне времена автостопа. И поздно ночью, шагая по широкой улице с трамвайными путями, я видел двоих парней, которые спокойно и не торопясь что-то делали у светящейся витрины аптеки. Они ушли, и я увидел на асфальте брошенный шприц.
Я шел в Амстердаме по набережной вдоль канала, мимо индийского вегетарианского ресторана, за столиками которого сидели добродушные туристы, а вокруг бегали смуглые хозяйские дети, и вдруг мне на голову упало несколько капель воды. Я поднял глаза и увидел, что со второго этажа, высунувшись в окно, на меня радостно смотрит индус в белой поварской куртке. Это он брызнул на меня водой и теперь улыбался, уверенный, что я разделяю его радость. В другой раз я шагал по проложенной прямо по тротуару дорожке, вымощенной светлыми плитками, и раз за разом слышал позади себя дреньканье звонка. Наконец до меня дошло, что дорожка предназначена для велосипедов. Но никто не обругал меня козлом, никто не пообещал меня убить и не сделал рукой неприличный жест в мою сторону. О, жители Амстердама, милые и терпеливые велосипедисты, потребители марихуаны и сторонники свободной любви, ваше терпение безгранично!
В Москве, городе тщеславия и жадности, где гордятся высокими ценами на жилье и время от времени ритуально отстреливают банкиров, мирные амстердамские забавы кажутся причудой и блажью. Странно, что в Амстердаме находятся люди, решившие скрутить самокрутку длиной полтора метра, засадить туда полкило марихуаны и выкурить в компании сотни приятелей и друзей. Еще более странно, что эти веселые люди отменяют мероприятие, потому что после сложных вычислений на калькуляторах приходят к выводу, что на одного человека придется более пяти граммов травки, а это уже нарушение закона. Законопослушные наркоманы расходятся по кафе, клубам, барам и квартирам и курят там свои положенные четыре с половиной грамма, запивая их хорошим сухим вином и заедая знаменитым яблочным пирогом, который и я попробовал, сидя за столиком кафе на ночном канале. В Москве меня, перепутавшего полосу движения, уже давно ослепили бы фарами, оглушили гудками и напугали страшными рожами, а тут всего лишь мирно подренькали велосипедным звонком. И я полюбил этот город.
Моррисон, побывавший в Амстердаме летом 1968 года, не катался тут по дорожкам на велосипеде, как это делал в Лос-Анджелесе. Это точно. Ему было не до велосипедов. Вряд ли он вообще мог хоть что-нибудь сказать об этом прекрасном городе. Он до него не доехал, его до Амстердама довезли. Если он и увидел его, то пьяными глазами, едва видными из-под самовольно опускающихся век. Есть у него такое выражение лица: веки ползут вниз, глаза ушли под них, губы едва шевелятся, сознание помутилось, речевой аппарат увязает в словах, как в глине, но он все равно упорно продолжает говорить, и лицо его с каждым словом делается все умнее и умнее. Это выражение лица и голоса отлично назвали безымянные создатели бутлега: stoned but articulated. Моррисон погрузил себя в это состояние в тот момент, когда в аэропорту менеджеры попросили группу избавиться от наркотиков. Была информация, что немцы могут устроить на границе шмон. Моррисон – ну прямо послушный мальчик с чистым взглядом! – тут же достал огромный пакет дури и, к ужасу окружающих, проглотил его.
Идеальная биография состоит исключительно из воспоминаний очевидцев. Те, кто участвовал в событиях и видел происходящее своими глазами, имеют преимущество перед автором, который сидит за своим компьютером тридцать шесть лет спустя и рисует картины возможного, но не действительного. Автору кажется, что все было так, как он пишет, но очевидцам не кажется, они точно знают, что и как происходило, они видели это своими глазами. Правда, человеческие глаза часто обманываются, ощущения врут, память путается, симпатия и раздражение искажают образы, но очевидец все равно первичен. Он – жрец прошлого, распорядитель правды. Он видел, а все остальное версии. Он был на сцене жизни, участвовал в событиях, а все другие сидят в партере и смотрят на вечно повторяющуюся историю Повелителя Ящериц или Ричарда Львиное Сердце, Матери Терезы или Отца Народов.
Два отрывка, выуженные из разных источников, стыкуются идеально, словно это единое цельное повествование. Первый – из интервью Рея Манзарека. Второй – из интервью, которое бывший пресс-секретарь Doors Барнард дал одному из поклонников группы в Интернете. Моррисон в этом повествовании предстает перед нами во всей легкости и свежести своей молодости. Но это не только его личная, индивидуальная молодость, это молодость рок-движения, которое идет на подъем. Это 1968 год, и ветер развевает волосы героев, гитары ревут на весь белый и черный свет, пацифики украшают лбы, выпивка льется рекой, Люси танцует в небесах с алмазами, хиппи в Париже носят веночки из полевых цветов, хиппи в Стокгольме занимаются любовью в фонтанах, Тимоти Лири по-прежнему проповедует всеобщий доступ к ЛСД, старые хрычи озабочены, и скоро молодежь окончательно и бесповоротно завладеет миром. Революция на пороге. И что молодежь сделает тогда с этим миром, со всеми его бетонными клетками, стальными решетками, призывными пунктами, офисами власти, что она сделает с банками и корпорациями, которые подобны отжившим свое время бронтозаврам с длинными шеями и на гигантских толстых ногах? Она трахнет их, вздрючит их, раскрасит гуашью, обклеит сердечками и афишами концертов Grateful Dead и Jefferson Airplane, научит торговать воздушными шариками и косячками травы, рассмешит и заставит плясать под веселый Rock and Roll Medley!
Итак, Рей Манзарек рассказывает о концерте в Амстердаме. Вот что случилось после того, как Моррисон с невинной улыбкой пай-мальчика заглотнул мешок дури. «О, что это было за шоу! Я никогда не забуду, как Джима выносят на носилках… В самолете он пил, желая спиртным облегчить свое состояние. В гостинице в Амстердаме он продолжал пить, но уже начал, так сказать, выходить за пределы этого мира. Мы поехали в концертный зал, там играли Jefferson Airplane, мы должны были выступать после них. Джим вышел на сцену в состоянии полного улета. Он пел вместе с Jefferson Airplane. Танцевал посредине сцены. Он обнимал Грейс Слик, делал непристойные жесты и хватал ее за попку. Потом он еще минут пять танцевал за кулисами. Возвратился в артистическую уборную. Все пытались вернуть его: «Джим! Джим!» Тем временем Jefferson Aiplane закончили выступление. Наши инструменты готовы. Вызвали врачей. Приезжает санитарная машина, врачи входят, смотрят на Джима и говорят: «Слушайте, да этот парень никоим образом не может выступать! Мы забираем его в больницу». Они кладут его на носилки, накрывают прорезиненной простыней и надевают кислородную маску на лицо. Я вошел в уборную за пять минут до концерта. Только говорю: «Джим, нам пора!» – как вижу, что двое врачей выносят его на носилках. Они засовывают его в санитарную машину, врубают сирену и уезжают. Джон, Робби и я смотрим друг на друга, а наш ассистент твердит: «Давайте… ну давайте же… все готово». Что делать? Администратор говорит: «Мы не можем отменить концерт! Выходите на сцену и играйте! Ну, как-нибудь, парни!» Я говорю: «О'кей, Винс! Установите микрофон поверх моих клавишных. Робби тоже дайте микрофон. Ладно, сейчас мы выйдем на сцену и будем надеяться, что они нормально воспримут отсутствие Моррисона. Мы ни слова не скажем им об этом. Мы просто выйдем и начнем играть, и я надеюсь, что они не заметят, что Моррисона нет». И мы прошли через это. Публика не обратила внимания. Никто не сказал: «Эй, а где Моррисон?» Но это была самая трудная ночь в карьере Doors.
Леон Барнард продолжает рассказ. «После того, как Моррисон вырубился в Амстердаме, съев гигантскую дозу гашиша и запив ее виски, я на следующий день навестил его в больнице. Он сидел в кровати с ясными, сияющими голубыми глазами и розовыми щеками, словно картинка хорошего самочувствия, которая подошла бы для любого журнала, посвященного проблемам здоровья. Врачи настояли на том, чтобы он еще один день провел в больнице, и он попросил меня принести ему жевательную резинку и журнал „Playboy“. Когда я рассказал ему о моем собственном опыте пребывания в больнице, он посмотрел на меня с той особенной силой, о которой ты спрашиваешь, и в этот момент я почувствовал, что он читает в моей душе».
Моррисон выключился от сверхдозы вечером 15 сентября. 16 сентября он еще был в больнице. А 20 он уже дал в Стокгольме потрясающий концерт. Концерты Doors, выпущенные на бутлегах, очень непохожи, группа нигде не играет одинаково, ее стиль меняется, в нем то преобладает рок, то нарастают джазовые элементы, но все-таки именно концерт в Стокгольме я считаю самым лучшим из всех, какие слышал. И если бы Повелитель Ящериц спросил меня, на каком его концерте – одном-единственном! – я хочу побывать, я выбрал бы вечер 20 сентября 1968 года в шведской столице.
Север Европы. Город на фиордах. Холодное небо сентября. Я был тут лет через двадцать после концерта Doors и удивлялся сдержанным благородным тонам этого города. Но именно здесь, в этом серо-голубом городе, Моррисон вдруг обрел публику, которой ему так не хватало во время европейской поездки. Здесь его любили еще до того, как он вышел на сцену. Аплодисменты, которыми его приветствовали, и сейчас, раздаваясь из динамиков моей стереосистемы, на пару градусов поднимают температуру в комнате. Теплое, душевное единение зала и сцены началось с первой же минуты и продолжалось все семьдесят минут концерта. Это больше, чем обычно играли Doors. Группа дважды заканчивала выступление и дважды начинала снова, уступая публике и не желая расставаться с ней. Концерт закончился только после того, как Моррисон спел The End. После этой песни продолжение никогда невозможно.
Группа раскрылась так, словно они в этот вечер вышли вон из собственного имиджа, неудобного, как картонная коробка. Уже в первой вещи, Five to One, возник никогда и нигде не повторенный дуэт Моррисона с Манзареком. Это пение в два голоса удивляет. Удивляет еще множество вещей, которые не имеет здесь смысла перечислять: все эти мелкие вокальные находки и внезапные гитарные включения были импровизациями чистой воды, по-новому расцветившими уже знакомые вещи. Даже из требования выключить свет и погрузить зал в темноту перед исполнением The End группа сделала маленький вокальный кунстштюк: мощное хоровое агрессивное пение, кажется, сейчас сшибет микрофоны со стоек. «Turn off the light!», – поют они и сильными голосами гонят к выключателям электриков.
Это концерт для гурманов, которые любят смаковать оттенки звука, подробности текста, изменения инструментала и стихотворные импровизации. Короткий звук гитары Кригера в том месте, где его нет в канонической записи, наполняет душу веселым восторгом; а маленькая, но ощутимая пауза в том месте The End, где должна последовать обращенная к матери строка: «Mother, I want to fuck you!», заставляет гурмана и знатока понимающе улыбнуться. Вот это пауза, она длится, и мы как будто видим Повелителя Ящериц, застывшего на темной сцене, в мрачном красноватом свете, который излучают лампочки усилителей; он балансирует на невидимой черте, стоя с опущенной головой на одной ноге, и никак не решается обрушиться в одну или в другую сторону. Спеть эти слова полностью, врезать ненавистью в приятные милые шведские лица, выплюнуть в зал самый жестокий и шокирующий вариант, тот самый, из-за которого бедный дурак Танзини когда-то выгнал их взашей из клуба «Whisky a Go-Go?» Но милосердие побеждает в нем, и желание сберечь теплую атмосферу в зале оказывается сильнее страсти к провокации, и он опускает непристойный глагол и ограничивается фразой «I want you», которую все прекрасно понимающий Манзарек тут же топит в громком реве своего органного баса.
5.
Однажды вечером в Лос-Анджелесе – это было вскоре после возвращения из Европы – Моррисон вернулся в свой номер 32 во все том же зеленом корпусе все того же мотеля «Alta Cinerga» и обнаружил, что комната полна незнакомых людей. Он удивился. Кто их сюда позвал? Его они игнорировали. Они ходили по комнате, наливали, выпивали, смеялись, курили косяки, упоминали старых друзей и вообще приятно проводили время на вечеринке. Он подумал, что ошибся дверью, но нет, дверь была выбрана верно, он просто попал в другое место другой жизни и другого времени. Бывает.
Рассказывая об этом происшествии, Моррисон был тих и задумчив. Он воспринимал его не как пьяный анекдот, а как намек на некую истину, которую необходимо усвоить. Но что он должен сделать, как поступить? С некоторых пор его право распоряжаться собственной жизнью и управлять ей было сильно урезано, а может быть, он уже и вовсе лишился такого права. В конце 1968 года не он владел своей жизнью, а она им. Позитивист Манзарек исходил из того, что человек может быть другим; перенапряженный, нервный, погрязший в комплексах ворчун Денсмор настаивал, что человек должен быть другим; а Моррисон знал, что и не должен, и не может. В свои двадцать пять лет он уже ощущал тяжелую и необоримую силу жизни, которая властно тащила его к тому, что среди людей принято считать концом. Но он предполагал, что это может оказаться началом. В любом случае ему проще было двигаться дальше, чем тормозить, а его любопытство всегда было с ним.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.