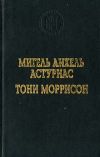Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Суд тянулся месяцами. Его адвокаты подали протест на приговор, и пятьдесят тысяч долларов залога пока что обеспечивали ему свободу, но от него теперь ничего не зависело, и он жил в ситуации кролика в клетке, которого в любой момент могут взять за уши и потащить на убой. Ему грозило полгода тюрьмы. Пустячный срок для энтузиастов бунта и пророков мятежа, но ужасная перспектива для человека с истрепанными нервами и плохо работающей печенью. Он знал, что не может идти в тюрьму, не хочет идти в тюрьму, не выдержит похода в тюрьму. Умрет в тюрьме? Этот страх тоже был в нем, и он даже не пытался его скрывать. Есть много свидетельств того, что смерть Джими Хендрикса и Дженис Джоплин потрясла его. С Хендриксом он выступал в клубе «Paul’s Scene», с Джоплин не выступал никогда, хотя Пол Ротшильд одно время носился с идеей свести их в студии, чтобы они вдвоем записали пластинку. И вот теперь они взяли и ушли, отвалили из этого мира резко и независимо, он 18 сентября 1970-го, она на две недели позже, 4 октября. Выпивая с Бэйбом Хиллом и Полом Феррарой, Моррисон сказал им с усмешкой, в которой не было ни героического бесстрашия, ни мужественного стоицизма, а только уныние и печаль: «Вы пьете с номером третьим».
С середины декабря группа работала в студии «Sunset Sound Recorders», записывая альбом, который вскоре получит название L.A. Woman. Концертов после 12 декабря больше не было. Doors явно выпадали из обоймы, сходили с дистанции. В 1967 году, когда все только начиналось, они дали 159 концертов. Дальше выступлений на публике становилось меньше и меньше: в 1968-м их было 63, в 1969-м 47, а в 1970-м только 27. При этом росло количество отмененных концертов. В 1970 году было отменено 9 выступлений группы – треть от состоявшихся концертов и больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых.
На конец лета и начало осени 1970 года было запланировано второе турне Doors по Европе. 31 августа группа должна была играть на новом фестивале, который организовывал Клод Нобс в швейцарском городке Монтре; фестивалю со временем предстояло стать крупнейшим событием рок-н-ролльной и джазовой Европы. В декабре 1971, когда Моррисона уже не будет в живых, Deep Purple сожгут здесь казино и напишут свою великую Smoke on the Water. 2 сентября Doors должны были играть в Копенгагене, 10 сентября в Бремене, 11-го в Риме, 12-го в Милане и, наконец, 14-го в знаменитом парижском зале с черными стенами – в «Olympia». Но ничего этого не случилось, все концерты были отменены, билеты сданы обратно в кассы.
Группа находилась в шаге от распада. Трое других Doors были раздражены на него за то, что он так безответственно разрушил себя, а он не скрывал от них своих планов. Есть очевидцы, утверждающие: Моррисон говорил, что уйдет из группы, еще в конце августа 1970-го, во время фестиваля на острове Уайт. В октябре 1970 года в интервью Cалли Стивенсон он сказал, что если бы ему представился шанс начать жизнь заново, он прожил бы ее «маленьким незаметным художником, который ловит кайф в четырех стенах». Но трое других Doors в это не поверили. Они считали его неотъемлемой частью самих себя, чем-то вроде своей живой собственности. Без Моррисона группа Doors существовать не могла, следовательно, Моррисон всегда будет частью группы. Так они думали. Его намеков они не улавливали, его страха и его усталости они не замечали, а его попытки начать новую жизнь вне Doors раздражали и обижали их.
В конце семидесятого года, в ноябре или декабре, Моррисон спел в студии песню под названием Paris Blues, но они и тут не поверили в его близкий побег во французскую столицу. Блюз не вошел в L.A. Woman и вообще никуда не вошел. Я искал его, но на известных мне бутлегах его нет. Наверное, пленка, вобравшая в себя голос Моррисона, тоскующего по Парижу, до сих пор хранится в секретном сейфе компании «Elektra».
Когда же он все-таки собрался и уехал в Париж, они, закончив сведение двух последних дорожек нового альбома, в расслабленном ничегонеделании ждали его возвращения. Раз или два в неделю они встречались в студии, немножко играли, немножко сочиняли. Они были похожи на детей, оставшихся в доме и ждущих возвращения взрослого. Эти вещи, думали они, понадобятся, когда Повелитель Ящериц к ним вернется. Тогда они затеют новую игру, закрутят новую историю.
Так ли это было, вся ли правда сосредоточена в описании верных друзей, ожидающих возвращения товарища? Возможно, не вся. Возможно, каждый из них вздохнул с облегчением, когда их вождь наконец отвалил в Париж. Этот алкоголик измучил их своими беспрерывными выходками, этот сумасшедший достал их, постоянно являясь в студию обдолбанным. Он притаскивал в студию друзей-алкашей, приходил в назначенный час, но на сутки позже, бросал об пол телевизор и на глазах у всех принимал наркотики, наркотики, наркотики. Чертовы наркотики! С ним невозможно было работать. И может быть, они думали, что теперь смогут обойтись без него.
5.
В начале марта 1971 года Повелитель Ящериц отправился на машине к мексиканской границе. Его голубая «Blue Lady» к этому времени уже покоилась на автомобильной свалке, разбитая о фонарные столбы, заборы, парапеты, ограждения и стены. Новую машину Моррисон покупать не стал. Как принципиальный бомж и человек не от мира сего, он предпочитал обходиться минимумом собственности. В конце 1970 и начале 1971-го он ездил на взятом в аренду зеленом «Dodge Challenger». Это самая обыкновенная американская машина, в которой нет шика роскоши и которую нельзя рассматривать как особо удачное средство для получения адреналина в кровь. Просто большой железный ящик на колесах.
Мексика всегда была традиционным местом исчезновения мятежных американцев; когда-то туда отправился Джон Рид, в конце концов оказавшийся в Москве и похороненный на Красной площади. Чуть раньше Моррисона в Мексику рванул знаменитый Нил Кэссиди, чтобы умереть там от смеси барбитуратов и алкоголя. Его тело нашли рядом с железнодорожными путями. Куда он шел и какие вообще у него были планы – неизвестно. Никаких упоминаний о пребывании в Мексике в стихотворениях Моррисона нет, и никаких описаний поездки двух друзей не осталось.
Моррисон с Бэйбом Хиллом, сменяя друг друга за рулем, понеслись на юг, но, скорее всего, не доехали до цели, а остановились в захолустном мотеле и выпили там весь запас виски. Бэйба Хилла можно увидеть на кинохронике времен процесса в Майами; он похож на еще одно издание бородатого, обросшего, грузного Моррисона, но в нем нет усталой экзистенциальной тоски и пророческой глубины. Бэйб Хилл – здоровый мужик с мощными руками лесоруба и окладистой бородой, которому все нипочем. В его бороде блуждает улыбка бравого солдата Швейка. Он всегда в хорошем жизненном тонусе, всегда готов поддать и очень любит кататься на мотоцикле. Если надо, даст и по роже. Он надежен, как бицепс боксера, и прост, как бутылка водки. Это не первый раз, когда он составляет компанию Моррисону в его побегах; как-то раз они вместе удили рыбу и ездили в Нью-Йорк на бой Али с Фрезером. С ним можно бухать ночь напролет, заливать себя алкоголем по уши, нажираться до положения риз, надираться до заплетающихся ног и в конце концов падать в постель в сапогах. Для Бэйба Хилла все это дело житейское.
Смешение себя с грязью – одно из занятий алкоголика Моррисона. Дело даже не в его любви к скандалам и дебошам, дело в том, что он все время норовит выпасть вниз, в пьяную грязь, в мерзость осквернения. Его отношения с Памелой и Патрицией двусмысленны; он ведет себя то как маленький князек, помыкающий своими подданными, то как холодный садист, причиняющий боль, чтобы посмотреть, как страдает жертва. А когда жертва страдает, он плачет вместе с ней. Это не преувеличение: Патриция Кеннили в своих мемуарах оставила несколько описаний плачущего от сочувствия к ней Моррисона. Ему нужно опуститься на самое дно, чтобы там почувствовать просветление; ему нужно окунуться с головой в грех двоеженства, чтобы испытать ощущение собственного ничтожества. Но никто никогда не смеет сказать ему об этом! Никто не смеет говорить ему о том, что он спивается, и что он ведет себя со своими безропотными женщинами как лживый садист, и что он измучил окружающих и вообще созрел для лечебницы для алкоголиков и наркоманов. В нем есть гордость падшего человека, который не станет отвечать на упреки, а повернется спиной и с достоинством уйдет.
В начале 1971 года, когда Памела улетела в Париж, Моррисон вместе с Патрицией Кеннили поселился в ее квартире на Вест Нортон авеню. Странный поступок. Мне непонятно, как два этих тонких и чувствительных человека выдерживают жизнь в месте, где абсолютно все – стены, кровать, посуда, зеркало, ванная – должно напоминать им Памелу. Здесь все пропитано ею. Здесь витает ее тоска, ее одиночество, ее растерянность. На этой кухне она готовила еду, ожидая Моррисона к ужину, в этой постели он спал с ней, а теперь спит с Патрицией. Моррисон должен был все это чувствовать. Зачем он свел двух своих женщин в одну точку пространства, зачем он наложил одно воспоминание на другое, смешал в памяти рыжие волосы одной и рыжие волосы другой, зачем перепутал губы, голоса, тела, слова, оргазмы? Так может поступать только человек, страдающий от глубокой нелюбви к самому себе.
Джим Моррисон отвез Памелу Курсон в аэропорт 14 февраля, в День Святого Валентина, покровителя влюбленных. Для нее это был не первый визит в Париж, она уже была там год назад и возобновила любовную связь с графом Жаном де Бретейем. Памела больше не была той чистой и наивной девочкой из страны апельсинов, которая когда-то влюбилась в красивого француза, очарованная его летчицким комбинезоном и изысканной смесью наглости и учтивости в манерах. Со своим провожатым Джимом Моррисоном она уже прошла как минимум половину из девяти кругов ада. Граф за эти годы тоже заматерел и продвинулся. Выжав из Калифорнии все, что можно, он опять перебрался на европейский театр действий, где занял позицию наркодилера, обслуживавшего новый высший свет, тех, кого Эбби Хофман презрительно называл «рок-аристократией». Граф хвастался, что является личным наркодилером Кейта Ричардса из Rolling Stones: действительно, что может быть почетнее для потомственного аристократа!
Оба мужчины Памелы Курсон шли одной и той же дорогой к одному концу. Они разрушали себя, увечили свою душу, выпадали в грязь, опускались до дегенеративных поступков, распадались. Пьяный Моррисон в конце 1970-го мочился в присутствии женщин, наркотический граф женщин бил. Он был невменяем, как всякий наркоман со стажем. Марианне Фэйтфул он тоже поставлял героин и заодно был ее любовником. Она пишет о нем как о человеке, которого интересовали только наркотики и секс, – злой, нервный, невменяемый, грубый подонок, вечно занятый темными делами и делишками. Памела, улетая к нему в Париж, сказала одной из своих знакомых, что все-таки хочет дать ему еще один шанс. Она делала это якобы из человеколюбия, а также из желания попробовать обрести с ним прежнее чувство. Ведь когда-то они так нежно любили друг друга!
Что это было? Ее ответ на Патрицию Кеннили, которая занимала все больше и больше места в жизни Моррисона? Начало ее новой взрослой жизни на другом континенте в новых декорациях? Французский граф представлялся Памеле чем-то необыкновенно прекрасным и утонченным, даже если он ходил по Парижу в сером невзрачном плаще и имел на лице черты вырождения. Семьсот лет его благородного рода зачаровывали ее. Может быть, мечтательная девочка с узкими прекрасными глазами в каких-то вариантах своей новой жизни видела себя французской графиней, живущей в замке на Луаре, чьи темно-красные стены увиты зеленым виноградом. К действительности это не имело никакого отношения. В Париже изысканный французский граф и отвязная американская girl вместе употребляли героин. И только.
За три недели до отлета в Париж Джим Моррисон обедал с Леоном Барнардом, пресс-секретарем группы. Он был трезв и весел. «Он говорил о планах на будущее и обмолвился о возможности сменить идентичность. Мы отпускали по этому поводу шутки, говорили о том, как он нанесет на лицо черный грим и уйдет в подполье, но это только потому, что мы не могли отказаться от игры в слова, и это не имело никакого отношения к расизму, речь шла только о цвете лица. Он говорил, что хочет отказаться от роли идола тинейджеров и так называемой суперзвезды – потому что ему уже до смерти надоела вся эта голливудская суета, – и он хотел усовершенствовать свою жизнь, посвящая себя искусству; жить анонимно, а если надо, то и инкогнито, во имя свободы и воли к выживанию».
Вот как ясно, правильно, логично выглядит это в описании Барнарда. «Хотел усовершенствовать свою жизнь, посвящая себя искусству». Ну просто возвышенный артист в белых перчатках, собирающийся гулять по парижским бульварам с тросточкой в руке. Да что там было совершенствовать? Эти разбомбленные развалины вряд ли поддавались усовершенствованию. За четыре года самого густого и смачного рок-н-ролла он прожил достаточно, чтобы чувствовать оскомину и изжогу, чтобы устать от людей, чтобы презирать себя, чтобы испытывать тошноту при мысли о сексе, требующем усилий, пота и хриплых стонов. Что еще нового он мог открыть в этом суматошном, непрерывном, дерганом, бессмысленном мельтешении под названием «жизнь мистера Д. Д. Моррисона»?
Ирония, с которой Моррисон смотрел на самого себя – и с которой смотрел на меня прищуренный правый глаз грузного бородатого незнакомца в пустом кафе на Крите, – окрашивала его мысли о будущем. Конечно, он собирался в Париже бросить пить (или хотя бы уменьшить дозы), но кто из алкоголиков периодически не собирается бросить пить? Конечно, он говорил окружавшим его людям, что ему надо отдохнуть, прийти в себя, сбросить лишний вес, обрести хорошую форму, но сам он прекрасно знал цену самовнушениям такого рода. Вокруг него в это время происходил самый настоящий, самый всамделишный бардак. Девицы дрались из-за него на лестничных клетках, режиссеры подливали ему виски в стакан и с огнем в глазах вещали о фильмах, которые хотят снять с ним в главной роли, голливудские воротилы уговаривали его бросить Doors, чтобы стать новым – гениальным, а как же иначе! – символом наступающих семидесятых, Памела устраивала ему сцены и вцеплялась в волосы, Патриция требовала, чтобы он наконец выбрал одну из двух – а он ни с кем не спорил, ни с кем не соглашался, ничему не сопротивлялся и все плыл и плыл по течению, словно знал, что все в конце концов должно решиться само собой. Напившись, он укладывался спать там, где стоял. Утром вставал с головной болью и криво ухмылялся, видя себя в зеркале. Он отпустил длинные волосы и зарос черной бородой до самых глаз. Он носил мятую идиотскую шапку, его рубашка всегда была расстегнута на груди, и он вечно притаскивался в гости с лучшим подарком в руке – с упаковкой пива.
В воспоминаниях Рея Манзарека есть смутные намеки на то, что податливый к дурным влияниям Моррисон иногда вываливался из чистого и ясного творческого мира Doors в темный мир расовых теорий. Намеки на это есть и в одном из его стихотворений, в котором он просит прощения у черных и признается в своем страхе перед ними. Он говорил о мистической связи белых людей через кровь. О том же, кстати, говорил Чарльз Мэнсон. Кровь привлекала Моррисона, завораживала его. Он боялся боли, боялся крови, и все-таки дал кельтской ведьме Патриции Кеннили разрезать ему руку в мистическом обряде бракосочетания. Этот обряд с символическим смешиванием крови настолько потряс его, что в пьяном виде он часто рассказывал о нем всем встречным и поперечным. В конце 1970 года на вечеринке в отеле «Chateau Marmont», где Моррисон тогда жил, он рассказал об обряде красивой девушке по имени Ева, которая тут же предложила ему повторить опыт и смешать кокаин и кровь. Девушки, как видно, не боялись резать себе руки, но Моррисон отказался, хоть и был пьян. И все-таки его тащило в эту сторону. Последнюю неделю перед отъездом в Париж он провел в непрерывном пьяном загуле со шведкой Ингрид, фамилия которой предположительно Томпсон. А может, и не Томпсон, может, у нее и вовсе не было фамилии. Странные видения и кровавые бредни уже настолько густо клубились в его одуревшем от алкоголя и наркотиков мозгу, что он предложил ей «попить крови друг друга». Что именно они там делали, неизвестно, но наутро оба проснулись бухие, голые – и в крови.
Сэди Мей Глютц, одна из девушек Мэнсона, убив Шарон Тейт, лизнула руку, облитую ее кровью, и сочла, что кровь приятна на вкус. Еще она решила, что убийство дает такую же остроту ощущений, как оргазм. Странным образом в сознании Моррисона секс тоже связывался с насилием и убийством. Все считали, что песня о неизвестном солдате посвящена войне, Моррисон удивлял всех, утверждая, что расстрел в конце песни является символическим изображением полового акта. В его сумрачном сознании половой акт, вообще-то дающий жизнь новому существу, был синонимом убийства, преддверием смерти.
В «Хрониках» Боба Дилана можно прочитать о художнице Робин Уитлоу, которая попалась на краже со взломом. На суде она объявила, что это был перформанс, и ее оправдали. Браво присяжным – они были продвинутыми людьми, жившими в прекрасном новом мире, где грани между жизнью и искусством не существует. Но насколько далеко может заходить такой перформанс? Мэнсон и его девушки зашли так далеко, что назад не вернешься. Ужас снова тихим холодом скользит у меня вдоль позвоночника: вопросы, которые задавал себе Моррисон, совпадали с теми, что задавал себе Мэнсон, который является кривым зеркалом рок-революции. Хочешь увидеть себя в мире, где координатные сетки сдвинуты всего на пару градусов, а изображение полностью сбилось, съехало, перевернулось? Хочешь узнать, кем ты на первый взгляд не являешься, но кем ты вполне можешь стать на вторый или двадцать второй взгляд? Посмотрись в Мэнсона.
Где лежит разграничительная черта между искусством и жизнью? До какой степени можно играть? В соответствии с канонами рок-н-ролла, между сценой и жизнью не должно быть различий; каков ты там, таков будь и тут. Однако все нормальные люди воспринимают это правило с пожатием плеч и понимающим кивком головы. Ну, конечно, так оно и есть, но не до такой же степени… Манзарек, Кригер и Денсмор, отличные музыканты и нормальные люди, в глубине своих душ не верили, что Повелитель Ящериц пойдет в своей игре до конца; игра должна останавливаться там, где игроку грозит не сценическая, а клиническая смерть. Но он не останавливался. Между тремя и одним шел молчаливый спор о пределах рока. Когда Моррисон в студии, во время сета Rock Is Dead, пел о том, что смерть рока – это его смерть, они понимали это как прекрасную поэтическую строку, не влекущую за собой серьезных последствий для жизненно важных органов. А как понимал это он?
6.
Моррисон прилетел в Париж 14 марта 1971 года. Один. Репортеры его в аэропорту не встречали, и папарацци не слепили глаза фотовспышками (впрочем, он носил черные очки, а на некоторых фотографиях этого периода он в черной шляпе с широкими полями, предназначенными скрыть лицо). В Париже Памела сняла для них большую квартиру на предпоследнем этаже в доме на рю Ботрейн, 17. Хозяйкой квартиры была модель Элизабет Ларивьер по прозвищу Зозо. Выбор Памелы говорит о хорошем буржуазном вкусе. Это солидный и одновременно изящный дом девятнадцатого века, с окнами, выходящими на две стороны: на улицу и в тихий двор. Квартиры тут просторные, с большими комнатами и широкими коридорами, на стенах которых висят светильники с розовыми абажурами и овальные зеркала; с лестничных клеток к ним ведут красивые двери в тонком переплете красного дерева, с матовыми стеклами. Кстати, квартиры в доме на рю Ботрейн, 17 сдаются до сих пор, причем в рекламе с гордостью сообщается, что в этом доме умер Джим Моррисон. Правда, дата его смерти перепутана, назван 1972 год. Но его квартиру снять невозможно, по причинам, которые не объясняются. Возможно, в ней кто-то живет. Странная тогда жизнь у этого человека; интересно было бы спросить его, что ему видится каждый раз, когда он вытягивается в ванной.
Моррисон знал, что Памела возобновила свои отношения с тем, кто был у нее до него. Но он не протестовал. Он знал, что не имеет на протесты никакого права. И еще он относился к ней с трогательной нежностью, как к больному ребенку, у которого нельзя отнимать редкие мгновения доступного ему счастья. Когда Памела звонила графу или граф звонил ей, он тактично выходил из комнаты. Может быть, он испытывал слабую надежду, что вновь обретенное чувство поможет ей обходиться без героина. Нелепая мысль, учитывая, чем именно занимался летчик с лицензией и бывший студент кинематографии, не снявший ни одного фильма, но на что еще ему оставалось надеяться? К врачам они не ходили. Памела периодически лишалась всякого вкуса к жизни, переставала есть и держалась на одном героине. В такие периоды она страшно теряла в весе, а ее прекрасные волосы становились тусклыми и ломкими. Он знал, какая она хрупкая и как привязана к нему. Понимая, что может подумать об их двусмысленном треугольнике его старый друг Алан Рони, которого он встретил в Париже, он как-то раз объяснил ему, что «мы с тобой на стороне жизни, а она на стороне смерти. Не сердись на нее».
Как и положено богатым американцам на отдыхе, они путешествовали. Сначала слетали на Корсику, но где именно там были и что осматривали, мы не знаем. Вероятно, они посетили захолустный Аяччо, где родился и провел детство Наполеон. В Новом Орлеане Моррисон часами сидел в баре «Бонапарт», попивая виски с кока-колой и рассматривая фреску, на которой изображен Наполеон. Фреска настолько занимала его, что он рассказал о ней в интервью Ховарду Смиту в ноябре 1970 года: «Это картина Наполеона в изгнании, он стоит на этом поле в дурном расположении духа и перед ним меч, вогнанный в землю, а слева сцена… что-то вроде… знаешь, сцена войны… люди в сточных канавах и хаос и все такое, знаешь, призраки и тени. Это прекрасная фреска. Я не могу ее забыть». Еще Моррисон и Памела слетали тем летом в Касабланку, но и тут точные сведения отсутствуют. Была ли эта поездка в Африку началом очередного break on through, разведкой, вслед за которой должно было последовать настоящее исчезновение и погружение? Было ли это началом новой жизни, в которой он, актер по призванию, собирался сыграть Артюра Рембо в тех самых природных декорациях, в которых тот жил сто сорок лет назад? Пески, бурнусы, черное небо в мелких шершавых звездах, шатры, силуэты верблюдов на фоне заката, запах оружейной смазки, идущий от винтовки в руках… как прекрасна жизнь, которую мы еще не прожили!
В одном из стихотворений он назвал Памелу Офелией. Бедная Офелия, ее мечта о новой человеческой жизни в фешенебельной парижской квартире не сбывалась. Моррисон был неисправим. В Париже он стал завсегдатаем клуба «Circus», обшарпанного и мрачного заведения, за столиком которого он пил виски и коньяк, а в туалете покупал наркотики. Повелитель Ящериц стоял в запахе мочи и хлорки, прислонясь спиной к белому кафелю, и деловито покупал дозы у вечно ошивавшихся тут мелких наркоторговцев. Наркотики, усиленные алкоголем, взрывали его мозг: вываливаясь поздно ночью на улицу, он орал ругательства французским полицейским и в ярости обзывал таксистов, не желавших сажать его в машину, «ниггерами».
Бродяга Джим. С утра он уходил из их роскошной квартиры и бродил по Парижу с белым пластиковым пакетом в руках, полученным в придачу к какой-то покупке в универмаге «La Samaritaine». А что он там покупал? О, ничего особенного: триста грамм дорогого сыра с плесенью, свежие булочки, бутылку коньяку. В пакете у него, когда он гулял по улицам, болтались пачка сигарет «Marlboro», зажигалка, шариковая ручка, пленка с записью стихов, которые он начитал в свой день рождения в «Village Records», а также блокнот на пружинке, в который он записывал мысли и стихотворения. Между страниц были вложены несколько вырезок из газет со статьями о Doors. Точные маршруты его прогулок неизвестны. Еще менее, чем маршруты его прогулок по Парижу, известны его мысли и планы в прекрасные дни раннего лета 1971 года.
Кружение и брожение его мыслей в поисках новых дверей, ведущих к новому началу, лучше всего искать в его последнем блокноте. Этот блокнот – потрепанный, с чуть помятыми уголками страниц, нанизанных на пружинку – в июле 2006 года был выставлен на аукцион «Cooper Owen» за 80 тысяч евро и не нашел покупателя. Странно, что лот 77 не привлек ни Манзарека, ни Кригера, ни Денсмора, ни родителей Моррисона, получающих дивиденды с пластинок Doors. Дорого для них, наверное. Ждут, пока подешевеет. В этом последнем блокноте, кроме стихотворений, опубликованных в посмертных изданиях, содержатся отдельные строки, двустишия, мысли. Он записывал их шариковой ручкой на тонкой бумаге, разлинованной голубыми полосками. У него быстрый, крупный, небрежный, но при этом легко читаемый почерк. Фрагменты он отделяет один от другого абстрактными фигурами, прорисованными с нажимом. На семнадцатой странице его последнего блокнота записано всего несколько слов: «She’ll get over it»2626
Она переживет это.
[Закрыть]. На следующей, восемнадцатой, идут мысли вслух; похоже, он оправдывается: «What can I say? What can I do? I thought you found my sexual affection stimulating»2727
Что я могу сказать? Что я могу сделать? Я думал, мои прикосновения возбуждали тебя.
[Закрыть]. На девятнадцатой следуют строчки о прекрасном сексе, концом которого является смерть:
Последняя, двадцатая страница содержит только две строки. В них нет никакой загадки. Сидя за столиком кафе, на белом пластиковом стуле, под хлопающим на ветру цветным тентом, откинувшись назад, видя перед собой сияющий стакан с пронизанным солнцем виски, Джим Моррисон возвращается на родину, в прошлое, в рай. Это воспоминание о далеком 1965 годе, когда все только начиналось на берегу океана, в далекой и прекрасной Венеции.
Туда! Туда, в брезжущий восход, в пылающий закат, в мир распускающихся цветов, в океан невиданных птиц, на серые полосы хайвеев, простроченные посередине желтой пунктирной полосой, в убогие мотели, дающие анонимность, в телефонные будки, откуда можно сделать всего один звонок, но зато это звонок Богу, в дешевые бары, где сидят молчаливые люди в желтых замшевых безрукавках и шляпах с загнутыми полями. Там, за этой резкой, тугой, то распахивающейся, то с громом захлопывающейся дверью он хотел обрести новую жизнь и нового себя, но обретал пока что только абстинентный синдром, плохое самочувствие, головную боль, ощущение пустоты. Из своей прошлой, привычной жизни рок-н-ролльного героя он уже исчез, но еще не умер. Возможно, бродя по бульварам и кафе Парижа, по его людным улицам и живописным мостам, он пытался развести исчезновение и смерть; еще более возможно, что он уже догадывался, что развести не удастся, в его случае это неразрывные вещи.
Смерть во время этих прогулок была рядом с ним, она таилась в каждом отражении в витрине и являлась в каждой кокаиновой галлюцинации, но у него были свои способы обращаться с ней. «I touched her thigh and death smiled»3030
Я коснулся ее бедра, и смерть улыбнулась.
[Закрыть], – так о любви никто никогда не писал. Это любовь втроем – тут присутствуют Моррисон, Памела и смерть, стоящая в изголовье кровати в темной комнате на рю Ботрейн, 17. Она стоит там, и никогда не знаешь, чего от нее ждать. Все это напоминает картины Фриды Кало или латиноамериканские мистерии, когда на кухонной полке между чашек пляшет скелетик, а из кубка с вином высовывается головка змеи с раздвоенным язычком. Но опыт показывает, – а у Моррисона к двадцати семи годам был обширный опыт пограничных состояний, и в каких только областях Иного Мира он не бывал, – что смерти не чуждо любопытство, и она с симпатией относится к тем, кто не боится ее, а такая вещь, как эротика, ее просто завораживает. Эротична ли смерть? Смерть любит нежность. Женщины спасают от смерти, женщины, покуда они рядом, в одной комнате, в одной постели, под одним одеялом, являются лучшей и гарантированной защитой от смерти; это Моррисон тоже знал. Ночью, обкуренный и пьяный, не соображающий, где он – в Париже или в Лос-Анджелесе, в убогой квартирке на Лорел-Каньон или в фешенебельном жилище в четвертом арондисмане, в джунглях или в небесах, с Памелой или Патрицией, – он касался обнаженного женского бедра и видел ласково улыбающийся череп в темноте.
Утром в Париже, лежа на спине, он чувствовал пересохший рот, бессилие и тоску, серой лужицей стоявшую на дне души; все, что с ним происходило, казалось ему безнадежным. Старой веры давно уже не было, но не было и новой. В Soft Parade он задавал себе типичный вопрос отпавшего от Бога и недостойного милости грешника: «That you can petition the Lord with prayer…»3131
Якобы, молясь Богу, его можно о чем-то просить.
[Закрыть] – и, отвечая сам себе, разражался яростным воплем: «You cannot petition the Lord with prayer!»3232
Молясь Богу, его нельзя просить ни о чем!
[Закрыть] Этот путь он сам себе закрывал. Это путь был для него невозможен, хотя он и кричал истошным голосом на концертах: «Jesus! Save us!» Но это было отчаяние человека, кубарем летящего в ад, а не гармоничная мольба о спасении того, кто в него верит.
Христианином Моррисон был только первые несколько лет своей жизни. Маленьким мальчиком он ходил с родителями в пресвитерианскую церковь и молился Богу. Теперь же он был отщепенцем, бросившим Богу вызов и ушедшим в пустыню. Или в Париже он еще только искал свою пустыню, еще только обдумывал, в какой стране и на каком континенте она находится. Его сборник стихов недаром называется «Wilderness» – в пустыню на испытания ушел Христос, в пустыне прятались от мира святые и преступники, и в пустыне ковали новую веру суровые отщепенцы из кумранской общины. Новая религия, которую Моррисон хотел основать, не имела названия; за неимением другого слова, мы назовем ее старым – язычество. «Earth Air Fire Water»3333
Земля Воздух Огонь Вода.
[Закрыть] – не только строка его стихотворения, но и первичные элементы мира для древнегреческих философов и современных хиппи. Мир для Моррисона не был выстроен по вертикали, где сверху Бог, а внизу толпы верующих, возносящих к Нему молитвы; в его горизонтальной космогонии не было ни Спасителя, ни падших, а была только протоплазма жизни, в которой боги перемешивались с людьми, люди со зверями, лес с городом, океан с воздухом. Мир – одно огромное кровосмешение. Пусть грешное, но прекрасное. В его мире жили нимфы и сатиры, с одним из которых он когда-то давным-давно столкнулся лицом к лицу на Сансет-стрип. Он часто вспоминал его. Невысокий такой лысый мужичок с одутловатым лицом, в грязноватой тоге и на кривых козьих ножках. Ничего особенного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.