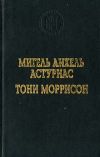Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Когда Моррисон очутился в собственном номере на чужой вечеринке, он почувствовал себя зрителем, вошедшим в кинозал посередине сеанса. Ощущение фильма, демонстрирующегося не на экране, а у него в мозгу, было ему хорошо знакомо после сотен сеансов ЛСД. В освобожденном мозгу тогда шли запутанные, сложные фильмы и происходили концерты, на которых неизвестная группа играла новую прекрасную музыку. Музыка запоминалась, и на следующий день он приносил мелодии и тексты в студию – Пол Ротшильд был в восторге. Но Моррисон не проводил часы в творческих муках, он не сочинял музыку и стихи, а только брал их откуда-то. Может быть, он, как Шаман, обладал законным даром подключаться к другим жизням, а может, он был конструктивной ошибкой мироздания, случайно соединившей разные времена и различные потоки энергии. Тогда следовало ожидать, что ошибку скоро обнаружат и исправят.
Кино было для Моррисона не просто еще одним видом искусства, которым он увлекался, а метафорой жизни. Думать о жизни и смерти означало для него думать о кино. Что, если вся жизнь – фильм, который снимает Бог? Тогда то, что люди воспринимают так трагически, всего лишь неудачный дубль. За ним последует удачный. Но отличить удачу от неудачи может только режиссер. Вам кажется странной и неестественной эта логика? Но будем помнить, что выпускник факультета кинематографии Моррисон жил по соседству с Голливудом, в городе, который так давно производил кинематографические сказки, что уже и сам стал чем-то вроде кинофильма. В этом городе все играли роли и все за кого-то себя выдавали. Официантки ходили по залам закусочных, поигрывая бедрами, как звезды экрана на красной дорожке, вышибалы имели суровые лица киношных ковбоев, и за каждым столиком в каждом кафе молодые артистические красавцы обсуждали идею нового фильма…
Давным-давно, когда группа Doors еще не существовала, одинокий поэт Моррисон по вечерам слезал со своей крыши и отправлялся в кино на ночной сеанс. Денег у него не было, и он брал самый дешевый билет за пятьдесят центов на плохие места. Это было время, когда Мэри Вербелоу бросила его и он остался один в никогда не спящем Городе Ангелов. Он смотрел все подряд: вестерны, любовные драмы, старые немецкие фильмы с Марлен Дитрих, французские фильмы «новой волны» – и постепенно они сливались в его сознании воедино, превращались в одну ленту с сотнями героев и героинь, с разветвленными сюжетами и перетекающими друг в друга диалогами. Этот всечеловеческий сверхфильм затягивал и поглощал его, так что он и себя, сидящего в темном полупустом зале с поднятыми коленками, ощущал одним из персонажей ленты. Однажды он поехал в Сан-Франциско, за семьсот километров, чтобы посмотреть там новый французский фильм о гомосексуалистах в тюрьме – возможно, в этот раз в душном темном зале ему пришла в голову фраза «The appeal of cinema lies in the fear of death1010
Привлекательность кино объясняется страхом смерти.
[Закрыть]»?
Does the house burn? So be it.
The World, a film wich men devise.
Smoke drifts thru these chambers
Murders occur in bedroom.
Mummers chant, birds hush & coo.
Will this do?
Take Two1111
Дом горит? Пускай. Мир – это фильм, придуманный людьми. Дым ползет по комнатам. Убийцы хозяйничают в спальне. Актеры декламируют, птицы затихают и воркуют. Это подходит? Дубль два.
[Закрыть].
Как только компания «Elektra» стала платить ему большие гонорары, Моррисон тут же начал снимать фильмы. Его киногруппа совпадала по составу с компанией собутыльников: Бэйб Хилл, Фрэнк Лишандро, Пол Феррара. Фильм о группе Doors должен был стать режиссерским дебютом Моррисона; Манзарек, Кригер и Денсмор полагали, что дело в надежных руках. У них не было оснований сомневаться в его способностях, и они знали его приверженность кино, и к тому же он был выпускником факультета кинематографии, несколько лет изучавшим принципы монтажа. Моррисон занимался своим первым фильмом месяцами, срывая все сроки, и в конце концов, когда он представил его, у публики возникло недоумение. На показе фильма во время кинофестиваля в Сан-Франциско фильм даже освистали. Трое других Doors, вложившие деньги в производство, были возмущены и раздражены. Дружба дружбой, братство братством, но они, заплатив немалые суммы, перешли в разряд клиентов, заказавших услугу. На деловом собрании трех вменяемых членов группы Doors было решено больше не платить зарплату компаньонам и собутыльникам Моррисона. Они их уволили, как людей, совершенно непригодных для дела. Моррисон в ответ занял у них денег – своих у него почему-то опять не было – и все равно продолжил платить зарплату друзьям. Тонкий зазор в отношениях между Повелителем Ящериц и тремя другими Doors превратился в ощутимую трещину.
Манзарек утверждал, что фильм «Feast of Friends» четверо его создателей монтировали, находясь под воздействием наркотика. В результате запланированный часовой фильм почему-то сократился до сорока пяти минут. Это был неформат. Его невозможно было пристроить на телевидение. Но суть не в этом. Два фильма Моррисона сняты мимо. Второй фильм, «HWY», кстати, не соответствует сценарию, который сам же Моррисон и написал. В сценарии было несколько странных персонажей, общее имя которых – Бомжи Вечности; и сама Вечность там тоже чувствовалась в финале, когда убийца, отпущенный из дворца Правосудия, пересекал ночную улицу и уходил к костру, у которого жмутся трое то ли убогих нищих, то ли бессмертных Будд. В фильме глубина исчезла, остались сырые импрессионистические наброски. «Feast of Friends», заявленный Моррисоном как фильм об Америке, никакой Америки не показывает: это просто растянутый рекламный фильм о группе Doors, у которого есть начало, но нет конца. Если в фильме и есть что-то, берущее за душу, то это трагическая тема Альбинони, раз от разу возникающая из лязга рельсов и металлического голоса, объявляющего станции в надземке.
Премьера «HWY» состоялась в Канаде, на первом ежегодном кинофестивале имени Моррисона, организованном местными поклонниками его таланта. Там же был показан мини-фильм (слова «клип» тогда еще не существовало) Unknown Soldier, который Doors во время концертов запускали на черном заднике. Иметь кинофестиваль собственного имени, конечно, приятно, но малобюджетный «HWY» не имел и сотой доли того успеха, какой стяжал за год до этого тоже малобюджетный «Easy Rider» Денниса Хоппера. Успеха не было. Публике не нужен был Моррисон-кинорежиссер и Моррисон-актер, его поиски и изыски публике были неинтересны, ей было вполне достаточно Моррисона – Короля Оргазма, и она собиралась пережевывать его и дальше. Год, два, три, пять, сто. Провести сто лет в зубах у публики вместе с жевательной резинкой и попкорном – не очень веселая участь для того, кто мечтал на автомобиле заехать в ночной океан и взлететь к звездам с крыши.
В фильмах Моррисона есть странная, томительная отчужденность от жизни. Герои этих фильмов вроде бы здесь и вроде бы где-то еще. Даже вступая во взаимодействие с жизнью, странствуя по городам, разговаривая, угоняя машины и убивая, они все равно частью сознания остаются за пределами бытия, в каком-то ином месте. Тот, кто здесь, на самом деле на другой планете. «You may look at things but not taste them»1212
Ты можешь смотреть на вещи, но не трогай их
[Закрыть], – строка из «Lords» звучит как режиссерская заповедь Моррисона и его наказ актерам.
6.
Джерри Хопкинс, работавший в шестидесятые годы в журнале «Rolling Stone» и несколько раз встречавшийся с Моррисоном, дал своей книге о нем подзаголовок «окончательная биография» – но что толку? Это хвастовство, и не более того. Ни полной, ни окончательной биографии Моррисона не существует. Жизнь некоторых любимых героев человечества – Наполеона, Гете, Пушкина – изучена так, словно они жили под прицелом телекамер в реалити-шоу; в подробнейших хронологиях можно без труда найти, что они делали 15 апреля после обеда или 23 ноября после ужина. При желании можно даже подсчитать, сколько трубок они выкурили в таком-то месяце и сколько чашек кофе выпили за такой-то год. Что касается Моррисона, то хронология его жизни исчерпывается концертами Doors, полный список которых действительно можно составить; но при первом же усилии проникнуть глубже поверхности исследователь испытывает разочарование. Это не жизнь, а туман, бардак, самум и черт знает что еще. Как в 1967-м никто не знал, куда он исчезает, уходя из студии, так и сейчас никто не знает. Как тогда никто не знал, кто его навещает по ночам в обшарпанной комнате №32 мотеля «Alta Cinerga», так и сейчас это неизвестно.
Когда пишешь о Моррисоне, ни в чем нельзя быть уверенным. И ничего нельзя утверждать. Моррисон неподвластен разумному пониманию и поэтому не уловим в сюжетную схему. Выстроить последовательный, логичный, образцовый рассказ о его жизни не представляется возможным. Сторонний наблюдатель почти не находит в его жизни правильного поступательного движения и периодов развития, какие есть и у алкоголика Эдгара По, и у олимпийца Гете. Но у Моррисона вся его хаотичная жизнь – один сплошной break on through. Мне кажется, что признание автора, запутавшегося в его жизни, ему бы понравилось – услышав такое, он разразился бы своим неповторимым пьяным смехом.
Пол Ротшильд как-то сказал о нем, что он может быть глубоким поэтом или нажравшимся камикадзе, все дело в том, что вы никогда не знаете, кем он будет в следующую секунду. Но прозорливый продюсер назвал тут только две его ипостаси. На самом деле в Моррисоне прячется дюжина существ. Отвергая все ограничения, даже ограничения логики и последовательности, он делал себя безмерным; игнорируя правила общежития, он превращался в неуправляемую бомбу, опасную для близких. Для одних он был вежливым, интеллигентным человеком, а другие запомнили его как хама, и все они правы. Он прочитал массу книг по истории религий и верований, но не верил в общепринятого христианского Бога, хотя в минуту отчаяния инстинктивно обращался к нему. Он жил в среде миролюбивых хиппи, но на заброшенном ранчо стрелял из револьвера, и в его песнях и стихотворениях то и дело навязчиво появляется убийца. Одних людей он провоцировал своими грубыми шутками, а в общении с другими представал как тонкий и чувствительный собеседник, с которым приятно иметь дело.
Элементы его жизни расположены так, что мысль о порядке увядает. Все повсюду. Один и тот же поступок с равным успехом он мог совершить в любой год своей жизни. Возможно, такое отсутствие периодов и граней объясняется тем, что его карьера заняла только четыре года; все тут слишком сжато, плотно, жестко, спрессованно. Поступки вдавливаются один в другой, как вещи в плотно набитом чемодане. В его жизни не было пауз для релаксации, и речь не только о беспрерывных самолетах и аэропортах, не только о сотнях концертов в десятках городов. Внутри него, в его душе, в том, как он думал и чувствовал, не было лакун и пустот: его психика, запечатленная в стихотворениях, была чем-то вроде шаровой молнии, испускавшей синие искры. Шаровая молния долго не живет, она опасна, но вот-вот лопнет. Подобную интенсивность восприятия и выражения можно обрести, если не спать несколько ночей подряд; она доступна аскетам, изнуряющим себя бдением и молитвой.
Отношения Моррисона и Памелы до сих пор занимают воображение многих людей. Я знаю форум в Интернете, где молодые и не очень молодые американцы обсуждают их с той же страстью, с которой в Советском Союзе на кухнях обсуждали отношения Пушкина и Натальи Гончаровой. Иногда на форуме появляется какая-нибудь Jane или Mary, которая рассказывает о своей встрече с Моррисоном сорок лет назад в заснеженном Нью-Йорке или жарком Новом Орлеане, и форум затихает в уважительном молчании. Мелькают имена женщин, с которыми Моррисон встречался, упоминаются слова, которые он бросил на чьей-то кухне, следуют намеки на его многочисленных подруг…
Есть фотография 1965 года, на которой изображен юный Моррисон, робко и нежно обнимающий Памелу. Но к концу 1969 года они уже превратились в ветеранов любви, покрытых шрамами и рубцами. Они очень хорошо знали, как остывает чувство и как на его место просачивается холодное отчуждение. Моррисон и Памела расставались десятки раз и столько же раз снова сходились. Они могли поругаться в любой момент и однажды поругались прямо в аэропорту, куда приехали, чтобы вместе полететь отдохнуть на Ямайку. В результате Джим полетел один. В их отношениях не было ничего прочного, кроме одного обстоятельства: они продолжали быть вместе. Они были вместе, несмотря на все свои ссоры, скандалы, драки, измены, дебоши и разрывы. Они были вместе, несмотря на то, что он был интеллектуал, а она хиппушка, его интересовал Ницше, а ее – марокканские платья. Они были вместе наперекор самим себе и своей жизни. Лучшим доказательством этого стало завещание, которое Повелитель Ящериц подписал 9 февраля 1969 года. Стандартный юридический документ не оставляет никаких сомнений в том, кого именно Моррисон считал самым близким человеком. Все свое движимое и недвижимое имущество он завещал своей нежной подружке Памеле.
Памела совершенно не вписывается в ряд сильных и неустрашимых женщин шестидесятых – Дженис Джоплин, Грейс Слик, Джоан Баез. Феминистические идеи и страсть к самовыражению ей не были свойственны. Она не претендовала на самостоятельную роль, она всегда была при Джиме, для Джима, ради Джима. Она сопровождала его в гастрольных поездках, ходила на концерты и была с Моррисоном во время всевозможных вечеринок, обедов и приемов, устраивавшихся в честь Doors; перед концертами ее видели за кулисами и в гардеробной группы. Трое других музыкантов, также как люди из компании «Elektra», относились к ней как к одному из жителей мира Doors, в котором у нее была точно определенная роль: женщина Моррисона. Жена она ему или нет, они не знали. Их это не касалось.
Сама Памела всегда хотела разрушить эту неопределенность. Она очень хотела быть его женой и однажды даже пришла к адвокату Максу Финку с вопросом, в каком из штатов самое либеральное законодательство на этот счет. Представляясь, она говорила о себе: «Я жена Джима». Она говорила это всем, журналистам, музыкантам, другим женщинам. Моррисон не возражал; похоже, он полагал, что этот титул принадлежит ей по той же причине, по какой титул «ветеран войны» принадлежит солдату, три года просидевшему под огнем в окопе. Памела была с ним с самого начала, выносила его пьяного, трезвого и обкуренного, терпела его скандалы и измены и в результате обрела право считать себя его женой за выслугой лет. Но когда ему было нужно, он объяснял другим женщинам, что не женат и абсолютно ни с кем не связан. И он действительно не был ей связан. Он делал все, что хотел, не обращая на нее никакого внимания.
В Лос-Анджелесе Памела вела типичную жизнь жены при работающем муже: ходила в салон красоты, чтобы cделать маникюр и уложить свои прекрасные рыжие волосы, вызывала парикмахерш на дом, читала глянцевые журналы, рассматривала картинки в каталогах мод и для улучшения настроения закидывалась легкими наркотиками. Пробежав с утра носом по дорожке кокаина, она в прекрасном настроении расхаживала по своей квартире на Вест Нортон авеню, заваленной красивыми вещами. Памела любила необычные вещи: индийские сари, персидские ковры, огромные диадемы, арабские бурнусы, шелковые шали, украинские платки, бусы из крашеных камешков, расшитые жар-птицами занавески, замшевые жилетки с бахромой, коричневых слоников из сандала. Она бродила по квартире то в марокканском платье, то голая по пояс, в джинсах и с нитками бус на шее. Несколько странным и противоречащим образу рыжей хипповой герлы, жившей на Love Street и воздушно кружившейся под вальс Wintertime Love, выглядит тот факт, что она собирала также пистолеты конструкции Люгера. Что она с ними делала? Крутила на пальце? Носила на бедре? Когда ей наскучивало позировать перед зеркалом, она играла со своим рыжим котом по имени Шалфей. Ее мечтой было иметь собственный бутик, и Моррисон сделал ей такой подарок. Установить точную дату подарка трудно, но весной 1969 года бутик у нее уже был. Магазин получил название «Themis», что по-русски значит «Фемида».
Оранжевую девушку Памелу Курсон никак нельзя заподозрить в знании древнегреческой мифологии. Или она, прежде чем дать бутику название, долго листала энциклопедический словарь? Это вряд ли, среди ее сокровищ не было энциклопедического словаря. За названием просвечивает кто-то другой – начитанный интеллектуал, осведомленный в многомерном устройстве жизни. Этот кто-то встречался на улицах Лос-Анджелеса с сатирами и между студийными сессиями выдумывал новое язычество. Этот эрудит настолько хорошо знал героев древности, что однажды сделал себе прическу, как у Александра Македонского, а в одной из своих песен зашифровал миф о Гиацинте. Отчего же ему не увидеть модный бутик своей любимой женщины жилищем богини, которая для обострения чувств и лучшего постижения реальности закрывала глаза повязкой, точно так же, как это когда-то делали хиппи в Лорел-Каньоне, с закрытыми глазами носившиеся на автомобилях по улицам?
Жизнь Моррисона запутанна, как лежащая на полу нитка, и глубока, как его наркотический сон. Там, где люди видели в его поступках пьяную дурь и блажь, могла таиться зашифрованная месть родителям, а в том, что кто-то расценивал как ничего не значащую шутку начитанного интеллектуала, может скрываться пророчество. Дочь Урана и Геи, жена Зевса, богиня справедливости и порядка, Фемида, в честь которой был назван хипповый бутик Памелы, умела проникать взглядом в будущее. И повязка на глазах ей никак не мешала. Она была против женитьбы Зевса на Фетиде, потому что знала, что их сын окажется сильнее Зевса и свергнет его. Обладала ли Памела таким же даром ясновидения? Нет, скорее ей был присущ обыкновенный здравый смысл, которого в Повелителе Ящериц не было вовсе. Она много раз пыталась по мере своих слабых сил вытащить Моррисона из беспрерывно вращавшегося колеса концертов, поездок и пьянок. Но может быть и так, что выбор названия намекал на другую способность Памелы. Фемида помогла Девкалиону и Пирре пережить всемирный потоп. Светлая и смиренная Памела должна была спасти Моррисона от темной глубокой воды, в которую он так упорно и неостановимо погружался.
Бутик «Themis» находился недалеко от офиса Doors и офиса компании «Elektra». Его покупка обошлась Моррисону в 250 тысяч долларов. Это очень большие деньги даже для рок-звезды. Мы не знаем точных цифр его доходов за 1967—1970 годы и можем судить о них только по косвенным данным. Манзарек в своих мемуарах рассказывает о восторге, который испытал, получив от компании «Elektra» по итогам первой половины 1967 года чек на 50 тысяч долларов. Деньги делились между членами группы поровну. Это составляет 100 тысяч долларов в год на каждого. В дальнейшем доходы беспрерывно выступающих Doors могли увеличиваться, но после концерта в Майами в августе 1969 года они резко упали, потому что десятки концертов были отменены. В это время у Моррисона появилась новая статья расходов: он оплачивал адвокатов Макса Финка и Джона Джозефсберга. Речь шла о десятках тысяч долларов. Но, как бы то ни было, можно предположить, что, покупая бутик Памеле, он не думал о деньгах. Рассчитывать расходы и сводить баланс были ему несвойственно. Когда денег не хватало, он брал их у компании «Elektra» в счет будущих доходов.
Теперь у Памелы был свой модный магазин, где она продавала экстравагантные хипповые вещи. По утрам она ходила на работу. Одевшись, причесавшись, приведя себя в порядок, она час или полтора бегала по квартире и лестничным клеткам, разыскивая Шалфея, который имел обыкновение исчезать в самый неподходящий момент; потом вместе с ним усаживалась в роскошный темно-синий «Мерседес-220» и в приятном состоянии кокаинового балдежа отъезжала. Нюхал ли Шалфей кокаин вместе с ней или обходился валерьянкой, которую она щедро наливала для него в редкую посудину, инкрустированную янтарем и смарагдами? Все возможно. Но постепенно Памела, это ангельское создание с оранжевыми лентами, покинула усеянное цветочками и бабочками пространство легких наркотиков и втянулась в темный лес тяжелых. Она пристрастилась к героину. Существуют смутные слухи о том, кто был дилером Пам; она получала свои дозы то ли от разносчика пиццы, то ли от механика гаража, расположенного на другой стороне улицы. А может, от обоих. Она вкалывала себе героин с беззаботностью птички и счастливо вырубалась в своей волшебной квартире, полной самых прекрасных на свете вещей. Зачем ей был нужен этот черный лес, на ветвях которого сидели совы с желтыми сияющими глазами размером с тарелку, зачем она соскальзывала в глубину, из которой нет выхода? Чтобы быть там рядом с ним? Чтобы обрести там покой, чтобы спрятаться там от шизофрении, которой он, ее избранник, окружал ее?
Она скрывала свою новую привычку от Моррисона. Он запрещал ей принимать тяжелые наркотики, и она боялась сказать ему, что подсела. Она думала, что он не знает, но он знал, но делал вид, что не знает. Так они играли в прятки. В результате к январю 1969 года, когда Моррисон в Нью-Йорке познакомился с Патрицией Кеннили, Пам уже плотно сидела на героине.
Патриция Кеннили ничем не походила на Памелу Курсон, за исключением прекрасных темно-красных волос. Памела вряд ли прочла после школы хотя бы одну книгу, а выпускница колледжа и университета Патриция была начитанной в высшей мере. Памела не претендовала на роль деятеля искусств, а Патриция в двадцать два года была главным редактором журнала «Jazz & Pop». Памела была хрупка и невысока ростом, а Патриция при росте в 173 сантиметра отличалась спортивным телосложением. Памела в отсутствие Моррисона изнеженно валялась на диване и мечтала о том, что он купит ей бутик, где она станет торговать хипповыми шмотками, а Патриция была известным рок-критиком и в свободное от журналистики время занималась каратэ. Памела одевалась, как нормальная хипповая герла из Калифорнии: мятый шелковый пиджак, джинсы, длинное черное пальто. Выход Патриции походил на явление оперной дивы: она носила короткие платья на шнуровке, обнажавшие груди, высокие кожаные сапоги и золотую проволочную змею, обвивавшую ее правую руку до плеча. Иногда за поясом у нее был самый настоящий кинжал.
Патриция была первой (и единственной) женщиной в жизни Моррисона, которая интеллектуально не уступала ему. Моррисон был первым в ее жизни мужчиной (а она интервьюировала чуть ли не всех героев рок-н-ролла тех лет), про которого она с изумлением поняла, что он умный. С Памелой Моррисона связывало их общее прошлое, их Калифорния, их Лос-Анджелес, а с Патрицией его связывал не только секс, но и та интеллектуальная близость, которая волнует сильнее секса. Он мог с ней говорить. Он мог быть с ней слабым, потому что она была сильной. За Памелу отвечал он, а за него отвечала Патриция. Или пыталась, хотела отвечать. Не то чтобы Моррисон сразу позволил ей это. Но он, всегда ускользающий и неопределенный в отношениях с женщинами, намекал ей, что это возможно. Потом, когда-нибудь, скоро, в близком будущем. И она бежала за ним в это близкое будущее, которое всегда отдалялось.
Для того чтобы как-то свести концы с концами в отношениях с двумя этими женщинами, Моррисон должен был обладать даром ловкого портного, подгоняющего кусок к куску. Он, посмеиваясь, соединял в своей душе области правды с областями лжи, территории умолчаний с потоками искренности. Он скользил по полуправде, как по гладкому льду. Сейчас, через тридцать шесть лет после его смерти, исследователю ничего не стоит уличить его во лжи. Однажды, в Лос-Анджелесе, во время одной из редких встреч в кафе с Мэри Вербелоу, он сказал ей, что первые три альбома Doors – о ней. Памеле он говорил то же самое. Он ничего не рассказывал ей о Патриции, а Патрицию убеждал в том, что с Памелой у него уже давно нет близости. В каждой из них он создавал впечатление, что она для него важнее всего, а вторая только незначащая игрушка, с которой он вот-вот расстанется. Однако не стоит представлять его в этой ситуации как вероломного Казанову, занятого холодной наукой обольщения. Конечно, он лавировал между ними, инстинктивно стараясь сохранить для себя и ту, и другую, но с тем же успехом можно говорить о том, что они обе жесткой хваткой держали его. Он был нужен им. И ни одна – ни хрупкая хиппушка Пам, ни мощная каратистка Пат – не собиралась уступать его другой.
Обе догадывались, что у него есть и другие женщины. Сколько? Возможно, этого не знал и он сам. Он вообще плохо считал деньги, плохо считал женщин… Ходят слухи о множестве судебных исков, поданных к нему на установление отцовства, но иски иссякли сами собой после его смерти. При некотором усердии, тщательно прошарив источники, можно составить список женщин, у которых была или якобы была связь с Моррисоном, но в этом нет никакого смысла. Назвать стоит только Пенелопу Тракс из городка Си-Клифф, которая утверждала в семидесятые годы, что у нее есть сын от Моррисона, зачатый во время секса в городке Танжер, штат Вирджиния; эксперт по сексуальному поведению Повелителя Ящериц Патриция Кеннили полагала, что такая история выглядит вполне правдоподобной. Можно предположить, что все эти женщины сливались и перепутывались в нетвердом сознании Моррисона; в конце концов после беспрерывного секса в нескончаемых американских городах и городках, по которым он носился концертирующим демоном, ему могло казаться, что это сама мать-Америка требует его к себе и берет, когда захочет.
Секс, как и алкоголь, имел в его глазах двойственную природу. Секс давал наслаждение и внушал отвращение. В одном из стихотворений, описывая свой первый опыт, он восклицал: «Oh no, not again»1313
О нет, не надо больше.
[Закрыть] – слова, более подходящие для выражения ужаса, чем восторга. В другом стихотворении он писал о «dry mating»1414
Сухое спаривание.
[Закрыть] – тут в его голосе слышится едва сдерживаемое отвращение. Отъезжая от концертного зала на заднем сиденье лимузина, видя в приоткрытое окно возбужденные лица девушек, чувствуя на своих коленях и волосах их жадные руки, он играл Короля Оргазма, принимающего подношения подданных, но в его медленном кивке вместе с самодовольством есть и заторможенность. Чувствовал ли он себя в это время, посреди нескончаемых гастрольных туров, окруженный десятками группис, истрепанным и истасканным сексуальным зверем, которого любой желающий гладит за ухом и треплет по брюху? Сравнение со зверем не случайно: ему казалось, что во время соития два существа пожирают друг друга. И он не мог полностью избавиться от своих детских мыслей о святости и древних христианах. Эти мысли были словно старая монетка, провалившаяся в глубокий карман, словно давнее воспоминание, плавающее размытым облаком на границе памяти. Тревожащий пустяк. Беспокоящая мелочь.
Как ни странно, в жизни Моррисона, которого газеты и журналы с идиотской пышностью называли Королем Оргазма, совсем не много подлинных любовных историй и женщин, с которыми его связывало что-то большее, чем секс. Тут он ни в какое сравнение не идет с Дон Жуаном и Казановой, которые мастерски играли чувствами. Отношения Моррисона с большинством женщин происходили на уровне физиологии. В этом он полностью соответствовал стандартам времени и правилам рок-н-ролла, которые полагали разнообразие в сексе столь же естественным, как разнообразие в еде, а смену партнеров столь же необходимой, как в теннисе. Не будете же вы всю жизнь играть в теннис с одним и тем же человеком? Моррисон не мог отказаться от секса с женщинами, которые постоянно предлагали ему себя, но потом его, чувствительного и восприимчивого, тошнило от собственных усилий. Секс, который сначала, во времена пляжей и клубов, был для него игрой, в конце концов превратился в занятие, которое выжигает и опустошает. Он имел всех и при этом все равно оставался один. Он был живым символом эпохи и при этом неприкаянным бомжем. Не в том смысле, что у него не было дома, а в том смысле, что у него не было родной души.
Мэри Вербелоу, Памела Курсон и Патриция Кеннили образуют треугольник, внутри которого он метался, как бильярдный шар под неумелыми ударами кия. Но иногда эти удары были очень даже умелыми. Однажды Моррисон послал Патриции книгу своих стихотворений «The New Creatures», посвященную Памеле Курсон. Бестактность или издевка? Патриция отплатила ему: выйдя из больницы после аборта, отправила ему телеграмму с одной-единственной фразой: «Aborted Strangers in the mud1515
недоношенные чужаки в грязи
[Закрыть]». Это была оборванная с двух сторон строка из его стихотворения «An American Prayer».
Что касается девочек-поклонниц, толпами рвавшихся на концерты группы, то на них и провинциальная хиппушка Памела Курсон, и столичная штучка Патриция Кеннили не обращали никакого внимания: они считали секс с группис чем-то вроде рабочих обязанностей Джима Моррисона.
7.
Деградацию Моррисона невозможно вымерить дозами и выстроить по линейке. Да ее и не было, линейной и однозначной деградации. Манзарек, Кригер и Денсмор полагали группу Doors чем-то вроде своего личного пожизненного обиталища; Моррисон так не считал. То, что казалось разрушением и упадком в рамках группы, могло быть для него переходом к новым горизонтам. Но одно бесспорно: он пил слишком много. И другое бесспорно: тонкости и изломы его внутреннего мира, его невысказанные намерения и смутные мотивации оставались скрытыми для людей, покупавших билеты на концерты. Да им они были и безразличны. Они хотели получить то, за что заплатили: исполненное дикой энергии, таинственное, возбуждающее, будоражащее шоу. И невнятный, пьяный, увиливающий от работы, явно халтурящий Джим Моррисон раздражал их.
В 1968 году этот процесс еще не зашел так далеко, чтобы стать заметным любому зрителю в любом зале. Doors по-прежнему были отличной концертной группой, чувствующей себя на сцене лучше, чем в пыточной студии перфекциониста Пола Ротшильда. Сохранившиеся записи дают нам услышать это. Концерт 4 августа 1968 года в Филадельфии прекрасен по четкости композиции и ясности драматургии. Жесткое органное соло Манзарека, начинающее концерт, звучит как объявление о тревожности этого мира. Во время When the Music’s Over в зале трижды возникает шум, но это не идиотский рев впадающей в буйство толпы, а шум переживания. И какие же чистые, спокойные, ясные аплодисменты следуют за первой вещью! Это аплодисменты людей, которые все поняли. Ощущение то ли дружеского, то ли братского слияние зала и группы длится весь концерт, который совсем не похож на бесформенную массу песен, исторгаемую из себя бултыхающимся в наркотическом кайфе вокалистом; на восемь песен у Doors уходит 45 минут 45 секунд, причем сюда входит и пауза в две минуты, когда музыканты, закончившие сет из четырех вещей (When The Music’s Over и следующие за ней без перерыва Whiskey Bar, Back Door Man и Five to One – одно из двух-трех типовых начал концерта для Doors), как всегда, не знают, что играть дальше. Как обычно, Моррисон дружески выпивает с кем-то из публики пиво, просит дать ему сигарету и спрашивает людей о том, какие вещи они хотят услышать. «Не кричите все разом, я не слышу!» Тут нет глубокого погружения в черные пределы, а есть только намек на него, начинающийся с вопля «Wake up!» и продолжающийся сюрреалистическим стихотворением, прочитанным нараспев. Тут много света и тоски – чистой тоски Spanish Caravan и прекрасного света Hello I Love You, – и огонь Light My Fire в конце горит так ясно, так жизнеутверждающе и энергично. Главный хит группы в Филадельфии звучит всего-навсего 9 минут 20 секунд, и во время гитарного соло Кригера люди в зале кричат и стучат по подлокотникам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.