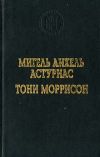Текст книги "Моррисон. Путешествие шамана"

Автор книги: Алексей Поликовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
В Клируотере Джим Моррисон читал свои стихи друзьям и Мэри Вербелоу в кофейне под названием «Beaux Arts», расположенной в Пинеллас парк. Кофейня сгорела в 1987 году. Лицо у него на фотографиях той поры странное: взгляд как будто все время обращен в себя. Он выглядит чуть сонным, чуть заторможенным и немного растерянным. Примерно в это же время (в 1964 году) он вместе с другими студентами снялся в рекламном фильме университета штата Флорида. Две сценки с Моррисоном занимают чуть больше минуты. Это единственный кинодокумент, показывающий нам, каким был Моррисон в двадцать лет. В первой сценке он подходит к почтовом ящику, закрепленному на шесте перед сельским домом у пустынной дороги, и читает письмо, полученное из университета. Во второй беседует с чиновником в университетском офисе. Обыкновенный студент, ничего примечательного. У него круглое, еще детское лицо. Только в одном месте, читая письмо, он вдруг делает быстрое, странное, спазматическое движение, в котором можно предположить подавленный тик или спрятанный психоз.
Его стихи, написанные до 1965 года, неизвестны (за исключением двух, уже упомянутых: Pony Express и Horse Latitudes). Я не говорю: не сохранились, потому что допускаю, что один или два исписанных Моррисоном блокнота сохранил кто-нибудь из его давних – до группы Doors – друзей. Может быть, пройдут годы, и блокнот в черной обложке, с загнутыми углами пожелтевших страниц, выплывет на свет. Моррисон – не важно, живой или мертвый, – приучил нас к тому, что из тьмы на свет периодически появляются вещи, считавшиеся утерянными или несуществующими. Так появились на аукционе «Кристи» двадцать шесть его рисунков, о существовании которых никто не подозревал, так выплыли студийные записи, сделанные в июне 1971 года в Париже, о которых думали, что они утеряны. Может быть, нам следует предположить, что и сам он, бородатый и грузный, в бежевой шляпе на длинных несовременных волосах, в цветной рубахе навыпуск и в мятых брюках цвета хаки расхаживает босыми ногами по нагретым солнцем доскам пола в доме с белыми стенами где-нибудь на Крите или Цейлоне и, посмеиваясь, решает, какую наживку выбросить еще для этих жадных, голодных, мучимых любопытством акул.
4.
Поэзия была способом его существования, а рок-музыка только формой, удачно подброшенной временем. Эта форма не была пошита точно по его фигуре, и поначалу ему было в ней не очень-то удобно. Группа Doors начиналась с вдохновенного музицирования Манзарека, порхавшего пальцами по клавиатуре дешевого Wurlitzer Electric Piano, и с аморфного вокала Моррисона, пробовавшего петь, как пробуют холодную воду: осторожно, на ощупь. Джон Денсмор вспоминал много лет спустя, что Моррисон, подходя к микрофону, всегда отводил взгляд. Он стеснялся. Группа Doors начиналась с репетиций, проходивших то в гараже родителей Манзарека, то в доме Стю и Мерилин Кригеров, то на квартире студента университета Хэнка Олгуина. 5 ноября 1965 года они впервые сыграли в общественном месте, которое называлось «Pioneer Club Bоat Ride»; но что они там играли и сколько человек их слушало – неизвестно. В маленьком клубе «London Fog», куда их позднее наняли на постоянную работу, им платили пять долларов на брата по будням и десять по выходным. Группа начиналась с нового звука, который они старательно вылепливали два года, от концерта к концерту, от клуба к клубу, – со странного, ни на что не похожего звука, в котором есть место романтической гитаре, сумасшедшему пианисту, вдохновенному барабанщику и невменяемому певцу, раз от разу не попадающему в такт и не умеющему играть ни на одном инструменте. Кроме бубна.
Название The Doors было придумано Моррисоном прямо на пляже, в тот день и час, когда он, глубоко погрузив ладони в теплый песок, пел свои стихи Рею Манзареку. Так, во всяком случае, говорит миф, который уже несколько десятилетий плотной непрозрачной атмосферой окутывает реального Моррисона и реальную группу Doors. Это миф об отчаянном поэте, который сжег себя в рок-музыке, как в костре, и о трех его верных оруженосцах. Но каждый, кто спокойно и внимательно вчитается в мемуары Денсмора и Манзарека и в десятки интервью, данные самыми разными – от музыкантов до пресс-агента, от случайных знакомых до телохранителя – участниками этой истории, без труда найдет в их рассказах несовпадения, несоответствия и временные нестыковки. Окончательная правда, как всегда, недостижима: у нас, к сожалению, нет возможности послать в прошлое зонд-исследователь, который, приземлившись в 1965 году, передал бы нам в наш 2007-й картинки подлинной реальности. Что касается названия группы, то Денсмор и Кригер узнали о нем в стареньком желтом автомобильчике «фольксваген-жук», летящем по хайвею в районе Лос-Анджелеса, в момент, когда все четверо, включая сидящего за рулем Рея Манзарека, курили марихуану, передавая друг другу самокрутку. Инициатором балдежа на скорости был, конечно, Моррисон, сидевший справа от шофера в мятой футболке, драных джинсах и босиком.
Но в начале, прежде звука и названия, конечно же, было слово. Doors – редкая группа: если вычесть музыку, текст все равно останется. Двери еще не открылись, еще не случилась встреча Моррисона и Манзарека на пляже, и Робби Кригер и Джон Денсмор еще не записались на курс трансцендентальной медитации в доме семьи Уилсон, а слово уже было. Оно заполняло страницы блокнота, который Моррисон всегда носил с собой. В этот блокнот Джеймс Дуглас Моррисон, сам себя всегда по-детски называвший Джимми, по-прежнему записывал приходившие ему в голову строки. Странные это были строки. Они качались, как небо в глазах у пьяного, наклонялись, как крылья самолета, потерявшего горизонт, плыли в глубокой сонной воде, вытягиваясь по течению, как водоросли. Разрозненные и одинокие, они никогда не складывались в слитный поток, в общую картину. Разрыв, разброд, улет, потеря связи, отсутствие ориентации, сумрак и бред были свойственны студенту факультета кинематографии и безо всяких наркотиков.
Мир, данный ему в ощущениях, был расколотым на куски, разбитым на части, разорванным в клочья. Целостность сознания ему не была дана. Его строки, словно крошечные осколки зеркала, улавливали миниатюрные кусочки реальности. Машины, мчащиеся по бульвару Сансет, сочно сияя красными огнями в синем вечернем воздухе. Лицо женщины, рассматривающей босоножки, отразившееся в витрине. Что тут реальность: отражение, босоножки, женщина? Всегдашний, нескончаемый шум океана, набегающего на широченные пляжи американской Венеции, сливался с шумом крови и с неумолчным шелестом сознания, раскрепощенного с помощью куска рафинада, пропитанного крохотной каплей ЛСД.
В группе Doors Джим Моррисон был единственный новичок в компании пусть не знаменитых, но искушенных музыкантов. Робби Кригер до Doors играл в группах Back Bay Chamberpot Terriers и (вместе с Джоном Денсмором) Psychedelic Rangers. Сорок два года спустя, на вручении премии «Грэмми», Кригер вдруг открыл публике, что в момент, когда Манзарек и Моррисон пригласили его в группу, его стаж игры на гитаре составлял всего три месяца. Но тогда, в 1965-м, он не признался им в этом. Три месяца он держал в руках инструмент или не три, но гитарист он был превосходный. Он отбивал у бутылки горлышко, надевал его на палец и водил им по струнам, создавая необычный звук. Ни одной записи групп, в которых он играл, не сохранилось (разве что в недоступных публике архивах самого Кригера). Джон Денсмор тоже имел большой опыт: он играл в госпиталях перед ветеранами Второй мировой войны и на улицах, в составе марширующих оркестров. Он побывал барабанщиком в самых разных безымянных командах, игравших абсолютно любую музыку на свадьбах, днях рождения, бар-мицвах. Что касается Рея Манзарека, который был в группе старшим по возрасту, то он уже успел поиграть и в джазовом трио Калифорнийского университета, и в группе Rick and the Ravens со своими братьями. Наивысшим достижением этой группы было приглашение сыграть на разогреве перед Сонни и Шер, однако Сонни и Шер по неизвестной причине на концерт не приехали, и наивысшее достижение не состоялось. Записи сохранились. Джазовый пианист Манзарек был хорош для узкого круга академической профессуры, интеллигентно хлопавшей ему в ладоши во время концерта в университетском культурном центре; что касается Rick and the Ravens, то группа пилила классический рок-н-ролл пятидесятых, сделанный в стиле Фэтса Домино и Билла Хэйли. Под такую музыку хорошо танцевать в узких полосатых брючках. Уже тогда, в 1965-м, это была музыка прошлого.
Ни аудио, ни кинозаписей выступлений Doors в клубах «London Fog» и «Whisky a Go-Go», естественно, не сохранилось. Кто стал бы тратить пленку и драгоценное время своей жизни, фиксируя многочасовые концерты никому не известной группы в темном накуренном зале? Такого энтузиаста не нашлось. Группу составляли три пациента Махариши Махеш Йоги, добивавшиеся просветления души в его трансцендентальном центре, находившемся в районе Пасифик Пэлисэйдз, и один вдохновенный наркоман в эротических кожаных штанах. Да и самого клуба «London Fog», где они начинали, играя пять часов подряд перед пятью равнодушными посетителями и рыжеволосой девушкой Памелой Курсон, тоже не сохранилось. А вот клуб «Whisky a Go-Go» – белое здание с арками на углу улицы – существует до сих пор. Сейчас этот клуб – почтенный ветеран, а тогда был новомодным заведением, принадлежавшим Элмеру Валентайну, бывшему полицейскому из Чикаго. Отставной коп неплохо соображал: пусть те, кто постарше и побогаче, развлекаются в клубах «Плейбоя» и берут пример с Хью Хефнера, а он сделает ставку на молодежь. Первым артистом, выступившем в новом клубе на Сансет-стрип, был певец Джонни Риверс, ныне почти забытый, зато потом последовали незабвенные: Beach Boys, Боб Дилан, Джими Хендрикс, Love с Артуром Ли, Jefferson Airplane с Грейс Слик. Музыка пышно расцветала под высоким потолком этого модного места, где молодые тела всю ночь сплетались в психоделических танцах.
Элмер Валентайн – солидный, крепкий мужчина в темном костюме и при галстуке, с добротным лицом полицейского из фильмов сороковых годов – имел вкус к шоу-бизнесу. Однажды он увидел, что на галерее, над ритмично колышащейся человеческой массой, в одиночку танцует девушка в белой облегающей майке, коротких шортиках и кедах. Она танцевала с закрытыми глазами, но по каждому ее движению было видно: она чувствует, что сотни пар глаз жадно касаются ее покачивающихся бедер и скользят по ее обнаженным, закинутым за голову рукам. Элмера Валентайна в очередной раз осенило, и он распорядился повесить на верхотуре стеклянные кабины, где отныне каждую ночь у шестов в беспрерывном экстазе танцевали полуобнаженные девушки. Валентайн даже нанял им преподавательницу хореографии. Девушки танцевали пять часов каждую ночь и получали 150 долларов в неделю.
Не только, значит, виски могло быть go-go, но и девушки. Отныне в американском языке появилось новое выражение: «go-go girls». Мэри Вербелоу, прилетевшая в Лос-Анджелес к Джиму, некоторое время проработав в офисе госпиталя и поучившись живописи, в конце концов сорвалась с твердой орбиты, на которую запустили ее родители. Девушка-католичка освоила новую профессию в еще одном модном клубе на бульваре Сансет. Клуб назывался «Gazzari». Моррисон не хотел, чтобы Мэри там танцевала. Но она все равно каждую ночь висела над грохочущим залом в стеклянной кабинке и танцевала, танцевала, танцевала до упаду.
Когда весть о том, что Джим Моррисон занялся рок-музыкой и основал группу Doors, дошла до его приятелей в Клируотере, они со смехом пожимали плечами. Не было человека, менее пригодного для музыки, чем он. Начиная свою сценическую карьеру, он часто пел мимо нот. Он сам знал, что фальшивит, гнусавит, отстает от темпа, забегает вперед, и поначалу его это смущало. Он жался к краю сцены, принимал стеснительные позы, отворачивался от зала. Но это быстро прошло. На бесчисленных концертах в темном зальчике клуба «London Fog» он постигал суть сцены, на которую ни в коем случае нельзя выходить обычным нормальным человеком. Сцена требует преодоления в себе границ и рубежей. Эти рубежи уже так давно вдавлены в гены homo sapiens, уже так сильно срослись с его психикой, что как будто стали самой сутью человека, который в результате веков эволюции и витков развития стал человеком ограниченным. Мысли его текут по заранее проложенным каналам, чувства его загнаны в рамки приличий, тело его зашито в ткань, волосы пострижены по лекалу, голос ограничен малыми децибелами, а поступки, как кольца детской пирамидки на штырь, всегда нанизаны на элементарную логику. Человек общественный, или цивил на языке новых левых, процежен тысячу раз через социальные ситечки, очищен от опасных примесей, разлит по бутылочкам и готов к употреблению. Вот через эти границы и рубежи и прорывался стеснительный книгоман Джим Моррисон, выходя на сцену. И, встав на этот путь, взломав замки в своем собственном мозгу, раскрепостив свое тело, подпалив душу, он ощущал дикий кайф: кайф человека, с грохотом и воплем рушащегося в пропасть, кайф алкаша, пляшущего свои кривые танцы на центральной площади города. Кайф освобождения.
Трое других имели совсем иные стимулы. Группа состояла из четырех очень разных людей, которые могли безоблачно быть вместе только тогда, когда их сплачивала одна большая идея и одна общая цель: прорваться. Оптимист, позитивист, гурман и хороший сын добрых родителей, Рей Манзарек был на пять лет старше Моррисона; группа Doors была для этого взрослого человека последним шансом в один прыжок перепрыгнуть из неуютного состояния выпускника-переростка в счастливую жизнь сбывшегося человека. Другие были моложе его и еще имели время искать самих себя, ему же оставался всего один шаг до восьмичасового рабочего дня в офисе. В группе он старался играть роль старшего брата и стабилизатора самолета, который усилиями пилота Моррисона то и дело валился в штопор. Робби Кригер, сын богатых родителей, ко всему происходящему относился с легким юмором патриция; посреди дебошей и безумств он отстраненно импровизировал на гитаре. Что касается Джона Денсмора, отпустившего огромные бакенбарды, которые должны были конкурировать с кожаными штанами Моррисона, то нервный барабанщик, как ни странно это прозвучит, с самого начала с неприязнью смотрел на фронтмена группы и терпеть не мог его выходок. И мрачная группа Doors, в которой он волею судьбы играл, ему не нравилась. Во всяком случае, в перерывах между сетами в клубе «London Fog» он убегал в соседний клуб «Whisky a Go-Go» посмотреть на веселую группу Love, которая его восхищала.
Счастливое время первоначального братства закончилось очень быстро. Несходство характеров и устремлений было столь разительным, что Манзарек и Денсмор и через тридцать лет после смерти Моррисона продолжали выяснять отношения из-за сотни долларов, которые трое членов группы летом 1965 года в складчину доплачивали Манзареку, снимавшему дом на пляже. Группа тут репетировала. Манзарек считал дом скромным жильем для себя и своей любимой женщины Дороти Фуджикавы, а Денсмор – роскошной виллой, которую хитрый органист организовал себе за счет товарищей. Оба не нашли ничего лучшего, как тянуть каждый на свою сторону пребывающего в других мирах бездомного отщепенца Моррисона. Это препирательство двух миллионеров о 33 долларах должно показаться Повелителю Ящериц очень смешным, где бы он сейчас ни находился. По версии Манзарека, Джим полностью поддерживал его и считал Денсмора скупердяем и идиотом. По версии Денсмора, Джим бегал по окрестным барам в поисках ангажемента для Doors и раздраженно говорил о Манзареке, что он гад, живущий за счет группы.
5.
Родители Мэри Вербелоу не хотели отпускать ее в Лос-Анджелес, к Моррисону, который в их глазах был болтун без будущего. К тому же он пил. Девушке пришлось пройти через ряд семейных сцен. Мама, папа и средний класс цеплялись за нее руками, присосками, усиками и щупальцами. Ты не должна туда ехать! Ты не имеешь права туда ехать! Подумай о своем будущем! Мать в виде компенсации за отказ от любви предложила Мэри купить в ее комнату новый мебельный гарнитур. Самый модный в середине шестидесятых, в античном стиле! Ты разрушаешь свою жизнь! Подумай, у тебя будет собственное трюмо с тремя зеркалами! Ничего не помогло, даже трюмо. Мэри взяла билет на самолет и прилетела в Лос-Анджелес, где Моррисон в мятой армейской куртке встречал ее в аэропорту с сияющим от счастья лицом. Он был исполнен преклонения перед ней, так, словно она была не высокая статная американская девушка, прилетевшая эконом-классом, а ангел, сошедший с небес по лестнице из радуги и цветов.
Он и Мэри жили теперь в одном городе, но у каждого была своя квартира. Соединения не происходило. Она упорно держала дистанцию. И, даже приходя к нему, она всегда умела словом или жестом показать, что пришла не навсегда и уйдет обязательно. В ней была твердость независимой женщины, которая точно знает, чего хочет. Он никак не мог преодолеть ничейную землю между ними, никак не мог сблизиться с ней так, чтобы между ними уже больше ничего не было: ни воздуха, ни одежды, ни противоречий, ни отталкивания двух «я». Она и будучи с ним, была с ним не вся и не до конца. В ней было своеволие, с которым его воля не могла тягаться. И все равно он не мог без нее ни дня, все равно он боготворил эту высокую девушку со спортивной фигурой и сильным, независимым характером.
Теперь пришло время Мэри Вербелоу преодолевать стены и заборы, которыми ее окружили родители. Она записалась на отделение живописи в городской колледж и ездила туда через весь огромный город. Она хотела быть художницей. Моррисон думал, что она прилетела к нему, но нет, она прилетела в новую жизнь, в которой он был ее пусть и важным, но не единственным интересом. Они теперь словно боролись за то, кто из них взрослее и ответственнее относится к другому. Когда Мэри увлекалась танцами и устроилась на работу в клуб «Gazzari» на Сансет-стрип, он требовал от нее, чтобы она образумилась и вернулась к учебе. Но она не отдавала ему инициативу. Она в ответ говорила, что затея с Doors ей не нравится. Все равно ничего не выйдет. Какие двери, почему тогда не окна? Она говорила ему то же самое, что говорил отец и десятки других людей в Клируотере, в Лос-Анджелесе, в университете: какая такая рок-группа? какая такая музыка? у него нет музыкального образования! он в жизни не умел отличать ля от фа! Ему лучше перестать играть в Джеймса Дина, оставить репетиции в доме у Кригера и заняться делом: вернуться в университет и подумать над темой для диссертации.
В маленьком захолустном Клируотере они мечтали о времени, когда между ними не будут стоять ее родители. Теперь они были вместе – двое влюбленных в огромном Городе Ангелов, на краю пустыни, на берегу океана. Но что-то не срасталось. Он сделал ей предложение. Почти в отчаянии. Она сказала «нет». Подробностей сцены, – а вернее, целого ряда сцен, – мы не знаем. Мэри Вербелоу всегда отказывалась давать интервью, всегда избегала прессы, даже той, что предлагала ей деньги за несколько часов откровенного разговора. Оливер Стоун, снимавший в девяностые свое дурацкое кино, пытался побеседовать с ней, но тоже получил отказ. Лишь однажды, через тридцать четыре года после смерти Моррисона, она согласилась поговорить с корреспондентом газеты, выходящей в ее родных местах, и рассказала ему некоторые подробности отношений. Очень сдержанно, очень скупо. К тому времени, когда она наконец согласилась дать первое и последнее интервью в своей жизни, она дважды была замужем, дважды развелась, не имела детей и жила в Калифорнии в передвижном доме-автомобиле. Одна.
Как бы то ни было, поздней весной 1965 года в Лос-Анджелесе она сказала Моррисону окончательное «нет». Непутевый студент-кинематографист, зачем-то затеявший рок-группу, в качестве спутника жизни ее больше не устраивал. Он был никто, а она уже стала девушкой года в клубе «Gazzari»! И если в конфликте двух самолюбий и в тонкой механике любви важно знать, кто кому нанес бóльшую боль и кто кого бросил, то надо сказать прямо: это Мэри Вербелоу бросила Джима Моррисона.
Роды, отношения в семье в ранние годы жизни, первая любовь – вещи, которые создают человека. Отцовская строгость замкнула перед Моррисоном внешний мир и вытолкнула его в потаенный мир книг и видений, а расставание с Мэри Вербелоу покалечило его душу. Он был убит, уничтожен, разрушен, потерян и пребывал в этом состоянии – в разных его проявлениях – до смерти. Он всегда ее помнил и никогда не переставал тосковать по ней. Именно тогда, когда Мэри ушла от него, он начал пить по-настоящему. Именно тогда, когда она оставила его, он впервые в жизни ощутил глубокое отчаяние. Это был первый в его жизни полный и окончательный The End, равнозначный смерти.
Что-то в нем умерло. Сбитый с ног, уничтоженный болью и тоской, он загремел вниз, покатился под откос в равнодушном отупении к собственной судьбе. В Лос-Анджелесе у него была неплохая квартира, которой завидовали другие студенты. Квартиру оплачивали родители. Разрыв с Мэри и разрыв с родителями совпали во времени; и тут впервые в жизни он должен был ощутить горечь свободы, и тоску свободы, и одиночество, которое является оборотной стороной свободы. Он оставил энергичный, раскаленный, пропитанный душком безумия Город Ангелов и переселился в полузаброшенный пригород, в сонную Венецию, стоящую на заросших тиной каналах. Он переехал в захламленную халабуду, в которой жил его университетский приятель по имени Деннис. Там было слишком тесно и грязно, и тогда он выбрался на крышу и отныне жил на свежем воздухе под открытым небом. Если он и спускался вниз, то только чтобы бродить без цели по огромным пляжам, опоясывающим Венецию, и бормотать стихи.
Почти все, что Doors предстояло спеть в последующие годы, возникло летом 1965 года, когда смятенный и одинокий Моррисон часами сидел на пляже, зарыв ладони в песок и глядя на океан. В нем словно открылась дверца, и в эту дверцу из поднебесных сфер пошел поток энергии. Новые стихотворения в его блокноте появлялись одно за другим. Он тосковал по Мэри и прощался с ней. Она была где-то рядом, неподалеку, в нескольких километрах, днем она куда-то шла, с кем-то встречалась, сидела за столиком кафе в усыпанном огнями, живущем круглые сутки Лос-Анджелесе, ночью она танцевала в своей инфернальной прозрачной кабинке над человеческой протоплазмой – и была недостижима для него, так, как будто ее взрывом отнесло в другую Вселенную. Приходил вечер, небо темнело, пляж пустел, а он все сидел на песке, подняв колени к подбородку, упорно глядя на океан, по черной глянцевой поверхности которого скользил лунный свет. Глядя на океан, он шептал Moonlight Drive – стихотворение, в котором они вдвоем уходили по лунной дорожке в даль неба, в темную глубину воды.
В это лето он написал Summer’s Almost Gone. И The End он написал тоже этим летом. Композиция, которая уже несколько десятилетий воспринимается публикой как философская вещь о жизни и смерти, на самом деле изначально была короткой, двухминутной песней о любви. Она написана вслед высокой девушке с длинными, гладкими, отливающими красноватым цветом волосами, которая навсегда ушла от него. The Crystal Ship, стихотворение, в котором так чувствуется его растерянность, его нежность, его тоска по ней, он тоже сочинил в длинные пустые дни в Венеции. Может быть, это самое чистое и самое нежное стихотворение о любви, которое только есть во всей лирике шестидесятых; а тогда ведь так много и так хорошо писали о любви.
В этой американской Венеции на краю света я никогда не был – не добрался. В Бостоне, в аэропорту Логан, ожидая самолета в Европу, я глянул на ряд электронных часов под потолком, показывавших время в разных городах Америки, и удивился: велика же эта страна, если из Бостона до Лос-Анджелеса лететь столько же, сколько до Амстердама! Ну и что? На все физические невозможности мне тут, в этой книге, наплевать. Белые американские особняки с колоннами и изогнутыми крышами на берегу каналов я могу увидеть, и не переносясь в пространстве за три часовых пояса. Чуть гниловатый запах зеленой стоячей воды, заброшенные набережные, по которым ветер звонко гонит пустую банку из-под пива, пальмы с длинными листьями, тронутыми желтизной, ржавые железные мостики над каналами, с которых отшелушивается белая краска, всегда видный в проемы между домами синий, голубой, фиолетовый, зеленый океан – вот он, сонный и полузабытый городок, где обитает страдающий и несчастный Моррисон летом 1965 года.
Это блаженное время. Люди, о которых теперь написано в каждой рок-энциклопедии, вызревают в горячем воздухе, на жарком солнце, у белых стен, под синим небом. По всему калифорнийскому побережью, по вот этим маленьким и сонным городкам растекается пестрое племя хиппи. Они все прибывают, и прибывают, и прибывают. Начинается исход – исход молодых людей из городов, контор и семей. Здесь они могут жить, не тратясь на теплую одежду, не забивая ум работой, не обременяя душу тревогой. О, те давние хиппи, пестрый прекрасный народ на краю мира, отказавшийся от суеты городов, от толстых бифштексов с кровью и насилия во всех его видах, где вы теперь, мои любимые братья и сестры? Перья в длинных волосах. Бахрома на джинсах, босые ноги, блузы, расшитые цветами, бусы на груди и браслеты на кистях тонких рук. Смех. Сидя на асфальте у аптеки, вытянув ноги, прикрыв глаза, хорошо ронять пальцы на струны мандолины. Валяясь на пляже, оперев локти о песок, хорошо часами рассматривать мельчайшие белые ракушки у себя под носом и подвывать океану, составляя с ним прекрасный дуэт.
И никуда не спешить. Хиппи, пришедшие в Венецию в самой середке шестидесятых, никуда не идут и ничего не хотят. Они не похожи на пришельцев других эпох, которых видела эта земля: пионеры ставили изгороди и готовы были пристрелить любого незнакомца, золотоискатели бешено рыли норы и трясли лотки. Эти ничего не огораживают, ничего не роют, ничего не ищут, никому не грозят, никуда не идут. Они просто сидят на пляже, прислонившись спинами к стволам огромных калифорнийских пальм, и глядят в океан. Или лежат на скамейках в центре городка, подложив под головы рюкзачки, покуривая сладковатые сигареты с марихуаной. Их разговоры непостижимы для жителей городка, для читателей местных и национальных газет, для потребителей рекламы, для слушателей радио, которые всегда в курсе всех новостей. Но у этих свои новости, и они распространяются устно. Это новости о музыке, которая звучит в барах и зальчиках Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, это новости о балдеже, который можно словить, зарядившись новым средством ЛСД, которое еще тридцать лет назад изобрел ушлый швейцарский врач… и которое теперь продвигает один клевый чувак из Гарварда, Тимоти Лири.
Если они говорят о свободе, то совсем не о той, о которой написано в конституции и вчерашнем номере толстой «L.A. Times». Это другая свобода, свобода в другом измерении: свобода от денег, от забот, от успеха. Как индийские йоги, они готовы сидеть на солнцепеке всю жизнь и слушать шум океана. Разве в шуме набегающей воды не зашифрованы все ответы на все вопросы? Надо только уметь услышать, надо только суметь вычленить их из равномерного шума миллионов волн. И так, переходя с пляжа на пляж, с набережной на набережную, кочуя по каналам и скамейкам, ночуя в заставленных койками комнатах общаг и на крышах сараев и складов, то ли студент, то ли поэт Джимми Моррисон записывает в блокнот свои странные осколочные стихи. Он без денег. Летом 1965-го он почти не ест и теряет в весе чуть ли пятнадцать килограмм. «Thanks to the girls who fed me22
Спасибо девушкам, которые кормили меня. Здесь и далее переводы с английского языка выполнены автором.
[Закрыть]», – напишет он позднее.
6.
Несколько лет спустя, уже будучи лидером всемирно известной группы Doors и Повелителем Ящериц, Моррисон вспоминал те годы без восторга. Он говорил о «трудностях и унижениях». Какие могут быть трудности в калифорнийском пальмовом раю, какие унижения в самой свободной стране мира? В Венеции у него часто не было денег, чтобы поесть как следует, но еда никогда не была для него первостепенной потребностью. Когда он жил на крыше, в его хозяйстве, помимо электрического одеяла, которым, кстати, он весьма гордился, была маленькая плитка с газовым баллоном, и можно представить себе все разнообразие блюд, которые он готовил себе под теплым звездным небом блаженной Калифорнии: китайская лапша, бизнес-ланч с сухим мясом, бульон в кубиках. Он был абсолютно неприхотлив. В перерывах между концертами он мог питаться замороженной клубникой, а перед смертью в Париже вместо лекарств ел ананасы; куда важнее еды для него всегда были таблетки и пиво. Что касается унижений, то пребывание в университете, куда он заходил раз в квартал, было, конечно, для него мучительным. Прежде всего потому, что университет, даже американский и даже в начале свободных шестидесятых, представлял собой упорядоченную форму материи. Преподаватели учат, студенты учатся и сдают дипломные работы и экзамены. Они должны говорить преподавателю «сэр». Такие отношения – дистанция, дисциплина, авторитаризм – слишком напоминали ему семью и отца.
Он, такой начитанный, такой эрудированный, такой ни на кого не похожий, никогда не попадал в число лучших студентов, которые приглашались для участия в торжественных церемониях в конце каждого учебного года. Их фильмы показывали на просмотрах в присутствии голливудской публики, его никогда. Это его тоже оскорбляло и унижало. Когда это случилось в очередной раз, он вынес свои старые записные книжки во двор и устроил из них костер. Никчемная чушь. Слабые вирши. Он уже тогда, в самом начале, чувствовал всю похабную сущность социума и был готов к исчезновению и отвержению. Но чем они-то виноваты, его стихи? Вместе с ними он в приступе горького мазохизма сжигал частицу самого себя, который так болезненно переживает свой неуспех в университете. Он отомстил университету, не явившись получать диплом; впрочем, совершенно так же он поступил, окончив школу.
Унизительной была и повестка, призывавшая его в армию. Можно ли представить себе этого нервного интраверта с глазами нежного любовника и сильной склонностью к асоциальному поведению – в казарме, старательно заправляющего койку под строгим взглядом наголо бритого сержанта? Рей Манзарек некоторое время служил в американской армии, где играл в оркестре и чуть не сошел с ума; несколько хитрых финтов позволили ему демобилизоваться на год раньше срока. Моррисон в армию идти не хотел, армия, вместе со столь любезным его отцу военно-морским флотом, представлялась ему жутким местом, где люди пожирают людей. Перед визитом на призывную комиссию он наглотался таблеток и предстал перед врачами с сердцебиением, которое было слышно чуть ли не из другого конца комнаты. Ему показалось мало, и для надежности он рассказал врачам, что он – завзятый гомосексуалист. Из советского военкомата его сразу бы увезли в следственный изолятор, из российского отправили бы в легкой гавайской рубашке и пляжных шлепанцах к месту постоянной дислокации в город Анадырь, а из американского отпустили с миром.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.