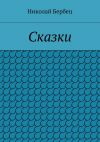Текст книги "Тетрадь в клетку. Книга стихотворений"

Автор книги: Алексей Улюкаев
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
«В тюрьме – отключение белого света…»
В тюрьме – отключение белого света,
То на неделю, то на день, то…
Это хорошая, в общем, примета:
Быть богатым неузнанному! Конь в пальто,
И то более схож с человеком,
А ты то ли призрак, то ли тень,
Родня принца Гамлета среди зеков
До первой стражи тенит плетень.
Кошки все серы, зеки довольны,
Мытого от немытого не отличить.
Тверь тоже могла бы быть градом стольным,
Б. Перемерки – Рублёвкой быть.
Разница менее принципиальна,
Чем между живущими с разных сторон
Решётки. Не столь отдалённые (дальние
С точки зрения бродских ворон)
Места. Примостившись в тени столетья,
Сидишь – сидеть под луной не ново.
А где-то рядом играют дети
И выручают один другого.
«Газета не хуже света погасшей…»
Газета не хуже света погасшей,
Но луч успевшей послать звезды
Доносит до Б. Перемерок наших
Через семь тощих лет следы
Жизни, теперь превратившейся в сущее —
Ствованье (сogito ergo non sum),
Следы дыма, который гуще,
И труб, что выше. Газетный шум
Напоминает о том июне,
Когда начиналась, как нацпроект,
Беда. Потонула в газетном шуме
Жизнь. И более жизни нет.
«Утратишь и чутьё, и зрение…»
Утратишь и чутьё, и зрение,
Покроешься, как Иов, струпьями.
Пусть кожу барабана лупят,
Она не лопнет тем не менее.
Ты будешь хлеб делить с убийцами,
Одним крестом распят с Вараввой.
В курятнике такие нравы,
Поскольку курица не птица.
Смирясь и не гневя природу,
Храни лишь гордости остатки:
Последний вздох, мгновенье краткое
Облечь в отчётливую оду.
«Небо возвращает синий цвет…»
Небо возвращает синий цвет,
Одеяло тащит день у ночи,
Как сосулька – нарастёт куплет
На первоначальной паре строчек.
Так и не востребован тулуп,
Лыжам и конькам грозит уценка.
Цельсий бережлив, точнее – скуп,
Как Спаситель, он распят на стенке,
Градусную ртуть убережёт,
Словно снег, случайно легший в тени.
И Земля огромный свой живот
Акушерам сдаст на сохранение.
«Нет гармонии, сказано нам, в природе…»
Нет гармонии, сказано нам, в природе.
Вне природы – тем более: гни по линии,
Не отыскать через топи брода,
Нет его в яви, нет и в помине.
Поищу её лучше в бегущих волнах,
Наполняющих пеной песчаный кубок.
Что ж останется, кроме как пить, наполнив,
И вводить в заблужденье гортань и губы?
Заблудившись, хулить за неточность карту
И на Млечный Путь повышать свой голос.
А коль скоро удастся дожить до марта,
Вместе со льдом удалиться, не беспокоясь
О гармонии, то бишь о смысле жизни,
На других перекладывая гармонистов.
А я теперь занят – готовлю тризну,
Боюсь услышать к финалу свисты.
«Посылая кого-то к такой-то матери…»
Посылая кого-то к такой-то матери,
Совершенно точно знают к какой.
Уточненье возможно, но необязательно,
Как мост над несудоходной рекой.
Эвфемизмами вскормлены поколения,
Заменяют всё время одно другим:
Ясно, что остаётся в словесной тени,
Когда произносят словечко «блин».
Ясно, что делать за неимением
Гербовой – что и на чём писать.
Но в этой ясности тем не менее
Заблуждаемся опять и опять,
Как египтяне во тьме египетской.
Хотя, казалось бы, понимание
Близко, как Лебедянь от Липецка:
Плёвое, в общем-то, расстояние.
«Писатель наг. Читатель приоделся…»
Писатель наг. Читатель приоделся:
У нас хоть бедно, но довольно чисто.
Так Тютчев, прикрывая Мининдел свой,
Срывал с себя рифмованные листья.
Так граф и артиллерии поручик
Толстой мундиром прикрывал Россию
(Пучком своих страничек самых лучших),
Сам оставаясь и нагим, и сирым,
И босым. Так же Пушкин, камер-юнкер
И муж своей жены Н. Гончаровой,
Был так же наг, как вызревший фурункул —
Читатель же одет и очарован.
Писатель наг. И кожу снял, и рожу
Такую корчит – впору петь в Бедламе,
Ничтожен среди всех созданий божьих.
Но только он и остаётся с нами.
«В этом краю агрессивное эхо…»
В этом краю агрессивное эхо,
Скажешь: «Я здесь!» А в ответ: «Он уехал!»
Ты: «Напишу!» Там: «Без прав переписки!»
Ты: «Я вернусь!» – «Он ушёл по-английски!»
В этом краю очень странное эхо.
Ты крикнешь – а эха и рядом не слышно.
Ты плачешь – оно отзывается смехом.
Твердишь: «Я живой!» Отвечает: «Вам крышка!»
Но ты не молчишь, не молчишь. Не молчишь, не…
«Виной – моя пока что не вдова…»
Виной – моя пока что не вдова,
Что я живой, пока она жива
И шепчет мне слова любви простые.
И я живу – и отражаю свет
Её, и потому мне смерти нет,
Что все грехи она мои простила.
И молод я – седьмой десяток лет,
Весь – отрицанье слабости и бед:
Ведь так меня её зрачок увидел.
Восстану я всем существом моим,
Огонь души не застилает дым.
…Всё остальное описал Овидий.
«Командиры отправились в командировку…»
Командиры отправились в командировку,
Творцы погрузились в творчество.
А ты сидишь – и тепло, и ловко:
Есть срок, но нету отчества.
При встрече зовёшь: гражданин, гражданка,
Всех в точности по ПВРу.
И даже Фома не погрузит в ранку
Персты. Видно, под «фанеру»,
Под «минус» орущей дежурной части
Твердить тебе строки и строфы.
Двери тюрьмы открываются настежь
Только идти на Голгофу.
«Сумма трёх-четырёх углов…»
Сумма трёх-четырёх углов
Актуальна лишь для имеющих угол,
Уха актуальна для вылавливающих улов,
Декламация – для имеющих губы.
Даже ловцы человеческих душ
Понимают, что тело не может без душа,
Как душа – без тела, а слыть дюжим
Актуально лишь для берущих за гуж.
Вот и имущий лишь кожу да кости
В чём-то сродни радже даже.
Собственно, всё дело в собственности,
Которую Прудон называл кражей.
«Крещение, оно же – водосвятие…»
Крещение, оно же – водосвятие,
Купель под безморозным небом,
И синие, с креста как будто снятые,
Тела, откормленные не мясцом, а хлебом.
Неужто тот, крещёный в Иордане,
Вот этой вот хотел мясной нарезки?
А может, он об этом знал заранее
И этот тоже принял грех? Мысль дерзкая,
Но почему-то в голову приходит
И привлекает, словно хлеб насущный,
Когда тела, печать тюрьмы несущие,
Купаются при всём честном народе.
«Ходят строем по пять, а умирают поштучно…»
Ходят строем по пять, а умирают поштучно.
В этом отличие жизни от института
Пенитенциарного: определение ненаучное.
Но оно мне нравится почему-то.
В баню, из бани, а по воскресениям
На мероприятие в клуб – обязательно строем
Движутся сами тела и их тени.
Впрочем теням можно ходить и по трое.
Царство теней более милосердно.
Многие тут убедились в этом.
Ты говоришь, что всё это merde? Но
Здесь ведь тоже бывают и зимы, и вёсны, и лето,
И осень. И травы растут. И птицы
Прилетают (удивительно: птицы – в клетку!).
Но всё то ли видится, то ли мнится,
То ли читается в письмах, редких,
Как жемчуга зёрна в навозной куче.
А навозные мухи и жук-навозник —
Гости в тюрьме самые лучшие:
Не крадут на погоны вечные звёзды.
«Дело отмечено знаком вопроса…»
Дело отмечено знаком вопроса.
Тело отмечено знаком допроса,
Знаком внезапно пришедшей беды.
Так со времён Иисуса Христоса,
Чьё тело также носило следы
Знакомства с системой правоохранительной,
Которая страж (от кого? как? и где?).
А время у нас – настоящее длительное,
Подобно герундию. Иль ерунде.
И всю ерунду словно сладкую патоку
Лавиною льют в неокрепшие души
Окрепшие туши. Сначала – с оглядкой,
А после в открытую. Следует слушать
И слушаться. Иначе – следствие. То есть
Последствия – мало не станет (но стонет!).
А вы говорите: печальнее повести
Нету, чем та, что случилась в Вероне…
«В тех краях, где герундий считается ерундой…»
В тех краях, где герундий считается ерундой,
А Оноре де (Бальзака!) путают с гонореей,
Жил мальчик – из тех, каких много рядом с тобой,
Но какие кончают скорее не на мавзолее – на рее.
В тех краях, коли высунулся, больно бьют
И легко одарённость меняют на бездарь.
А он всё решал, кто же прав был – Брут
Или всё-таки Цезарь.
Мальчик рос, а империя не росла
Даже вширь, не говоря уж о сути.
И из списка предложенного ремесла
Он выбрал – людей защищать от жути
Холопства, жестокости, нищеты.
И ему повезло – он стал рядом с великими
И был с правителями на «ты».
Хотя лучше было им всё-таки «выкать».
«Жизнь течёт, а не капает…»
Жизнь течёт, а не капает,
Как с конца молодца.
Моды меняются: шляпы,
Цвет носков, цвет лица.
Ветер приходит, уходит,
Кружит в ходе своём.
Позабылись народы,
Населявшие окоём
Ойкумены: ацтеки, древние греки,
Варяги, заплутавшие без дорог.
Жизнь течёт, человека
Сбивая с ног.
Реки мелеют, зайцы
Линяют, мыши грызут тома.
Лишь одно не меняется —
Тюрьма.
«Жизнь – не кошелёк с цехинами…»
Жизнь – не кошелёк с цехинами,
А тем более – дукатами,
А скорее очень длинная
Тина, а в конце – распятие.
Тина, караси, мерси забывшие,
Щуки, без дантиста, а зубастые,
И законы – гибкие (не дышло ведь!),
Нужные, как той собаке «здрасьте».
«Тюремного хлеба вкушая…»
Тюремного хлеба вкушая,
Вкусил его мало. Но он
Наш бедственный быт украшает:
Не торт, и не Наполеон,
Не злой император каптёрки —
Припёк третьесортной муки,
Пускай не окно – только фортка,
Пускай не в Европу – в Торжки,
Ржевы, Твери – дух хлебный,
Святой по понятиям дух,
Он гонит все боли и беды,
Покуда ещё не потух
Огонь в той тюремной пекарне,
Где пекарь, мешая муку,
Смягчает все муки для твари,
Считающей срока ку-ку.
«Здесь, словно в скобки или кавычки…»
Здесь, словно в скобки или кавычки,
Люди, которым не повезло,
Заключены, каждый в личную кичу,
Лишние люди. Вселенское зло,
Приняв майора внутренней службы
Образ, и ряшку вполне отъев,
Гонит на них морок и стужу —
На вечных юношей, не знающих дев.
Здесь целомудрие. Здесь премудрость
Сохранить человека в нечеловеческих
Условиях. И всю ночь ждать утра.
…а больше здесь в общем делать нечего.
«Чёрные фески и чёрные робы…»
Чёрные фески и чёрные робы
На плацу, как раз посредине.
Смотрит за ними до самого гроба
Чёрное солнце ФСИНа.
Со стороны – очень жарко,
Впрочем, в геенне жарче.
Робы чёрные и немаркие.
Чего ещё надобно, старче?
«Мой микроскоп – тюремное окно…»
Мой микроскоп – тюремное окно.
Тычинки, пестики, крупицы хлорофилла
Им увеличенные, прыгают в блокнот,
Словами став. Пока меня не смыло
Потоком Стикса – и в тартарары,
Я ставлю на зелёное. Растения
Мне повышают ставки той игры,
В которой проигравший станет тенью.
Но я вцепляюсь намертво в ботву.
Зрачок. Окно. Владенья горизонта.
Земля летит, теряя на лету
Тюрьму, братву, начальников. Без Понта
Эвксинского, Олеговых ладей,
Но по пути из греков во варяги
По воле волн, что Волгою владеют,
Где вороги костьми мостят овраги,
И, заслонясь штандартом федеральным
От злой судьбы людей, влекомых Стиксом,
Они спешат себя вписать в анналы
Не Тамерланом, так хотя бы Иксом.
А я гляжу в подобье микроскопа,
За каждую былинку благодарен.
Пусть археолог, проведя раскопки,
Отметит, что по паре всякой твари
В Твери лечили зеленью кошмары.
«Не забудешь, не смоешь стиральным…»
Не забудешь, не смоешь стиральным
Порошком, ни каким-то иным.
Память движется по спирали
К ней дугою уходит дым —
Дым отечества. И гвоздями
Вбиты дни. А числа им несть.
Стилю новоколониальному
Здесь в колонии место есть.
Допустимое место точек,
Строчек, чёрточек между датами.
Навсегда сохранишь эти ночи,
Сроки, напрочь ночами разъятые,
Навсегда сохранишь эти лица
Робы чёрные, дни бесконечные.
Здесь, под боком великой столицы
Тащат бремя своё человечки.
«Мы не рабы. Мы, робы…»
Мы не рабы. Мы, робы
Надевшие прямо на души,
Прямоходящие двуногие.
Имеющий глаза и уши
Да услышит, увидит, припомнит
Место в цепи эволюции:
Так и проходят – за волнами волны.
Были вольные, словно Муций
Сцевола, – всё сжигающие,
Чему поклонялись некогда.
Были господами, товарищами.
Стали – граждане. Некого
Виноватить. Нету ничьей вины
В том, что робы линяют в стирке,
Что стирается образ детей земных
И идут они под копирку
Чёрным оттиском: береги копирайт.
Как бы там ни рябели ряды
На водоразделе black and white
Тем не менее – мы не рабы!
«Хождение по крупам актуальней…»
Хождение по крупам актуальней
Хождения по мукам для колонии.
Пенитенциарной вертикалью
Пронзённый, возвращусь в земное лоно.
Поевши каши – ячки ли, перловки,
Крупчатку бытия не упусти из вида.
Пройду все переплавки, перековки,
Как негры-невольняшки из «Аиды».
Не расставаясь на мгновенье с ложкой,
Когда ты спишь или стоишь на плаце,
Сознание теряя понемножку,
Как те Леонкавалловы паяцы.
Храни меня не крест, а ложка каши,
Храни, как Марс хранит свою пехоту,
Храни, как эти ноты жизни нашей
Хранит достойно хор из «Гугенотов».
«Мера пшеницы всего за динарий…»
Мера пшеницы всего за динарий,
За тот же динарий – три ячменя,
За единый вздох угнетённой твари,
Которую на меры разменять
Нетрудно, но библейский арифметик
Пасует пред меню колониальным:
Перловка, ячка – зеки, словно дети, —
Вари, горшочек! Угодишь специально
К вечере тайной с сечкою небесной:
Зерно умрёт, но жизнь дарует зеку.
Весь мир его, духовный и телесный,
Храни зерно меж жерновами века.
«Облака обволакивают Валдай…»
Облака обволакивают Валдай,
Капли влаги приносят на радость зеку.
Радость строго по пáйкам, не через край,
Как при бегстве пророка в Мекку.
Безобразное состояние вещества
Понемногу сменяется газообразным,
Вдалеке различима едва-едва
Эта, прежде глаза разъедавшая, разница.
Будет вечер – длиною до самых столбов
Геркулесовых. Сменится точечной ночью
Лёгкой поступью Греты Гарбо.
Нет, ещё более лёгкой – моей дочери.
«Пускай на Красной площади она…»
Пускай на Красной площади она
Круглей, но здесь – двояковогнутая:
Весьма разнообразная страна,
Диаметральным преданная догматам.
Там – хоть кати на заднице в Китай,
Тут – центробежной силой угнетённый,
Замри: континентальная плита
Несёт свои невидимые волны.
Здесь – рытвина на плоскости земной,
Здесь яма, дно – не в силах дальше падать.
Здесь выстроились в очередь за мной,
Как за переходящею наградой,
Торговцы рыбой и ловцы людей,
Работорговцы, конвоиры зеков,
И Вельзевул, и местный Асмодей,
Тунгус и финн, калмыки и абреки,
Почтенный эллин, хитрый иудей —
Довольно затяжная перекличка.
…на Красной площади земля всего круглей,
А здесь у нас совсем другой обычай.
«Мужчины без женщин впадают в детство…»
Мужчины без женщин впадают в детство:
Законсервирован инфантилизм.
Консервы вскрывают лишь после следствия,
Суда, приговора и срока. Без виз
Об отбытии срока – хоть ахай,
Хоть охай, хоть ешь говно.
Ты можешь стать пенитенциархом,
Но взрослым не станешь всё равно.
«Подобная овчинке от бурнуса…»
Подобная овчинке от бурнуса,
Подобно вате, пуху Первомая,
Летит к нам от Казбека и Эльбруса
Начинка облак влажно-перьевая.
Пролей сюда немного этой влаги,
Смой слёзы мне слезою дождевою,
Чтоб в пульпу обратить мои бумаги,
А жизнелюбье как-нибудь удвоить,
И белый свет равняя с той овчинкой,
И мня себя счастливейшим из смертных,
Как Мачу-Пикчу покорившим инком,
Взлететь к высоким звёздам через тернии.
«Храни, о юмор, юношей несчастных…»
Храни, о юмор, юношей несчастных,
Попавших с строгим сроком в лапы ФСИНа,
Чтоб эти годы не прошли напрасно,
Чтоб их, как кости, не погрызли псины,
Чтоб подавился ненасытный Цербер,
Чтоб клиники несолоно хлебали,
Чтоб сохранили мускулы и нервы,
Как в Кане закусив пятью хлебами.
В скитаниях тяжких сохрани их, юмор,
Божок беспечный, защити усмешкой
От правил и регламентов безумных,
От злых князей, от пастырей потешных.
«Нелёгкий путь ведёт акына…»
Нелёгкий путь ведёт акына
На плац и с плаца, на обед
И ужин. Солнце шпарит в спину,
И ветер заметает след.
Его увидя, брея щеки,
Ты понимаешь жребий сей:
Петь день за днём, слагая строки
О малой родине своей,
О красоте колониальной,
О всём, чем жив в тюрьме народ,
О каждом выдохе буквально:
Акын что видит, то поёт.
«Падёт ночная тень. Над миром…»
Падёт ночная тень. Над миром
Зажгутся сотни крупных звезд.
Прокисший Млечный Путь кефиром
Зальёт под утро всё окрест.
Луну попутав со сметаной,
Коты оближут небосвод.
Для чёрных дел покамест рано,
Для белых дел – наоборот.
Тут промежуток монохромный:
Все кошки серы как одна.
Луна нам кажется огромной,
На землю падает она.
Ловите их, и по карманам
Набив ночное серебро,
Для белых дел, ты видишь, рано,
Они не кончатся добром.
Прощая дерзкие привычки,
Луну лунатику на грудь
Пришпиливают, словно лычку,
Обмакивая в Млечный Путь
«Что за комиссия, создатель…»
Что за комиссия, создатель!
Построен плац, идёт проверка.
Проваливаясь, словно в вату,
Сознанье покидает зека,
Уходит звёздною дорогой,
Находит путь в астральной выси.
А тело вянет понемногу,
Гниёт, заветривает, киснет.
Комиссия пришла по делу.
Погон в погон, мундир к мундиру.
И бренное проверив тело,
Над ним ликуют командиры.
Душа же лёгкая, как муха,
Летит без всякого приказа.
И у неё теперь Пир духа,
И у неё сегодня праздник.
Прости комиссию: создатель
Им недодал ума и денег.
Она приходит так некстати,
Полезная, как в жопе веник,
Иль, как патологоанатом.
Неисчерпаема, как атом.
«Унеси меня в ночь…»
Унеси меня в ночь —
Сам бы стал Енисеем,
Чтобы вырваться прочь
На паях с Моисеем,
Весь оставшийся срок
По пустыне скитаться,
И, не чувствуя ног,
Молодеть лет на двадцать.
Стал бы волком, а нет —
Стал бы чучелом волчьим.
Заметая свой след,
Унеси меня ночью,
От погонь убегая,
От погон. На просторе
Глас услышу с Синая,
Свет увижу с Фавора.
Мне за бегство награда —
Встречу сына и дочь.
Из ФСИНального ада
Унеси меня прочь.
«Роняет зек свой головной убор…»
Роняет зек свой головной убор.
Он на плацу, на солнце ждёт проверку
За часом час. Как из крысиных нор,
От ног исходят испарения терпкие
Немытых тел, непросветлённых душ,
Тупых без практик мозговых извилин.
…а на плацу опять играют туш
В шикарнейшем колониальном стиле.
«В девятом круге Данте поместил…»
В девятом круге Данте поместил…
Но, впрочем, нам сегодня не до Данте.
Мы говорим последнее прости,
Выходим на одну секунду к рампе —
И вот: девятый круг, точней – отряд
Родного и проверенного ада,
К геенне приспособленный наряд:
Роба раба – другого и не надо.
Геенне предназначенный субъект,
Свои грехи расположив в каптёрке,
Встаёт, проклятьем заклеймённый зек
(а также маркером специальным), горькой
Слезой умывшись, постирав носки,
Постель заправив, подтянув по канту,
Молчит, не в силах скрыть своей тоски.
Ему сегодня явно не до Данта.
«Церковь и библиотека…»
Церковь и библиотека —
Просто соседние двери
Дух укрепляющих зека,
Фатумом вбитого в Тверь.
Библии Янус двуликий
(Что здесь частица? Волна?)
Гуглить? Не гуглить! Не кликать!
Только бумага! Сполна
Дань Гутенбергу заплатишь,
Перлы в навозе ища.
Сила печатного – кстати, —
Словно Давиду праща.
Библия! Книга с заглавной!
Логос, как лотос, цветёт.
Следом с времён стародавних
Буковки ищет народ.
Прежде всего было слово.
Дело ему соразмерь.
…В общем за этим – снова и снова —
И отправляются в Тверь.
«В любом безумии – своя система…»
В любом безумии – своя система.
А тут она усилена колючкой:
СИЗО, ШИЗО – шизеешь постепенно,
Усваивая, что пожарный случай —
Нормальный вариант существования
В обыденной, но огненной геенне,
В обычном, но ненормативном поле брани,
На щедрых грядках лексики обсценной.
В любом безумии: торговцы рыбой,
Несложные для упражнений флейты.
Они бы и на мне сыграть смогли бы,
Как и на прочих позвоночных инструментах,
Майоры – плоть майора Ковалёва.
Остаться без «Шинели» только с «Носом»?
Явиться «Ревизором»? Что ж такого?
И озадачить невзначай вопросом
Тех, кто уже в допросах съел собаку,
А в наказаньях – может быть, и кошку.
Кто машет кулаками после драки,
А кто – для вида только, понарошку.
«Чита гораздо дальше Твери…»
Чита гораздо дальше Твери,
Карелия – того страшней.
Когда за осуждённым двери
Захлопнулись, и ты стране
Уж больше ничего не должен,
Подумай: прежде, до тебя
Шли по этапу дож за дожем,
Мост вздохов вброд переходя,
И окунались в Краснокаменск,
Как в воды Стикса – боль по грудь.
Так что дыши ещё покамест
Ты жив, пока ещё чуть-чуть,
Но брезжит, режет тьму надежда.
Как в Нерчинск забрела она
Ко мне, как забредала прежде
И тех писала имена
На жалких лагерных обломках,
Кто честно шёл свой скорбный путь
И, преодолевая жуть,
Не видел в человеке волка.
«Борщевик, шиповник, крапива…»
Борщевик, шиповник, крапива,
Вьюнок, подорожник – с лихвой
Хватает для дивного дива.
Сражающиеся с тюрьмой
Зелёные воины смело
Тюремный теснят камуфляж.
И срок получившее тело
Уходит в свободный пейзаж.
И срок превозмогшую душу
Природа от ФСИНа хранит.
Ничто мой покой не нарушит
Ничто не вспугнёт аонид.
И волю – на волю! – исполнят
Склонившиеся предо мной
Крапива, борщевик, шиповник,
Вьюнок, подорожник – с лихвой.
«Пока дышу, надеюсь…»
Пока дышу, надеюсь.
Спасительный кислород
Пространством воли владеет,
Вдыхаемой рот в рот
От демонов ли, от ангелов
К нашему шалашу,
Ковчегу – обритых наголо.
Пока надеюсь, дышу.
От ангелов ли, от демонов
Исходит благая весть:
Раба скорее на сцену,
Пока ещё сцена есть,
Пока ещё цел занавес,
Дыханьем кулиса полна
Пока звучит благовест.
А дальше – тишина.
Пока ещё есть исцеление
От внешне смертельных ран,
Пока не пришло ещё время,
When the curtain comes down.
«Нить телефона, Ариадны нить…»
Нить телефона, Ариадны нить
Для дочери моей одно и то же —
Архаика! Как много изменить
Пришлось, как много подытожить
За краткий миг – за человечью жизнь.
Верстай историю похлеще Геродота,
Свергая с пьедестала вниз
Миф, книгу, телефон и прочие длинноты.
Но я в копилке памяти своей
Храню в век Интернета – будь оно неладно! —
Бумагу, ножницы, пяток карандашей,
Нить телефона, нитку Ариадны…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.