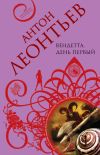Текст книги "Конец света, моя любовь"

Автор книги: Алла Горбунова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
На правах рекламы
Позвольте представиться, я ангел чистого сознания, ментальный контролер, а проще говоря – корректор ваших текстов. Но не совсем обычный корректор. Я работаю в агентстве, которое принимает на вычитку ваши тексты: письма, деловые бумаги и все, что вам только вздумается. Но нас не волнуют ваши запятые и мелкие опечатки, которыми занимаются обычные корректоры. Мы ищем в ваших текстах кое-что более важное. Например, написанное большими буквами слово «ХУЙ». Или «ПИЗДА». Или что-то еще в таком духе. Представляете, как это неудобно: вы пишете деловое письмо, а там между строк ни с того ни с сего затесалось слово «ХУЙ». Вы пишете начальнику, а в конце письма, после слов «с уважением» стоит «СДОХНИ, СУКА, ПАДЛА, МУДИЛА». Вы пишете девушке, за которой ухаживаете, куртуазное письмо, а между строк откуда ни возьмись «Я БЫ ТЕБЯ ВЫЕБАЛ, ДРЯННАЯ СУЧКА, ДАВАЙ ОТСОСИ У МЕНЯ». Вы спросите, откуда это все берется в ваших текстах? Ответ прост: это вырывается из подсознания. Проконтролировать процесс письма до конца вы не можете, особенно если вы устали, раздражены или чем-то отвлечены. И в таких случаях слово «ХУЙ» или что похуже вырывается из вашего бессознательного и попадает на страницы ваших текстов. Бесполезно потом самостоятельно перечитывать свои тексты и пытаться самому найти подобные выплески матерщины, агрессии и вытесненной сексуальности: вы просто их не заметите, не сможете увидеть. Если вы столкнетесь с подобными словами и фразами в вашем тексте, не сомневайтесь: они тут же будут вытеснены вами как неприемлемые для вашего сознания. Поэтому и приходится людям, ценящим свою репутацию, обращаться в наше агентство. То, что мы делаем, – внимательная и кропотливая работа, и стоит она недешево, но, может, пора уже наконец прекратить позориться?
С уважением,
ангел чистого сознания,
корректор 6-го разряда
по ментальному контролю
агентства «Стыдно у кого видно»
НЕСИТЕ НАМ ВАШИ ДЕНЬГИ, ДЕБИЛЫ, ЕБАНЫЕ КОЗЛЫ
IV. ПАМЯТЬ О РАЕ
Память о рае
Я родилась в центре Эдема, в Колыбели Бога, в Стране Чудес, во Времени сновидений. Вещи вокруг меня превращались и пели, – они еще были неопределенны и не знали своих границ. Я провела во сне, не отличимом от бодрствования, тысячи лет, и все это время сосала грудь моей матери. Ни одна вещь не была тождественна себе самой, все было едино и целостно. Медленно, постепенно мой целостный, младенческий мир разрушался. В нем завелась странная болезнь, которая разъедала его, и однажды все распалось на сон и явь. Я проснулась. Я покинула Колыбель Бога и утратила блаженство и всемогущество. Я была изгнана из Страны Чудес, я была разлучена с матерью, я утратила бессмертие и обрела речь.
Я обнаружила себя у самого моря, на берегу, на Васильевском острове. Меня катали на колясочке. Впрочем, помню я и кое-что до этого, помню, как младенцем писала на оранжевую клеенку. Делала я это злонамеренно: только что мне сменили пеленки, и мне хотелось из вредности как можно скорее намочить новые. Вредность была моей основной движущей силой: как-то там, на Морской набережной, меня оставили в кроватке и ушли разговаривать на кухню. Я возмущенно кричала, но никто не обращал внимания. Тогда я перевесилась через прутья, выпала из кроватки и сама пришла на кухню. Была немая сцена. Я торжествовала. Позднее из вредности я научилась читать, когда мне было три года. Я укусила мать, и в наказание решили, что со мной никто не будет играть несколько дней. Тогда я взяла книгу и сама научилась читать, чтобы ни от кого не зависеть, и прекрасно провела эти несколько дней за чтением.
Я помню залив, пустыри, новостройки – обширные пространства, продуваемые ветром. Ветер дул все время, и я простужалась, – это было одной из причин, по которой моя семья решила переехать. Второй причиной была проходная комната. Мы жили в большой двухэтажной квартире. На первом этаже была кухня, туалет, ванная и огромная проходная комната. Из нее вела лестница на второй этаж, где были две спальни и тоже туалет с ванной. Мы с мамой с тех пор, как я родилась, жили в проходной комнате, и это было не очень удобно – все через нее ходили и будили меня, да и маме хотелось приватности. Я не хотела переезжать, плакала, я любила ту квартиру, и меня обманом перевезли в наш новый дом на Ленинском проспекте. Мне было три с половиной года. Все лучшее, что со мной было, на тот момент уже закончилось, осталось там, в квартире на Васильевском острове.
Я помню свое блаженное пребывание среди вещей, когда я играла в большой комнате и рылась в детских книжках с картинками, снимая их с нижней полки стандартной советской стенки со встроенным сервантом и множеством ящиков. То, что я чувствовала тогда, было моим нормальным состоянием, нормальным состоянием маленького ребенка, – блаженством, которому причастны святые, тихим беспричинным блаженством, рассеянным в предметах, в домашней обстановке, в самом восприятии пространства, блаженством души, заключенной самой в себе. Я уже не жила в Эдеме в той полноте, как в младенчестве, я уже начинала ощущать тяготы изгнания, но оказалось, что и на Земле он хотя бы частично оставался со мной и продолжал жить во мне, что многое от него все-таки удалось сохранить. Мое блаженство таилось в маминых печатной и швейной машинках, в том, как пахла мамина одежда в шкафу, и, конечно, внутри откидной полки в ногах маминой кровати, там, где было секретное отделение и где в темных углах пребывали в вечном блаженстве части моей души. Наверху серванта стояла коробка с пуговицами и нитками, вожделенная коробка, и с этими пуговицами и нитками мне всегда хотелось играть. Я расскажу вам правду, которую очень мало кто может понять: ничего другого нет. Люди хотят делать одно, другое, но это все не нужно. Ни для чего другого, кроме этого блаженства, в Боге нет места: ни для любви и дружбы, ни для труда и молитвы. Все сложные, заковыристые пути, которыми люди хотят прийти к Богу, никуда не ведут. В Боге есть только коробка с пуговицами и нитками, и ничего кроме. Лучшее, что ты можешь делать, – это перебирать пуговицы, вдевать нитки блаженства в пуговицы блаженства снова и снова. Вот и все. Больше нет никакого секрета, и лучше ничего не может быть. Впрочем, едва ли вы это поймете.
Помню я также, как тогда, во время жизни на Васильевском острове, мне сделали прививку. Бабушка повела меня в поликлинику и обещала, что там мне дадут конфетку. В кабинете я протянула руку медсестре и попросила конфетку. «Конфетку? Ха-ха!» – сказала медсестра и вколола мне в руку толстую иглу, было очень больно и нестерпимо обидно. Бабушка не хотела меня обманывать, она просто ошиблась, но я долго не могла утешиться.
На Ленинском было совсем другое пространство, но новостройки, пустыри, ветер и залив были там тоже. Все мое детство мы гуляли во дворах с бабушкой. Дворы за нашим домом и до моей школы – это одни дворы, в них жила Юлька, в них мы играли на территории детского дома и иногда случайно попадали чем-то по стеклам, а няньки с метлами орали «фашистки» и тащили нас в детскую комнату милиции; дворы за домом бабы Бебы – другие дворы, там большая горка, стадион, пруд, через них идти к сусловскому универсаму; третьи дворы – за универмагом, там были дикие груши; четвертые дворы – за бывшей булочной, там круглый пруд и огромный макет корабля, желтые старые дома с колоннами, – сейчас эти дома отреставрировали и сделали элитный квартал с подсветкой, мостовыми и беседками вокруг пруда.
Но настоящая моя жизнь протекала гораздо в большей степени на даче, чем в городе. Дача была Эдемом и памятью о нем в нашем мире, внутреннее и внешнее смешивались в ней: она была настолько же внутри, насколько и снаружи. Она была образом моей души, превращенной в природу. Пространство моей дачи – это мое внутреннее сокровенное пространство, там растет лес моего бессознательного, в котором я нахожу озера, глубину которых вы никогда не сможете измерить, недаром во сне я почти всегда нахожусь именно на даче.
На месте нашего дома прежде был лес и вереск. В 60-х годах в лесу за старой финской границей стали появляться дачи. Наш дом был одним из первых. В поселке есть всего четыре дома на четыре семьи: с четырьмя верандами, кухней и комнатой в каждой четвертинке, – как сросшаяся спинами четверка сиамских близнецов. Это были дома для самых бедных: большинство домов в поселке на две семьи или на одну. Помимо причин экономических, была еще одна причина для строительства такого дома: мы хотели жить все вместе. Я говорю «мы», но в действительности меня тогда не было и в зародыше, а моей будущей матери было десять лет. Они хотели жить все вместе, друг рядом с другом, одной компанией друзей: моя прабабушка баба Беба с мужем и младшей дочерью в одной четвертинке, мои бабушка с дедушкой с дочерью и сыном – в другой, друзья прабабушки Кутузовы – муж и жена – в третьей, и друзья прабабушки Богдановы – муж и жена, их дочь, ее муж и вскоре родившийся сын – в четвертой. У каждой семьи было по шесть соток земли, но поскольку все жили одной компанией друзей, никаких внутренних заборов не стали ставить, и дом окружил большой участок в двадцать четыре сотки.
Перед тем как брать эту землю, мои тогда еще молодые бабушка с дедушкой приехали посмотреть на место, посидели под тройной березой, – теперь огромной, а тогда еще совсем небольшой, – выпили вина и решили: берем! Участок взяли в 65-м году, тогда же построили наш сарай и сарай Кутузовых, в 66-м году был построен дом, и у бабушки с дедушкой родился сын Алеша, в 67-м году были построены печки. Вырубили вереск, и среди сосен, елей и берез стали устраивать огород, копать грядки, сажать яблони. Часть участка находится на небольшой горе, там сделали беседку, обвитую плющом, с двумя сторожевыми соснами у входа. Рядом с нашей калиткой выкопали колодец. Под тройной березой поставили скамью, и вторую – с другой стороны поросшей клевером поляны перед домом. Дедушка выращивал землянику – собирал по четыре ведра, и один раз преподнес на день рождения своему тестю Николаю Васильевичу ведро земляники. Было много цветов: флоксы, георгины, пионы, тюльпаны. В моем детстве дедушка привозил срезанные тюльпаны в городскую квартиру, и они благоуханно плавали в ванной. У меня была своя грядка нарциссов, которую я поливала из детской лейки. Дедушка прививал яблони и сирень, которую он очень любил, и я тоже ее особенно люблю. Черенки он получал по переписке из других городов, или надо было ранней весной, когда еще снег, срезать черенки, пока еще не распустились почки, и хранить их в снегу или в холодильнике. Теперь наша сирень погибает, и огород пришел в запустение. В моем детстве летом у нас всегда было множество ягод: помимо разных сортов земляники, было изобилие малины, красной и кое-где желтой, черная и красная смородина, крыжовник. К столу всегда были лук, укроп и салат, на огороде росли картофель, кабачки и огурцы в маленькой теплице.
Когда я была совсем маленькая, вдоль лужайки рядком стояли пни от срубленных лесных деревьев, и я по ним прыгала. Но деревьев все равно осталось очень много: сосны, березы, ели, осины, дубки и один торжественный клен у калитки. А рядом с сараем, в конце участка, где кучи компоста, растет привезенная дедушкой с Валаама пихта. Около второй скамейки на краю лужайки раньше рос маленький можжевельник, но не смог выжить. Под яблоней по дороге к туалету, проходящей мимо огромного куста жасмина, облепихи, черной смородины и синих ирисов, находились мои качели. А когда я просыпалась, по мне косыми зайчиками гуляло солнце, искрящее в ажурных, бело-золотых цветах спиреи под окнами. Звенел умывальник под жасмином. У веранды стояли три бочки: большая, поменьше и самая маленькая. Я представляла, что большая бочка – это дедушка, поменьше – бабушка, а самая маленькая – я.
В сарае находится одна из прекраснейших вещей, принадлежащих моей семье: старинный туалет – огромное зеркало с резьбой, столиком и ящичками из черного дерева, вероятно, конца XIX века. В единственной комнате просторно и сумрачно, две кровати, темно-синие обои, печь-голландка, велосипеды, инструменты и множество подушек. Есть второй сарай – маленький, специально под дедушкины инструменты. В старом доме места очень мало. На веранде стоят обеденный стол и табуретки, вдоль стекол висят дощатые жалюзи, на веревках под потолком какие-то пучки сушеной травы. Старая, уже антикварная, радиола ловит только радио «Маяк». Под столом раньше ютился сундук со всякой моей ерундой: рисунками и рваными отсыревшими книжками. Диван завален всяким хламом. На кухне – газовая плита, печь, посуда и раскладушка. В комнате – две кровати, где раньше спали мы с дедушкой, а иногда с мамой, когда она приезжала по выходным, стол, стул, розовые с золотым обои, занавески, испачканные кровью от убитых комаров, и черно-белая фотография черно-белой кошки на стене, про которую я рассказывала другим детям, что это я в прошлой жизни.
Отчима моей бабушки деду Колю я не помню вовсе. Но баба Беба была рядом со мной первые десять лет моей жизни. Когда взяли дачу, ей было пятьдесят пять лет. Сохранились цветные фотографии с маминой старой «мыльницы», как она стоит на участке, за год до смерти, восьмидесятичетырехлетняя, вся маленькая и худая, с жиденькими седыми волосами, подкрашенными золотистой хной, одетая во что-то коричнево-старушечье. Она была красавицей, и в самой глубокой старости сохранила удивительную, нежную кожу.
Баба Беба родилась в 1910 году в Варшаве. Про ее детство я знаю, что они почему-то вдвоем с сестрой Тамарой маленькими пробирались через какие-то военные заставы в Петроград и что она вроде бы училась в каком-то французском пансионе. Ее отец был врачом, а мать Анна пропала в Варшаве во время войны при каких-то таинственных обстоятельствах: то ли она умерла от менингита, то ли сошла с ума, ничего толком не известно.
Баба Беба была яркой, эксцентричной личностью. Коммунистка, атеистка, одна из зачинательниц «сексуальной революции»: вначале у нее были курсы повышения квалификации руководящих работников Ленгорисполкома, потом, когда их закрыли, она организовала фирму «Невские зори» – эта фирма одной из первых в советское время стала заниматься семейным консультированием. Она собрала к себе ведущих специалистов в этой области, у нее работали Свядощ, Цирюльников и другие. Она была светской дамой, и, благодаря тому, что ее второй муж Николай Васильевич был директором театров и домов культуры, а потом стал директором ДК Ленсовета, она знала всю артистическую публику, и мои дедушка с бабушкой ходили бесплатно на все спектакли и представления.
Сам Николай Васильевич был родом из деревни и очень любил рыбалку. Начинал он рабочим на заводе, был членом партии, на войне дослужился до майора, уже после войны получил высшее образование. На семидесятилетие Николай Васильевич получил орден Ленина, очень хотел получить звание Героя Советского Союза и переживал, что не получил. Последние десять лет своей жизни он был нем: с ним случился удар в день свадьбы моей матери.
Первый муж бабы Бебы – дед Тимофей был родом из Тулы из рабочей семьи, окончил рабфак, выучился на экономиста. В семье деда Тимофея у всех были синие глаза. У него была сестра Матрена и тетка Нюра, они были знахарками. Баба Нюра была очень сильной знахаркой, к ней съезжались люди со всей страны. Она обучила Матрену, и та тоже кое-что умела. У Матрены были синие-синие глаза, в молодости она была разбойная и сидела в тюрьме, очень любила мужчин, а к старости стала богомольная, жила одна в Москве и сидела при церквях – просила милостыню. Дед Тимофей очень любил бабу Бебу, и, даже когда они расстались, продолжал ей писать письма из Москвы, где обосновался и снова женился.
Баба Беба рассказывала, как они познакомились с дедой Колей: они где-то шли, кажется, на юге, в какой-то компании, и баба Беба увидела розу, цветущую высоко, и чтобы ее достать, надо было с риском куда-то взобраться. И она сказала: «Кто сорвет для меня эту розу – за того я выйду замуж». Деда Коля сорвал эту розу, и баба Беба вышла за него замуж. Есть фотография, где они вместе, и она смотрит на него глазами страстно любящей женщины.
Во время блокады баба Беба с детьми были эвакуированы в Уфу, там они жили – чуть ли не тридцать человек в одной комнате, но моя тогда еще маленькая бабушка была там счастлива ни от чего не зависящим детским счастьем, и там у нее была самая лучшая в жизни подружка, следы которой после безвозвратно потерялись. Чтобы выручить какие-то деньги, баба Беба варила самогон и продавала его, а потом, когда ждала возвращения Николая Васильевича с войны, все время выходила встречать его на дорогу в платке. На войне у Николая Васильевича появилась какая-то другая семья, и та другая женщина, с которой он там жил, потом писала ему письма, их получала баба Беба и уничтожала, ничего не говоря деде Коле, со словами: «Пожил, и хватит».
В моем раннем детстве меня, бывало, отводили в гости к бабе Бебе с Бедей, там они меня угощали чаем с полярным тортом и печеньем курабье, и я рассматривала либо детские книжки, либо старые альбомы с фотографиями. За пару лет до бабы Бебиной смерти я была у них в гостях, и перед моим уходом баба Беба меня вдруг спросила: «Как поживает твоя бонна?» Я знала, что бонна – это что-то вроде няни, но у меня никогда не было никакой няни. Я ей сказала, что она что-то путает, у меня нет няни, а она мне не поверила, решила, что я по-детски придуриваюсь, и я так и не смогла ее убедить в том, что у меня нет няни. Потом я вспомнила про этот эпизод ночью, сидя на детском ночном горшочке, и испытала леденящий ужас. Прежде мне казалось, что никто никогда не умрет, что все всегда будет по-прежнему, а баба Беба вдруг стала впадать в старческий маразм. Потом я уже потеряла чувствительность к этому, привыкнув к мысли, что баба Беба в маразме, и даже могла бездушно смеяться над какими-то ее нелепыми высказываниями и странностями. Самым страшным были те первые сбои, происходящие во взрослом, уважаемом и любимом мной человеке: по сравнению с ужасом, испытанным мной тогда, сама ее смерть прошла для меня незаметно.
В тот день мы пришли, она стала умирать, я вначале сидела в другой комнате, а в самый момент смерти вошла. До этого она была без сознания, но в последний момент пришла в себя и сказала: «Спасите меня».
В 65-м году, когда бабушка с дедушкой сидели под тройной березой и пили вино, им было меньше тридцати пяти лет. Всю свою жизнь, с момента встречи, они прошли рука об руку. Они вырастили дочь и сына, вырастили и меня. Когда я родилась, бабушка тут же вышла на пенсию и занялась мной. Меня начали возить на дачу с первого же лета моей жизни.
Вот одно из первых моих детских воспоминаний, связанных с дачей: мы с бабушкой и дедушкой идем к дому, это уже не первое мое лето на даче, но у меня еще нет связанной во времени последовательности событий, моя память еще не обладает непрерывностью, и то, что я помню, я помню отдельными выхваченными вспышками.
Итак, мы приехали из города. Не знаю, сколько мне, – может быть, года три. Бабушка с дедушкой просят меня показать, как идти к нашему дому, чтобы проверить мою память. Я обнаруживаю, что помню эту дорогу и дачу, и одновременно с этим обнаружением что-то изменилось. Теперь дача как будто другая, происходит какой-то едва ощутимый сдвиг. До этого дача была, но была нерефлексивно и беспамятно.
Другое раннее воспоминание, связанное с дачей и памятью, относится примерно к тому же времени. Возможно, это было тогда же, в тот же самый день. Мы зашли на участок, и бабушка сказала, что хочет пойти на Хоздвор. Я и до этого знала, что такое Хоздвор, и бывала там, но, когда она об этом сказала, я испытала тот самый странный щелчок, как с воспоминанием дороги до дачи: я впервые его вспомнила и как будто открыла для себя, и что-то едва уловимо изменилось. Произошел некий раскол, размыкание, и Хоздвор появился в этом размыкании. Это странное, едва уловимое ощущение первого обнаружения и размыкания я помню до сих пор.
Дедушка до восемнадцати лет жил в Петропавловске, в северном Казахстане. Предки его – крестьяне и железнодорожники из-под Вятки и Перми. Где-то под Вяткой есть деревня Глотово, у всех жителей которой фамилия Даровских, как у моего дедушки. Когда началась война, дедушка с его мамой и сестрой гуляли в парке. По радио громко объявили, что Германия начала военные действия. Дедушку на фронт не забрали, потому что он был еще подростком, во время войны ему было 12–15 лет. Забрали его двоюродного брата Володю, который прошел сапером всю войну, и за несколько дней до победы в мае 1945-го погиб – не от мины, не от немецкой пули, – он был застрелен во время обхода постов своим же часовым по какой-то нелепой ошибке.
Во время войны все хозяйство было на дедушке: его мать работала допоздна бухгалтером на железной дороге, мужчин, кроме дедушки, не было. Его отец во время войны умер в Алма-Ате молодым от остановки сердца, отправленный туда по какому-то военному заданию, и где могила его, неизвестно, а дед Алексей, когда-то бывший помощником машиниста на том поезде, который вез на расстрел царскую семью, умер, когда дедушка был еще маленьким. Дедушкина мама, баба Клава, прекрасно пела: она участвовала в самодеятельности и пела в клубе, и я помню ее песни, которые она пела мне, когда приезжала к нам погостить из Петропавловска. Осталась кассета этих песен – частично русских народных, частично из репертуара Анны Герман. Дедушка в военные годы тяжело переболел тифом. Приходил врач и говорил: «Он у вас обязательно помрет». А дедушка слышал и думал: «Врешь. Не помру». И не помер. Дедушка читал книги, которых у них был полный чердак, запирал в погребе младшую сестру, шатался на улице с мальчишками, но окончил школу с медалью и поехал учиться в Ленинградский политех на физика-ядерщика.
Приехал в Ленинград в шинели и с деревянным чемоданом. Занимался академической греблей, и они с командой, кажется, заняли третье место по Союзу. Встретил бабушку на вечеринке у друзей, куда они случайно оказались оба приглашены. Увидел ее – редкую красавицу, миниатюрную, тонкую, как тростинка, с темными косами вокруг головы – и пропал. Через год они поженились. Дедушка работал научным сотрудником в области атомной физики в НИИ, был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, бабушка – химик-технолог – всю жизнь преподавала в Технологическом институте и занималась разработками каучуков, за что получила звание заслуженного изобретателя Советского Союза.
В юности у бабушки было очень много поклонников, некоторые из них пронесли любовь к ней через всю жизнь, но бабушка выбрала дедушку, потому что, как она говорила, ей «было с ним легко». На работе ее уважали, а может, и побаивались. Бабушка была абсолютно честна всегда и со всеми. Она была доцентом и должна была бы вступить в партию, но отказалась. С людьми общаться она, скорее, не любила. В Бога не верила и говорила, что, скорее всего, это все сказочки, чтобы умирать было не страшно. Со студентами она была строга, а заведующего кафедрой однажды отправила в больницу. Он забирал у нее аспирантов, возник конфликт, и бабушкина тетка Матрена, та самая, что была знахаркой, дала ей какую-то траву и сказала посыпать у завкафедрой в кабинете. Бабушка посыпала, и его тут же увезли на скорой.
Вся жизнь для бабушки была в семье и в детях. Характер у нее был тяжелый. Дома всегда стоял крик, ругань, бабушка жаловалась: «Зла на вас не хватает». Меня очень удивляла эта присказка, потому что мне-то как раз казалось, что хватает, еще как. Мама была мягкая, никогда не повышала голос, а бабушка все время кричала. Она была несгибаема, прямолинейна, нетерпима. Ей отдали меня на воспитание, и это было кошмаром. Она любила нас, как умела, и старалась сделать для нас все, что могла. Она без устали готовила и кормила, контролировала своих взрослых детей и меня во всех мелочах. С тех пор, как она вышла на пенсию, у нее не было никаких других интересов, кроме семьи. Всю жизнь ее мучили ужасные мигрени. Она постоянно кричала во сне от того, что ей снилось, что она теряет ребенка, меня, где-то на улице или в магазине. Она испытывала ужасную тревогу за близких, не выносила, когда вечером кого-то нет дома, требовала, чтобы ей бесконечно звонили с улицы, прислушивалась к лифтам – не застряли ли они, вставала на табуретку и отслеживала из окна, как ее взрослый сын или моя мама выходят из дома и садятся в транспорт. У обоих ее детей не сложилась личная жизнь, и мама винила в этом ее, а сама бабушка постоянно говорила мне, что у мамы не сложилась личная жизнь из-за ее бесхозяйственности, и меня, такую неряху, тоже никто замуж не возьмет. Всех она держала под своим крылом, под стеклянным колпаком. Вся жизнь нашей семьи была подчинена эмоциональному состоянию бабушки. Я очень любила бабушку, но помню, как впервые в связи с ней почувствовала мучительное расщепление эмоции. Вначале она кричала на меня, и я злилась, а потом она сказала или сделала что-то невинно-трогательное, взяла какой-то мой совочек с нами на прогулку, я точно не помню, но в этот момент мне стало ее жалко, я все еще чувствовала злость, но одновременно почувствовала любовь и жалость, и как будто я смотрю на бабушку свысока и понимаю больше, чем она. Десятки лет спустя, когда мы увидели ее в морге, нам с мамой бросился в глаза ее гордый лоб, гордое величие и строгая красота ее лица. Помню, как я плакала, когда бабушка во время ссоры с мамой кричала, что я больше ее ребенок, чем мамин, – что всем, что она для меня делает, она давно уже получила права на этого ребенка. До какого-то возраста я хотела быть именно маминым ребенком и злилась, что, как мне казалось, бабушка обижает маму. Из-за отношений с бабушкой я многие годы испытывала сильный негатив, в голове моей рождались гнусные мысли, за которые мне было очень стыдно, я и сама себе казалась гадкой. Как-то я написала на бумажке какие-то гнусные, гадкие слова про бабушку и положила бумажку на стол. Мне хотелось, чтобы она ее нашла. Но потом меня охватил стыд, и я уничтожила эту бумажку.
Как-то я намазала губы блеском, и бабушка сказала: «Как же ты, должно быть, всем отвратительна!» Подобными высказываниями бабушка вызывала во мне мучительный, невыносимый стыд; мне казалось, что бабушка что-то знает обо мне, чего я не знаю, что-то видит, чего я не вижу, – и это что-то – то, что внутри я на самом деле отвратительная, гадкая, что мне должно быть стыдно за саму себя, за свою суть. Какая-то часть скандалов между мной и бабушкой была связана с так называемой темой моего «созревания как женщины». Мама изо всех сил пыталась ускорить это мое созревание, красила мне лицо, рассказывала о своих мужчинах, о половых отношениях, а бабушка, напротив, все такое на дух не переносила. Мне приходилось выслушивать про «проституток», про «в подоле принесешь» по самым разным поводам. Например, однажды в день моего рождения мама решила завить мне волосы и накрутила их на бигуди. Это делалось с опаской и втайне от бабушки, но бабушка все равно это обнаружила, содрала бигуди, страшно орала на нас с мамой.
С мамой были, скорее, сиблинговые отношения. И она, и мой дядя были как бы взрослыми, но до конца не выросшими детьми бабушки с дедушкой. В самом раннем детстве я хотела быть, как мама, во всем, я спрашивала, верит ли она в Бога, – она отвечала, что нет, и я тоже не верила, потом отвечала, что да, и я тоже верила. Я спрашивала, за коммунистов она или за демократов, она отвечала, что за демократов, и я тоже была за демократов. Мама была со мной нежной, ласковой, ничего не запрещала. В отличие от бабушки она была теплой, ласкала меня, по утрам брала к себе в кровать. Мама была киса, и я была маленькая киса, мы жили в одной комнате, и, проснувшись, я говорила ей «мяу» – давала понять, что тоже проснулась. По вечерам, чтобы я уснула, она говорила мне: «Шшш». Быть рядом с мамой было блаженством, маму хотелось защищать, чтобы на нее никогда не кричали. Мама научила меня смотреть на все с разных точек зрения одновременно, понимать других людей, вставать на их место. Она развивала меня, ставила передо мной задачи, которые заставляли меня задуматься. Очень рано я стала переживать, что, кажется, мама несчастлива. У нее были расставания с какими-то мужчинами, и она лежала целыми днями, и еще она боялась страшных болезней, боялась рака и вообще смерти. Иногда я видела, что маме плохо, и очень жалела ее и чувствовала за нее ответственность, чувствовала, что должна быть взрослой и разделить с мамой ее переживания. Мама мне все рассказывала, как большой: и про свою личную жизнь, и вообще про отношения людей. И я все понимала, как большая. Мама всегда хотела быть мне мамой-подругой, не авторитарной матерью, какая была у нее самой, а мамой, с которой можно делиться всем на свете, которая выслушает и поймет, с которой можно обсуждать мужчин и косметику. Они были с бабушкой как два разных полюса, а уравновешивающей, стабилизирующей силой был дедушка.
Дедушка, мой самый любимый мужчина в жизни – до рождения сына! В нашей семье он был миротворцем, защитником, рациональным началом. Я называла его «деда», когда была маленькая. Он был одним из тех редких людей, которые живут в гармонии с Космосом и знают в нем свое место. Он никогда не рвался к власти, к высокому социальному положению, и отказался, когда ему на работе предложили стать начальником. Кроме того, дедушка обладал замечательным чувством юмора, не исключая и черный. Подшучивал над своими друзьями, а саму дружбу с ними, даже школьную или студенческую, нес через всю жизнь, до самой смерти. Меня он называл «внука». Дедушку можно было спрашивать обо всем, про звезды и планеты, про растения, про то, как что устроено на свете. Он очень хорошо разбирался в медицине и порой сожалел, что не стал врачом. Он назначал лечение и ставил диагнозы по телефону всем своим знакомым и никогда не ошибался. Весной он показывал мне, как распускаются листья. По вечерам он показывал мне спутники в черном небе. Иногда он перебирал с черным юмором: как-то лег и притворился мертвым, я его теребила-теребила, а он не откликался и прекратил игру, только когда я заплакала. Дедушка был лысым и всегда шутил, что это оттого, что он очень умный – все волосы повылезли.
Была еще Бедя, бабушкина сестра. Про нее говорили, что она несчастный человек. Она была толстая, со снежно-белыми волосами горшком и щетиной на подбородке, и еще она тряслась. Мне объяснили, что это от таблеток. Всю жизнь она принимала галоперидол и литий. У нее была шизофрения, похожая на биполярное расстройство: у нее тоже были маниакал и депрессии, но кроме того были голоса в голове. Началось все в девятнадцать лет, ее повалил на землю и облапал какой-то парень в парке Лесотехнической академии, где она училась. Она долго страдала, думала об этом и никому не могла рассказать. Потом она заболела. Поехала с другими студентами «на картошку» и там разделась догола, бегала в невменяемом состоянии, что-то кричала непристойное. Ее начали лечить и сделали глубоким инвалидом. Она осталась старой девой и всю жизнь боялась мужчин и при этом сходила с ума на почве секса, считала, что все ее домогаются, а если ей начинал нравиться какой-то мужчина – у нее тут же появлялись голоса в голове, и все ее влюбленности глушились галоперидолом. Мне рассказали ее историю, и она ошеломила меня. Я верила тогда в благое устройство мира, и судьба Беди в это благое устройство никак не укладывалась. Мне трудно было понять, что человек может быть настолько несчастен и что это никак не исправить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.