Текст книги "Маргинал"
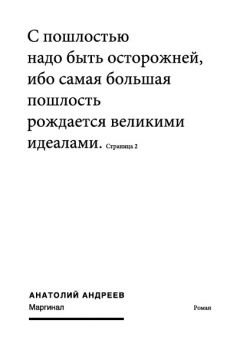
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
8
Вы думаете, романы пишутся от хорошей жизни?
От хорошей жизни не получается ничего хорошего, и уж тем более красивого. Принято считать, что иногда красота вырабатывается «из сора». Из лопухов там, лебеды. Бред. На самом деле красота – это результат напряженного преодоления; а что может преодолевать красота? Безобразие, некрасоту. Вот почему художник – это тот, кто имеет дело с гадостью, с дерьмом, с одной стороны; с другой – он же имеет непосредственное отношение к красоте. Не иногда, заметьте, – всегда. Изо дня в день. Из огня да в полымя. Художники – люди закаленные настолько, что иногда путают красоту с грязью. Их не понимают, им не верят. Художники становятся одинокими и, очевидно, от отчаяния воспринимают это как знак избранности.
Короче говоря, это исключительно маргинальная каста.
Сам факт написания романа, хорошего романа, говорит о том, что писатель одинок. А уж если от первого лица, в реликтовой дневниковой форме…
Не спрашивайте меня, есть ли у меня друзья. Есть, конечно, иначе с чего бы мне чувствовать себя одиноким? Но это странные друзья – наверно, потому, что они в чем-то похожи на меня. Один из них нежно и очень романтично влюбился то ли в падчерицу, дочь своей третьей жены, то ли сестру, то ли племянницу, которая моложе своего дорогого папаши, кузена или дяди лет на двадцать пять; другой не может спать с женщиной без того, чтобы предварительно не разъяснить ей, что она того не стоит, ибо дура полная и безнадежная. Он должен быть уверен, что спит с ничтожеством. Правда, наутро всегда просит прощения, часто в форме сонетов. Экспромтом. Делает это весьма талантливо. Ему, превратившемуся в полное ничтожество, конечно же, охотно все прощают.
Лучшим моим другом вполне можно считать (ах, да: можно было считать, царство ему небесное) Петра Григорьевича Присыпкина, известного всей кафедре под именем Петруша. Его прозвали так, очевидно, за доброту и как бы бескорыстность, хотя я, честно сказать, толком не представляю, в чем она, собственно, заключалась. Но репутация есть репутация, так уж у людей ведется. Наверно, он когда-то что-то совершил или кому-нибудь что-то такое показалось. Бывает. Петр был выразительно тощий, как решетчатый пюпитр. Бывало, я так и говорил ему: «Пюпётр, ты сердишься, следовательно, ты не прав». На что негодник обычно возражал: «Сам дурак, Геннадий». А то мог добродушно послать туда, куда Макар теляток не ганивал. В жопу, например. Такой уж был Петр.
Два архетипа-образца смутно терзали его душу. Я думаю, он бессознательно ориентировался на репутацию не Кощея Бессмертного, а, скорее, чудаковатого Дон Кихота. Я уловил это и дал ему кличку Дон Педро, которой Петруша втайне гордился. Ореол Крестного Отца ему также импонировал. Чужая душа – загадка. Что-то размашистое присутствовало в его мослаковатой фигуре, когда он вышагивал по узким филфаковским коридорам. Мнилось, сам Петр Великий спешил прорубать окно в Европу. Вот этакий типичный чудак, с некоторой долей величия. Петр был хороший мужик, но у меня были с ним свои счеты. Это долгая история – так ведь в сорок пять лет все уже имеет свою долгую историю, важно уметь кратко это изложить.
Петр был не только моим другом, но и убежденным оппонентом. Да, следует не упустить из виду, что именно он, кто ж еще, был заведующим кафедрой «Истории русской литературы», где, кроме меня с Амалией, подвизались целых десять человек, в том числе уже знакомая читателю добрая Маруська. Чертова дюжина – так называл я наш сплоченный коллектив.
Бывало, Пюпётр врывался на кафедру, словно Дон Кихот, заглянувший в глаза злу, и отрывисто бросал в потолок:
– Это надо же!
Очевидно, это должно было меня заинтриговать. Я, как правило, послушно настораживался:
– А в чем, собственно, дело, Петруша?
– Смотрел телевизор, – паковал он информацию, – социологический опрос в Великобритании. Вопрос: кого следует изобразить на денежных купюрах страны. Ответ!
Тут Пюпётр давал время собеседнику покаяться и одуматься.
– Ответ: на первом месте какой-то сэр, белобрысый полузащитник, капитан сборной Англии по футболу, на втором – Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, тоже сэр; на третьем – лядащая девица королевской крови, на четвертом – я говорю: на четвертом! – бедный Вильям Шекспир, крупнейший гуманист.
Все: Дон Кихот вступился за Гамлета, сейчас ветряным мельницам придется туго. Раздувались ноздри Дона Педро, раздавался галоп Россинанта.
– Ого! – искренне изумился я. – Бедный Ерик! Я думал он окажется семнадцатым, в лучшем случае – тринадцатым, вслед за темнокожим теннисистом. Если бы опрос проводили в России, Тургенева с Мусоргским бы и не вспомнили, а Пушкин бы Александер не попал даже в первую десятку. Ай да Британия, царица морей! Ай да сучье племя! Все сплошь смотрят футбол, а после этого взахлеб читают «Макбета». Страна парадоксов. Алиса в стране чудес. Чертов остров.
– А теперь отнесемся серьезно, – отвел мою реакцию доцент Петруша. – Какого-то полузащитника, сэра, которого завтра же все забудут, нация ставит выше гения всех времен и народов. Есть проблема?
– Проблема, конечно, есть, но совсем не там, где ты ее видишь.
Теперь насторожился Петруша, прибитый моей властной интонацией.
– Эта ситуация вполне нормальна для масс и поп культуры. Ты думаешь, их белобрысый сэр волнует? Только постольку, поскольку он обеспечивает им зрелище. Общественное Мнение волнуют только две вещи: хлеб и зрелище. Это величины вечные и постоянные. На своих деньгах, обеспечивающих доступ к хлебу и зрелищам, они хотят запечатлеть свой главный символ: хлеб и зрелища. Это может быть полузащитник, черт, Бог или нападающий – неважно. Он должен быть символом хлеба и зрелищ для сегодняшнего пипла. Массы могут жить только сегодняшним днем, как дети, а Шекспир – это день вчерашний. Ты думаешь, они Шекспира читают? Это же их брэнд, хорошо раскрученная товарная марка, приносящая неплохую прибыль. Шекспир пахнет все тем же хлебом. Даешь Шекспира! Они решили, что их Вильям – первый гений всех времен и народов, а ты им тут поддакиваешь. Для них Шекспир такой же чемпион, как и белобрысый полузащитник. Правь, Британия. С чего ты взял, что Шекспир так хорош? У этого приличного, но глупого писателя, есть немало достойных конкурентов. Он в лучшем случае один из – но никак не безоговорочно первый. Гуманист! Словосочетание «великий гуманист» звучит для меня как «могучий болван». Где ты видел умных гуманистов, умных сопливых мечтателей? Почитай не очень умного, но очень талантливого Льва Толстого, большого любителя великого Шекспира…
– Ты меня потрясаешь, Геннадий. Когда я слышу Шекспир, Толстой – мне хочется мысленно преклонить колени.
– Петруша, ты пошлишь, – скривился я. – Толстой бы дал тебе, коленопреклоненному, пинка под зад. А вообще-то я бы с удовольствием посмотрел, как ты стоишь на коленях перед Вильямом, которого, вполне возможно, и не было вовсе. Не тебе, не тебе, но имени твоему. Так, Петруша?
– Я бы отобрал у тебя докторский диплом и изгнал бы тебя из стен университета. И не подпускал бы к студентам на пушечный выстрел. Ужас, что я сейчас услышал!
– Во-первых, на филологическом учатся одни студентки. У филологии сегодня, к сожалению для науки, и к счастью для общества, женское лицо. Во-вторых, я бы тебе не отдал свой диплом. А в-третьих… Ведь еще вчера тебе хотелось преклонить колени перед Кафкой, позавчера – перед Гессе, пока я тебе не прочистил мозги. На колени, Петруша, надо становиться в случаях исключительных. Нет, я не храм имею в виду, напрасно ты косишься в красный угол. На колени надо становиться перед женщиной, да и то в известной позиции. Тебя, извини, представить в такой позе смешно.
– Я, в отличие от тебя, уважаю женщин, – потупив глаза, изрек Петруша, имея в виду, очевидно, обеих своих Дульциней: жену и, разумеется, Амалию. Последняя переспала с тощим заведующим всего один раз с целью обеспечения тыла, но этого вполне хватило для того, чтобы Петруша считал себя знатоком женщин.
– Вот поэтому они тебя и не любят, – сказал я.
– Боже мой, какой цинизм, – завращал глазами Петр. – И как только тебя земля носит? – по-детски удивился он.
– Она носит не только меня, но и Кафку, Гессе, Ричарда…
– Хватит, хватит, уймись, Геннадий, – попросил пощады Петруша. – На сегодня хватит. Давай сменим тему. Прошлый раз ты смеялся над Чацким. И надо сказать, у тебя это получалось неотразимо. А сегодня ты сам ершишься a la Chatsky…
– Нет, я смеялся над теми пошляками, которые преклоняют колени пред Александром Андреичем, и кому бы он первый не подал руки.
– Да, да… Но позиция Чацкого тоже была не безупречна, не так ли?
В пику Пушкину Петруша решил поднять на щит славные, но незаслуженно забытые имена Баратынского и Вяземского (эта его безумная идея выросла из моей неосторожной реплики; я был, кажется, раздосадован некоторыми мотивами поздней лирики Пушкина: достойный классик стал недостойно поглядывать на небеса). Но я же и отговорил его и посоветовал побить Пушкина, если уж так неймется, более тяжелой артиллерией. Грибоедовым, например, Александром Сергеевичем Первым. Я излагал Петруше сокровенное и не сомневался, что в лучшем случае он все опошлит. Да и не отважится Дон Педро поднять руку на кумира. Он рожден, чтоб преклонять колени.
Как же я был наказан за свою легкомысленную самоуверенность!
Я всегда знал, что он относится ко мне, как к беспечному донору, который не знает, куда девать свою лишнюю кровь. Кровь играет, ударяет в голову – лучше пустить ее в полезное русло. Доклады, проекты, темы, программы, диссертации, курсы – мне не составляло труда подпитывать Петрушу творческими идеями. Но Пюпётр превзошел самого себя: он издал свою монографию, основанную на моих идеях, изложенных в моей редакции. Все просто: наши бесконечные разговоры были записаны на пленку диктофона, а начало всему положила моя многострадальная рукопись, которую Петруша попридержал у себя на годик. Весь этот материал и был издан под его именем. Монография называлась «Два гения и злодейство». Ай да Петр, ай да сукин сын!
Смысл монографии был прост: Пушкин вольно или невольно «подсмотрел» многое у Грибоедова. Сам «тип лишнего» – это достижение Грибоедова, а не Пушкина. Вывод: а был ли бы возможен феномен Пушкина, если бы не было предыдущего Александра Сергеевича, Грибоедова?
Моя неизданная книга должна была называться куда проще: «Синдром Сальери в жизни и творчестве А.С. Пушкина». Я ни над кем не смеялся, это Дону Педро только так казалось. Для него ведь не преклонять колени – значит, не уважать, значит, дерзить. Мне было просто любопытно «раскрутить» тему зависти. Гения не может быть без зависти, гений рождается духом соперничества. А соперничество не бывает чистым.
Гений – достаточно грязная, маргинальная фигура.
Так мне казалось.
9
Роскошь, привилегию и крест быть сложным могут позволить себе только сильные люди. Слабые не бывают сложными.
Это событие – выход петрушиной монографии – состоялось в феврале. На заседании кафедры, где мы должны были чествовать автора блестящей монографии, то бишь Петра Григорьевича, я, воздав должное прозорливости и тонкости Дона Педро, смиренно попросил коллег обсудить на следующем, мартовском, заседании мою ранее отклоненную монографию под названием «Пушкин и Сальери. Синдром Сальери в жизни и творчестве А.С. Пушкина».
У Дона Педро вытянулось лицо: он явно не ожидал подобной подлости от меня, его преданного друга. Амалия тут же сделала стойку – приняла сторону Пюпётра. Я, увлеченный своей любовью, уже несколько месяцев не обращал внимания на ее покруглевший круп: баба вновь становилась ягодкой-малиной. Не заметить этих дивных метаморфоз можно было либо по большой рассеянности, либо по злому умыслу. Разумеется, мне был приписан злой умысел. У Амалии накопилось ко мне множество претензий, и она давно искала случая свести счеты. Вот и представился счастливый случай.
Добрейшая Маруся отвела набухшие печалью глаза. Ее заступничество могло ей дорого стоить. Гораздо дороже, чем она ценила свое достоинство.
Все остальные, смотревшие мне в рот, когда я озвучивал позицию, с восторгом разделяемую Пюпётром, на этот раз были единодушны с заведующим кафедрой: зачем, зачем, спрашивается, издавать вторую монографию о Пушкине, когда только что издали первую, блестящую? Нас не поймут. «Кто не поймет?» – осведомился я. Всеобщее молчание было мне ответом. Чертова дюжина заткнулась. Я продолжил: «У Пушкина недавно был юбилей: двести лет со дня рождения. Он еще молодой классик, моложе Шекспира. Прошу считать мою монографию запоздалым, но искренним поздравлением Александру Сергеевичу». «Не-ет, – сказала чертова дюжина, – поздравлять надо вовремя. Дорого яичко ко Христову дню. Кто не успел – тот опоздал. Да и потом, Геннадий Александрович, вы проявляете дух нездорового соперничества, столь несвойственный вам. Тема поднята не вами, пусть триумфатор сполна насладится».
Бескорыстный Дон Педро молча постукивал кощеевыми костяшками пальцев по столу, ожидая окончания затянувшейся скучной дискуссии. Кафедральные нищие, наглые, словно голуби, которые кормятся у вас с руки и при этом нисколько не сомневаются в том, что вы должны их обожать, честно отработали свой хлеб: мою книгу надежно заблокировали и похоронили.
Я никогда не любил голубей, этих упитанных птичек мира. У меня вообще особое отношение к, якобы, свободолюбивым пернатым. «Я располагаю лишними двумястами долларов, – сказал я. – Мне придется издать книгу за свой счет».
«Это будет самой большой вашей ошибкой», – возбужденно заворковали чертовы голуби. Среди этого милого гомона выделялся бархатный альт разрумянившейся Амалии. Сбоку рубанули цитатой из Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво!»
Поставить точку во всей этой возне взяла на себя смелость некто Оксана Флориановна Дудко, увядающая дева, бесплодная, словно анчар. Вокруг нее все живое чахло. Она была чемпионом по бесплодию: у нее не было детей, она не произвела на свет не то что ни одной приличной книги – ни одной строчки, ни одной мысли, ни одного выражения, ни одного острого словца. Ничего, достойного культурного внимания. Ноль. Студенты на ее лекциях изнывали и дохли, ее монашеская интонация действовала на живую аудиторию, как дихлофос на мух. Излишне говорить, что это была святая женщина.
Чем она занималась – было для меня большой загадкой. Считалось, что ее конек – Достоевский с Мандельштамом. Но чтобы Дон Педро периодически не журил ее за учебно-методическое бесплодие, Флориановна время от времени заявляла о своей безоговорочной поддержке его позиции, в чем бы она ни состояла. Шефу становилось неловко преследовать преданные кадры, проще было за какой-нибудь учебно-методической идеей обратиться ко мне. Вообще я дал им шанс объединиться и сотворить нечто конструктивное: глумливо разъяснить мне, автору пяти неплохих книг, что не книга правит миром, что на одну и ту же книгу можно посмотреть по-разному. Более того, они прозрачно намекнули, что у одной книги вполне могут быть два автора, и не тому, кто написал книгу, решать, кто будет автором. Из ничего не значащих, пустых людей сложилось весомое Общественное Мнение. Именно Оно брало на себя миссию править миром.
Чертовы бабы! Мне захотелось мысленно преклонить колени пред Александром Сергеевичем, любым, Грибоедовым ли, Пушкиным ли.
Флориановна скрестила руки, словно мать Тереза, копирующая деву Марию, и проникновенно произнесла:
– Происходящее сегодня весьма символично. Вот Петр Григорьевич ни на что не претендует, а результаты его деятельности всегда вески и, так сказать, впечатляющи. Мы любим его и уважаем. А вы, Геннадий Александрович, всегда на что-то претендуете, претендуете… Может быть, вы мните себя Чацким? Так Чацкой, простите, давно устарел. Христианское смирение – вот почитаемая доблесть. Как сказал Мандельштам…
Что сказал Мандельштам по поводу Чацкого и христианских доблестей, всем присутствующим так и не довелось узнать, ибо я громко чихнул. Не специально. Я давно подозревал, что на кандидата наук Флориановну у меня аллергическая реакция, как на пыльцу анчара. И вот в этот неподходящий момент реакция проявилась самым подходящим образом – в демонстративно вызывающей форме. Я смачно чихнул. Всласть. Ну, просто черт спровоцировал чих, не иначе; так сказать, подсунул табакерку.
Никто не пожелал мне доброго здравия. Повисла задумчивая тишина. Общественное Мнение не знало, как надо реагировать на чих. Я застал его врасплох.
Когда лягают мертвого льва, порядочные люди не должны оставаться в стороне. Один против всех – значит, все на одного. Следуя этому благородному девизу, реплику подала еще одна заметная фигура из кафедральных, также кандидат. Она задушевно промолвила (обратите когда-нибудь внимание: те, кто убеждены, что они любят литературу и не могут без нее жить, считают своим долгом говорить нараспев):
– Вам решительно на всех начихать? Смотрите, не стоит пакостить колодец: пригодится…
– Чтобы утопиться, – продолжил я, также демонстрируя поэтическую чуткость. Одновременно я разворачивал гигантский батистовый носовой платок, словно знамя, под которым я собирался принять бой. Платок был на зависть, тончайшего полотна, и разворачивал я его долго, размышляя вслух:
– Спасибо, как говорится, на добром слове. Только я, к сожалению или к счастью, уж и не знаю, в огне не горю, да и плаваю неплохо. Но вам, дорогая Тамара Константиновна, тягаться со мной не советую: как раз утонете или обуглитесь. Кожа у вас нежная. Вы же не дружите со стихиями, не так ли? Вам ведь недосуг, а?
– Поэзия – вот моя стихия, – не побоялась быть откровенной Тамара Константиновна.
– Поэзия – это не стихия, а скудоумное словоблудие, – сказал я и высморкался солидно, как слон средней величины. Откровенность за откровенность.
В ответ она прибегла к своему испытанному и самому грозному оружию – презрительному молчанию. Потом не выдержала и обронила: «Не как люди, не еженедельно. Не всегда, в столетье раза два я молил тебя: членораздельно повтори творящие слова!». По-видимому, стихи должны были говорить сами за себя и выставить меня полным глупцом. Вас заинтриговала эта дама?
Она звалась Тамара Константиновна Тумань, которую я давно уже окрестил Тамарой Коньстантиновной. В поздравительных спичах по случаю ее частых дней рождения или праздников 8 Марта было принято именовать ее царицей Тамарой, разумеется. Чтобы вы оценили мое чувство юмора и полное отсутствие такового у моих коллег, я должен описать царицу.
Это было конеподобное существо, точнее, лошадеобразное, с большой головой, грустными большими глазами и невероятно тонкой душевной организацией. Она просто млела от поэзии серебряного века, которая – какое счастье для нее и несчастье для бедных студентов! – стала ее специальностью. Страстью. Смыслом жизни. Родом психического заболевания (то есть заболевания головного мозга), которое она называла «высокой болезнью». Возможно, и высокой, но болезнь есть болезнь. Она задумчиво мяла крупными губами фильтр сигареты, опровергая расхожее представление о том, что капля никотина убивает лошадь, и с лица ее беззвучно и печально опадала бледная пудра. В такие минуты я мысленно называл ее Конь Блед (с интонацией «Кё-ёнь Блё-ёнд»), сокращенно – Ка Бе Та. По-белорусски «кабета» – значит женщина.
Ее легендарное самоуглубление было какого-то тибетского толка – это тоже, кстати сказать, роднило ее с задумчиво жующей лошадью. Она внушала всем, что живет в параллельном мире, свесив ноги с облаков. На любой вопрос практического свойства она презрительно отвечала цитатами обожаемых поэтов. Кажется, она знала всего Пастернака наизусть, что приобрело ей репутацию «знатока» поэзии. Само собой, она презирала тех, кто не знал всего Пастернака наизусть. Если вы позволяли себе заметить, что ее цитата не к месту, она обдавала вас холодом презрения, сдувала струей дыма, будто сухую мошкару, превращая в мираж, и поучительно объявляла всем присутствующим, что поэзия всегда к месту. Не к месту этот пошлый мир. А между прочим, в этом пошлом мире ей платили зарплату вовсе не за то, что она любила поэзию, а за то, что она ее, якобы, понимала и обучала этому пониманию других. Сама Коньстантиновна считала, что стремиться к пониманию поэзии – это худшее из зол и каждодневно по многу раз умоляла всех «не трогать музыку руками». Никто и не трогал.
Вас все еще интересует госпожа Тумань?
На филфаке с моей легкой руки кочевало выражение «напустить туманю», то есть выражаться настолько загадочно, чтобы отбить охоту у самого себя что-либо понять в собственной ахинее. «Тумань» – это и был воздух филфака, даже самый его дух. Все в тумане – это так замечательно: в мутной атмосфере легче ловить рыбку и при этом делать вид, что цитируешь Пастернака. «Нынче все умы в тумане…»
Петруша дипломатично прервал нашу пикировку и великодушно перевел разговор на другую тему.
Покидая кафедру, я не мог отказать себе в удовольствии язвительно поинтересоваться у Флориановны, торжествующей по поводу того, что в ближайшие месяцы ей не надо будет объяснять мягкотелому Петруше, почему третий год не готов ее раздел учебного пособия. Я галантно полюбопытствовал: «Скажите, а вы всерьез полагаете, что Чацкой навсегда растоптан такими рептилиями, как вы? А ну как явится и завопит: а судьи кто, Оксана Флориановна? Ась?»
Святая женщина и ухом не повела. «Не судите, да не судимы будете», – произнесла она в промежутках между добрыми глотками кофе с молоком. Молоко, по ее глубочайшему убеждению, препятствовало вымыванию кальция из организма. Вот почему она пила исключительно кофе с молоком.
Вы спросите: как же я отношусь к своим коллегам?
Они считают, что я их ненавижу.
Это в корне неверно. У меня нет к ним ненависти. Я их презираю, то есть ненавижу до белого холодного каления, – до такой степени, что обычная ненависть представляется мне горячим человеческим чувством, связывающим меня с ними крепкими узами. Я же изо всех сил стараюсь не испытывать к ним ничего. Их нет для меня. Я не выстраиваю с ними никаких отношений. Нет отношений – есть смерть. Они мертвы, эти пернатые, при одной мысли о которых у меня впрыскивается адреналин в кровь, и я на секунду теряю над собой контроль и забываю, что я презираю их, скатываясь к ненависти.
Правда, я тут же беру себя в руки – и через минуту они исчезают для меня, превращаются в трупы. Холодное презрение переходит в бесплотное равнодушие. Их нет. Нет. Такова цена и подоплека моего равнодушия.
С Доном Педро я избрал другую тактику, нежели с Флориановной.
Помнится, однажды, года три тому назад, я в порыве откровенности разъяснил ему проблемы приличных людей. Петруша, помнится, изрядно удивился. Он и не предполагал, что у приличных людей столько проблем.
– Я сражаюсь с собой ежедневно, – цедил я с неизвестно кому адресованной злостью. – Я постоянно зарастаю сорной травой, вшивею, плесневею, покрываюсь паршой и грязью.
– Скажите, пожалуйста, – осторожно заметил Петруша и отодвинулся от меня.
– Я чищу душу, просветляю ум – и мне становится стыдно за себя. Если не трудиться над собой, не встряхивать себя каждый день – даже не превратишься в скота, а просто останешься тем, кем всегда был и есть: скотом. Вот почему необходима культурная работа, каждодневные усилия, чтобы поддерживать себя в приличной человеческой форме.
Странно, что «скота» он тут же обидчиво отнес на свой счет, хотя я говорил о себе. Далее я в запальчивости развернул следующий тезис: надо быть готовым к тому, что после сорока пяти тебе предстоит каждый день по многу раз совершать маленькие подвиги. «В жизни есть место подвигу», – было сказано романтиком. Нормальная жизнь после сорока пяти и есть сплошной подвиг. Вместо шашлыка надо есть овсянку, чтобы не разнесло, – а это подвиг; надо заставлять себя бегать и делать зарядку – это ли не подвиг? Не врать – подвиг, называть вещи своими именами – подвиг, работать – подвиг, отдыхать – подвиг, любить, ненавидеть – все подвиги…
Короче говоря, чтобы оставаться приличным человеком, необходимо немалое мужество и геройство.
Полагая, что он помнит тот наш разговор, я без лишних предисловий и обременительных обиняков заявил Дону Педро на следующий день после событий, развернувшихся на кафедре:
– Петр Григорьевич, позвольте мне сказать вам по дружбе, что вы порядочная скотина. Просто большая и толстая, несмотря на вашу худобу.
На сей раз Дон Педро не удивился, а просто придвинул мне стул, приглашая к разговору. Причем, начал разговор с солидного, даже мудрого молчания, которое делало его в чем-то правым, а меня – где-то виноватым. После такого молчания мелочи становятся мелочами, а великое – великим.
– Ты считаешь, что я… позаимствовал твою концепцию, разделил ее…
– Спёр, – уточнил я.
– Хорошо, украл, – честно согласился Петруша.
– Ты украл мою книгу, средь бела дня, – подтвердил я.
– Да, я украл твою книгу, – сказал Петруша и прямо посмотрел мне в глаза.
Клянусь, я почувствовал себя виноватым: хоть ты оспаривай его, убеждай, что он ничего не украл, а просто наговаривает на себя. Вот оно, магическое действие правды.
Все это перестало мне нравиться, и я решил перехватить инициативу:
– Поздравляю. Ты умыкнул мою книгу и издал ее под своим честным именем. Ты – молодец. Это венец твоей карьеры или удачное начало? С чем поздравлять?
– У меня рак, неизлечимая болезнь, – с виноватой улыбкой сказал Петруша.
И виноватая улыбка, заметьте, относилась вот к чему: он смягчал возможный удар, предупреждал последствия, извинялся за то, что вынужден был это сказать. Он думал и заботился обо мне, а не о себе. Такая японская деликатность в поведении великого плагиатора не могла не дезориентировать меня. Это был сильный ход с его стороны: взять и объявить, что ты умираешь. Тут уж как-то неловко хвататься за свою книгу. Впору дарить то, то у тебя украли.
– Ну и что? – сказал я.
– Я не устоял, – сказал Дон Педро, – допустил слабость. Мне так приятно было сознавать, что под моим именем выйдет такая книга. Ты гений, я знаю, – спокойно продолжал он. – Мы все ногтя твоего ломаного не стоим. Я это понимаю. И вот мне захотелось… почувствовать себя в шкуре таланта.
– Ну и как?
– Кошмар. Во-первых, все знают, что книгу написал не я, и втихаря меня презирают. Во-вторых, – никто и не прочитал книги! А если и прочитали, то, как Оксана, ни хренюшеньки не поняли. Лучше бы не читали. Кошмар. Нет уж, жил бездарем – и помру бездарем. Так оно спокойней, да и почестей побольше, чем тебе. В общем, так: я делаю второе издание и ставлю там имя истинного автора, твое то есть. Почему имя Маркова не стояло в первом издании – ты что-нибудь придумаешь. В общем – извини. Погорячился. Мы проведем сеанс разоблачения. «По независимым от нас причинам произошел технический сбой». Что-нибудь в этом роде. Извини.
Как вам такой поворот событий?
Я был обескуражен, сбитым с толку наличием человеческой прослойки в мелковатой душонке Дона Педро. Неужели смерть делает людей лучше?
– Рак чего? – вежливо поинтересовался я.
– Головного мозга, – равнодушно ответил Петр Григорьевич.
– Ну и… как?
– Как скоро? Да, наверно, скоро уже.
– Нет, нет, я хочу сказать, как ты себя чувствуешь?
– Вот сейчас чувствую себя гораздо лучше. А до этого чувствовал себя подлецом, как же еще?
Мы помолчали. Видимо, где-то состоялось отпущение грехов. Возможно, простили и мою неумеренную гордыню. За компанию с умирающим Петрушей. Почему бы и нет?
– Но я тебе скажу, ты тоже хорош. Тему мне подбросил… искусительную. Ты будто дразнил меня, провоцировал. Дескать, сам Пушкин завидовал Грибоедову и, чего греха таить, в чем-то скопировал Чацкого, присвоил его, создав Онегина, – копию, оказавшуюся лучше оригинала. Если уж Пушкин крал… Стало быть, все люди – дерьмо.
– Скоты, – уточнил я.
– Да… Соблазнительно все это. Ты и уговорил меня на эксперимент. Я так эту ситуацию понимаю.
Самое интересное – я и не стал возражать тогда. И вовсе не потому, что у коллеги был рак головного мозга. Он был в чем-то прав: я подзуживал его, презирал, не считал за человека. Дескать, украдешь, куда ты денешься. Не такие крали, не чета тебе. Да я сам не то чтобы украл, а «подсмотрел» одну маленькую генеральную идейку и творчески ее развил. И оказался автором оригинальной литературоведческой теории. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что ориентируюсь на модель, придуманную не мной. Да и что значит сотворить модель? Так или иначе придется воспользоваться аналогией. Творческий человек обречен на заимствование. Интересно, как чувствовал себя Пушкин после завершения несравненного Онегина? И что значит «ай да Пушкин, ай да сукин сын»? Сомнительный комплимент самому себе.
Нет, а Дон Педро каков! Вот это я и называю филологическими мозгами: в тонкости душевной ему не откажешь, а ума у человека нет. И потом… Я вам укажу на источник великодушия Петруши. Он на редкость бездарен, ему нечего терять. Был бы поспособнее, поискуснее, поталантливее – так бы адаптировал мое содержание, что комар носа не подточил бы. Я замечал за бездарными это достоинство – высшую честность.
Так устроена эта кошмарная бездна – душа человека.
– Ладно, Петр Григорьевич. Проехали. Предлагаю трубку мира.
– Иди ты в жопу вместе со своей трубкой. Мировую пьют, а не курят, понял?
– Так я… Уже, считай, одна нога в магазине «Океан».
– Только не бери ты на закуску этих сволочных корявых крабов!
– Салат из морской капусты с крабовыми палочками, ты хотел сказать? Это же морепродукты, деликатес. Дары моря. Дыхание океана. Уж сколько лет он нас не подводил!
– Вот-вот, мерзкий салат с крабами и палочками. Я чувствую, мой рак из-за них и начался. Сплошные крабы, где ж тут выживешь? Краб – это ведь морской рак, правильно я понимаю?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































