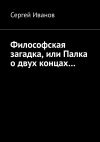Текст книги "Маргинал"
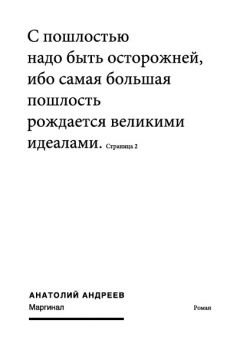
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
10
Жизнь – это сплошные переходы, бесконечная череда этапов и состояний, чувствовать которые дано тем, кто дает себе труд и удовольствие жить, а не скакать галопом.
Мы с Петрушей попрощались очень неспешно и душевно. Закусывали полукопченой колбаской. Говорили, в основном, о бабах, немного – о великой русской литературе. Но ведь что такое классическая русская литература?
Это бесконечный ритуал поклонения женщине, вознесения ее, сотворения молитвы во славу ея. Сплошная слащавая и отчасти нервная сага. С чего начинал тот же Чацкий или чем кончил тот же Онегин?
Они стояли на коленях перед своими возлюбленными. «Чуть свет уж на ногах – и я у ваших ног». Это Чацкой перед Софьей. А Онегин? «В тоске безумных сожалений к ее (Татьяны) ногам упал Евгений». Это литература, сотворенная мужчинами, которые поставили в центр женщину, но не мужчину. В этом смысле это женская литература. И что делают наши бабы на кафедре?
Они бессознательно, с той степенью виртуозности, которая доступна только женщинам, котам и алкоголикам, эксплуатируют этот смысловой импульс, они постоянно чувствуют себя на именинах. У них каждый день праздник. Говорить о русской литературе – значит говорить о бабах. А они даже спасибо не скажут Льву Толстому, который добродушно порычал на женщин сквозь густую браду, а потом всучил Наташе Ростовой обосранную зеленую пеленку, это трогательное знамя материнства. Но ведь фактически он принес ей эту пеленку в зубах! И приполз на коленях, как Бобик!
– Или как Онегин, – добавил Дон Педро.
Я не стал оспаривать это литературоведческое открытие. Мысль о женском начале в русской литературе так зацепила Петрушу, что у него заблестели глаза. Думаю, отпусти ему Господь, или кто там ведает этими делами, годик-другой, мой друг непременно развернул бы эту мысль. Я видел: он воспринял глубину мысли, а не ее поверхностную парадоксальность. Петруша почувствовал себя в вонючей шкуре творца! Именно так: творец – тот, кто владеет искусством стырить зерно смысла; а уж взрастить поля концепций – это дело техники. Sic. Я подарил ему эту сомнительную радость. Дон Педро убедил меня, что «с-мерть» (нечто, связанное с мерою) является мерой жизни, а не меркой потребленного корма. Неужели смерть делает людей умнее?
Чувство смерти – это чувство меры.
Надо будет вернуться к этой мысли, когда пробьет мой час. Несомненно, тогда Петр в чем-то опередил меня. Он уже предчувствовал нечто такое, что лучше не предчувствовать. И во мне шевельнулось чувство зависти к «первому», пересекающему финишную черту. Как же нелепо устроен человек! Сначала на всякий случай позавидуешь «чемпиону» – и только потом понимаешь, чему завидовал…
В этот вечер Петруша удивил меня и с другой стороны.
– Смотрел телевизор, – сказал он, задумчиво расправляясь с ломтиком колбаски. – И что же ты думаешь?
Я на всякий случай пожал плечами.
– Оказывается, наша Земля и вся наша солнечная система скользят по самой кромке, по периферии, по краям гигантской Черной дыры, которая поглощает все вокруг: свет, галактики, разные там вселенные. Дыра пожирает все, абсолютно все. Этой Черной дыре тринадцать миллиардов лет. Представляешь? Столько же годиков и взрыву, породившему нашу вселенную. Представляешь?
Я вторично пожал плечами.
– Мы живы только благодаря тому, что существуем на периферии, на границе, – в той зоне, где притяжение Черной дыры еще не началось. Жизнь существует на тоненькой кромке… Страшно даже представить.
После некоторого раздумья я произнес «ad marginem» – и в третий раз пожал плечами.
Черная дыра живо напомнила мне Общественное Мнение.
Оказывается, принцип маргинальности действует и во вселенной.
Для меня это не стало большой неожиданностью.
Когда ты выпьешь и тебе становится хорошо – возникает ощущение, что ты делаешь большое и очень, очень полезное дело. Если вы нормальный человек и вас возникает ощущение чрезвычайно полезного дела – значит, в этом что-то есть. Значит, так оно и есть. А что это может быть за дело?
Вы раскрашиваете жизнь, мечтой, словно легким послушным мазком, подправляете реальность, волшебно не замечая этого. Жизнь становится делом. Вы живете. Отодвигаете смерть. Такой вариант прощания с жизнью избрали мы для Петра: мы погрузились в ощущение жизни. В сущности, это детское ощущение. Вот почему наивность старых и малых разделяют в меру пьяные. Эти три категории запросто находят общий язык.
Я видел Петра Григорьевича уже непосредственно перед смертью, когда он подавил меня эффектом немощности. Это было всего месяц спустя после нашей роскошной пьянки. Но никогда я не видел его таким молодым, остроумным, да и просто умным, как в тот памятный вечер. Он признался мне, что давно уже тайно влюблен в Амалию, но не считал себя достаточно хорошим для нее. Да и потом – жена. Я не стал разуверять его ни в чем. Он был мне очень благодарен – за все. В сущности, только с момента нашего общения, начавшегося лет десять тому назад, он хоть стал представлять себе, что такое литература. Хорошая литература – это плохо выраженная мысль. Перед смертью Петруша, кажется, понял это. Оказывается, он иногда неплохо усваивал литературные и человеческие уроки. Не удивлюсь, если в конце концов выяснится, что он-то и был моим лучшим другом в этом лучшем из миров.
До свидания, Дон Педро!
11
Понять, что люди безнадежно гнусны – это одна сторона медали, причем, светлая; другая сторона, потемнее: предстоит смириться с тем, что среди них надо жить.
Незадолго до смерти Петра, которая последовала 13 марта 2003 года на 47 году жизни, факультет гудел и квохтал, как растревоженная голубятня. Причина была проста: Амалия живописно, не жалея красок, словно Микеланджело, расписала Ричарду коллизию того исторического февральского заседания кафедры. Почетную роль черного злодея отвела, конечно, мне. Все было спокойно до того момента, пока я не издал свою книгу за свои деньги, на чем, кстати, настоял угасающий Дон Педро. Он-то умирал честь честью, подобно Дон Кихоту Ламанческому, а вот мне его предсмертное душевное спокойствие обошлось дорого.
Я всегда недооценивал возможностей подлости. Ричард, напротив, тут же просчитал все выгоды из создавшейся трогательной ситуации.
Во-первых, я своим гнусным поклепом, своими «претензиями» практически вогнал умирающего в гроб, как минимум – накликал рак. Ведь всем хорошо известно, что до той злополучной кафедры Петруша шастал как стальной циркуль или серебристый журавль исчезающей породы. Ergo: Марков подкосил нашего Петрушу.
Во-вторых, изданная Марковым книга – это фактически копия книги уважаемого Присыпкина. Это что же получается: Присыпкин еще корячится на одре, скорее жив, чем мертв, а книги его уж нагло разворовывают, присваивают. Делают вид, что его уже нет.
Факультет, где билось немало благородных сердец, был тронут и взволнован. Люди не могли не откликнуться на ситуацию «этически неоднозначную». Сколько же у меня отыскалось недоброжелателей! Даже где-то лестно.
Плохо было только то, что мое «персональное дело» с весьма обескураживающей формулировочкой «О безнравственном поведении профессора Маркова» было вынесено на заседание мартовского Ученого Совета факультета. Дело мое могло обернуться катастрофически плохо. Я закопался в наших личных отношениях с Петрушей и не придал значения Общественному Резонансу, который резонирует по своим автономным законам, управляемым, впрочем, с деканского пульта.
У этой истории, кроме Катькиного следа, был еще один подтекст: Ричард готов был костьми лечь – только бы не допустить меня до заведования кафедрой. Я стал бы тогда менее уязвим и, по его понятиям, мог бы чувствительно отомстить, подгадав момент. И вот теперь представлялся исключительный случай убрать меня, да как убрать!: помножить на ноль, извести на корню.
Амалия также быстро оценила все выгоды создавшегося не в последнюю очередь ее усилиями положения. Пост заведующего кафедрой сам падал ей в руки. Почему ж не попробовать своего счастия?.. Для этого всего-то надо было быть честной – в том смысле, какой вкладывал в это понятие Рачков. До сих пор она строила из себя свободную художницу; так ведь это можно было легко забыть. Гораздо легче ничего не делать на посту заведующего, нежели в хомуте чернорабочего доцента.
Я принял решение объясниться с Ричардом tet-a-tet. Объяснение, как известно, кончилось мордобоем.
А началось все очень по-джентльменски.
Ричард непроницаемо молчал, пока я детально обрисовывал ему ситуацию. В конце концов, проверить все можно было элементарно: Петруша еще жил и был в сознании. Я настаивал на очной ставке. Но Ричард молчал, как прокурор, которого пытается обвести вокруг пальца какая-то шпана. Загадка молчаливых людей часто заключается в том, что им просто нечего сказать. Высшим комплиментом Ричарду было бы предположить, что в этот момент он колебался: помочь Маркову или пустить его ко дну, устроив публичную гражданскую казнь.
Я же не сомневаюсь, что он молчал только по одной причине: он продлевал ситуацию, где я оправдывался, а он молчаливо обвинял. Ему нравилось быть палачом. Кроме того, он употреблял власть по прямому назначению: сводил счеты с тем, кому завидовал. Зачем же еще дана власть? Это был его звездный час, момент истины: кто сильнее – тот и прав. Девиз воплощался в реальность. В жизни имеет значение только сила. Маркова любит Катька, Марков талантлив. Хорошо. Но как легко и как сладко все это уничтожить в одно мгновение. Прихлопнуть, словно муху, распылить, как радужные миражи, – и все. Он наверняка чувствовал себя Львиным Сердцем, облаченным в рыцарские латы и с занесенным мечом над блистающим шлемом. Оправдывалась и подтверждалась вся его жизненная стратегия: благородные дохнут первыми. Приличный человек и уязвимость – это жалкие синонимы. Талант трудно переплюнуть, но его легко уничтожить.
И я сидел и ждал решения этого ничтожества.
Но я, опять же, недооценил последовательность и неотвратимость зла.
Зло не ведает сомнений. С такими, как Рачков, нужно хладнокровно просчитывать самый гибельный для тебя вариант – и быть готовым к тому, что все обернется гораздо хуже. А я приперся в логово декана, защищенный только своей беззащитностью! Я ждал от него благородства, я давал ему возможность проявить благородство. Унизительная наивность. Осел. Олень. Дурак. Как же поздно приходит зрелость к умным и приличным людям!
Собственно, не поздно, а вовремя. Зрелость или приходит вовремя – или не приходит вовсе. Такие, как Рачков, не доживают до зрелости, они ее не ведают. До меня дошло, что я имею дело с примитивным существом, живущим бессознательной жизнью. Именно в этот момент я поднялся на главную ступеньку зрелости.
Я понял, что все люди – все, все люди – это …
Ладно, об этом как-нибудь потом. Я имел достоинство приползти к декану и признать себя лежачим. А лежачего – не бьют, по моей тогда еще незрелой логике, которую я, оказывается, бессознательно адресовал всем людям. Я очень хотел считать людей за людей, и какие-то высшие силы уберегали меня от последнего прозрения. Но с точки зрения рачковых, лежачего бьют, еще как бьют, именно лежачего и бьют, особенно тогда, когда этого никто не видит. В глазах Рачкова я проявил всего лишь слабость, ничего другого. Добить меня труда не составляло, но я бы сохранил чувство достоинства и самоуважения. Гибель моя была бы отчасти героической, то есть отчасти не гибелью. Меня бы уничтожили, но я бы не сдался. Поражение потерпел бы Рачков. Ему же необходима была моя капитуляция: я становлюсь таким, как он, и при этом проигрываю. Рачкову было необходимо в моем лице уничтожить достоинство как точку отсчета. Я, мертвый, но не равный ему, его не устраивал. Я нужен был ему живым, но сломленным. Это и был мой шанс, мое спасение: предать себя.
Таково было содержание его молчания.
На деле же все выглядело буднично и просто. Из минуты молчания органично родилась убийственная фраза, построенная по всем правилам русской грамматики:
– Хорошо, я помогу вам, Геннадий Александрович. Это вполне в моих силах. Только пусть меня попросит об этом девушка, с которой я видел вас в Раубичах. Пусть она хорошо меня попросит.
У него даже выражение лица не изменилось. Разве меняется выражение лица змеи после укуса? В том-то и дело, что там нет лица. Лицо – это тот экран, то полотно, где располагается информация духовного порядка. Нет такой информации – нет лица. Короче говоря, лицо – это физиономия личности. Передо мной же сидело нечто изумительно ловкое, словно неуклюжий на вид лемур. Вот это мое ощущение, сделавшее меня зрелым, решило все. Благородство становится оружием и защитой только тогда, когда сражаешься с благородным соперником. В противном случае быть благородным – все равно, что выходить в латах против автомата. Я вдруг почувствовал, что наше противостояние перенеслось в какую-то природную плоскость. Во мне открылись черные дыры, возможно, чакры, о которых я и не подозревал. Я был зол, словно динозавр. Внутри меня заклокотал какой-то кратер, извергавший протуберанцы слепой ярости. Краешком сознания – ad marginem! – я ощутил себя отчасти молнией, отчасти вымершим травоядным. Во мне всколыхнулись зоологические и биологические пласты – те самые, в которых всю жизнь обитал представитель млекопитающих Рачков. А все из-за того, что декан намекнул профессору на безупречном русском языке. Смешно, если разобраться. А злость продолжала клокотать.
– Вы имеете в виду Екатерину Ростовцеву? – просипел я сдавленным шепотом, интимно придвинувшись, как подобное к подобному. Условное лицо декана не дрогнуло. Если угодно, на лице его застыло серьезное и вместе с тем тревожное выражение, как у кота, которому вот-вот перепадет нечто кисельно-молочное, и потому кот сосредоточился на своем ожидании, механически покручивая упругим хвостом и не замечая ничего вокруг.
Тут-то и последовал мой зубодробительный хук. Все происходило неторопливо и вместе с тем напряженно и молниеносно, как на кошачьем поединке. В каком-то смысле я великолепно владел собой – в лемуровском или кошачьем смысле. Сложно сказать, рассчитал я силу удара или нет; в каком-то смысле рассчитал.
Но после смерти Присыпкина и его сдержанных похорон, на которых декан молчал, не проронив ни звука, Ричард слег в больницу с переломом нижней челюсти. Даже челюсть его исключительно подло переломилась в тот момент, когда другой бы отделался легкими ушибами. Мое безнравственное поведение приобрело четко выраженный уголовно-криминальный характер.
Каждый день пребывания декана в больнице означал для меня «отягощающее обстоятельство». Ричард, понятное дело, на волю не торопился. Он выписался в начале апреля.
Но повестку в суд я получил еще в конце марта.
12
Чтобы жить, я вынужден делать многое из того, что считаю для себя неприемлемым.
Еще вчера я был если не преуспевающий, то, как выяснилось, вполне благополучный профессор. Сегодня я превратился если не в преступника, то в человека, склонного к антисоциальному поведению. Всплыло все: Катька, Ричардуля, Присыпкин…
На моей совести было два, нет, три трупа, один из которых вскоре должен был выступить как свидетель и как потерпевший, а второй лежал в моей квартире немым, однако же красноречивым укором. Я безвылазно сидел дома, то ли привыкая к длительному заключению в ограниченном пространстве, то ли наслаждаясь свободой, и сквозь крестовину окна любовался на бушующий апрель. В голове глупым рефреном стучало: если горе от ума – значит нам весь мир тюрьма. А еще навязчиво заело: «она влюблялася в обманы и Ричардсона, и Руссо».
Я мог еще выходить на улицу, но я дал уже подписку о невыезде. От работы меня временно отстранили распоряжением ректора. Наконец-то я стал знаменитым человеком в университете. Мои книги пошли нарасхват.
Боже мой, какого пустяка порой не хватает для славы! Пушкину – гибели, мне – хрупкого подбородка Ричарда.
За окном показательно бушевали единство и борьба противоположностей. Грязноватая акварель мутных апрельских небес неясно бередила душу. Беззлобная снежная пороша, которую хотелось назвать остаточными или переходными явлениями, нехотя баловалась воронками вихорьков. Еще не весна; однако смешно называть эти судороги природы зимой. Водянистый, легко сбивающийся в слякоть снег, вяло лез в глаза, назойливо лип на подбородок, заставляя прохожих отбиваться от пакостливых снежинок, как от живых тварей, и испытывать к ним легкое, веселое раздражение. Старушке-зиме охотно прощали все ее нелепые маразматические капризы. Завтра принадлежало юной весне. Чувствовать себя великодушными было легко.
Пышная гладь непримятого, словно бы взбитого снега покрывала землю. Белые поля, ликуя в унисон с небом, испускали ровное неземное сияние. Только кое-где из-под снега живописно выпирали черные комья земли, напоминая отроги Кавказского хребта в миниатюре: белоснежные разводы и оголенные каменные шапки гор.
Но пришли влажные туманные утра и съели пышные снега. От былого солидного великолепия остались ноздреватые комки. Жирно чернела земля.
Утра сменялись утрами. Пухловатое, пеплом набитое одеяло облаков сероватой акварелью тонировало небо. Мир без солнца тихо грустил и незаметно охорашивался: коричневая земля бралась зеленью, взбухшие почки словно ждали резкой отмашки лучей, чтобы выпустить клейкие листики.
Однажды в такое серое утро раздался телефонный звонок. Я ожидал всего, чего угодно, но только не этого звонка. Звонила Катя.
Милейшее создание! Порой мне хочется, чтобы справедливость существовала не только в нашем воображении, но и где-нибудь за апрельскими небесами. Тогда бы Катюше зачли этот звонок и отпустили 113 тяжких и «менее тяжких» грехов. А Ричарду какой-нибудь архистратиг Рафаил сокрушил бы пасть ангельской палицей окончательно, да впридачу выдрал бы язык. Молчи на здоровье.
Но нет небес. Зато есть Катя. Повод для звонка был самый что ни на есть житейский: она собиралась выходить замуж за Димедрола. Мои фальшивые поздравления приняла с благодарностью и спросила, как дела. Я вкратце, бегло, не драматизируя обстоятельств коснулся трех трупов, трех по-разному дорогих мне людей. Катя отчего-то заплакала. Мне отчего-то стало легче на душе. Мы договорились о встрече.
Вскоре после этого раздался еще один звонок. Я с опаской снял трубку. Звонили из солидного философского журнала, где с восторгом приняли к публикации мою работу «Философия зла». Это дало мне основание задаться легкомысленным вопросом: может быть, черная полоса в моей жизни заканчивается, может быть, пробивается уже белая полоса?
Самая большая проблема для меня сейчас заключалась в том, как рассказать жене то, что произошло у меня на работе. Я просто боялся ее очередного стресса. С моей легкой руки произойти могло все что угодно. Но и ждать, пока ей обо всем доложит какая-нибудь Амалия, было невозможно. Или вдруг Ричард назло мне решит загнуться… То-то бы обрадовал.
Нет, она должна все услышать от меня.
К вечеру я, кажется, созрел.
– Анна, я должен сообщить тебе пренеприятное известие…
Видимо, я несколько переборщил, потому что жена моя расцвела теми самыми пунцовыми пятнами.
– Да нет же, – быстро поправился я, – Катька здесь не при чем. Все гораздо хуже.
Жена моя мгновенно успокоилась. К моему немалому изумлению, она сразу во всем поверила мне и твердо стала на мою сторону. И – никаких стрессов. Она даже обрадовалась, что на меня свалилось столько несчастий: ведь я теперь нуждался в ее помощи. А она, как ни странно, чувствовала долю своей вины за все произошедшее, то есть за историю с Катькой. По-моему, она даже не поняла всей серьезности ситуации. Она готова была бросить все и уехать куда глаза глядят.
По-моему, она меня действительно любила.
На душе моей отчего-то стало тяжелее, чем раньше.
13
Когда я увидел Катьку, то подумал: «Жениться на этой роскошной женщине – значило бы расстаться со своей мечтой! Ибо сбывшаяся мечта, увы, – не мечта».
Примерно то же самое, как я теперь понимаю, я думал тогда, когда делал предложение своей жене.
Катя была одета по возрасту: короткая курточка, плотно облегающие бедра джинсы, плотная вязаная шапочка… Ничего особенного. Типичный представитель поколения. Надо только обладать моим жизненным опытом и наблюдательностью, чтобы за типичным разглядеть особенное. Это была особенная женщина.
Мы договорились встретиться в Ботаническом саду. Был типичный серый апрельский денек, может быть, более теплый, чем обычно. Меня поражала в этот день собственная наблюдательность и обостренное восприятие. Картины, слова, интонации, запахи врезались в память навсегда.
Вот перед нами гордо, вперевалочку протрусили два мохнатых породистых барбосика с какими-то толстыми щуками вместо хвостов; за ними семенил хозяин с опущенными ушами. Было даже странно, что у него нет хвоста, хоть какого-нибудь. Это мое предположение развеселило Катюшу.
Вот на солнышке нежились щетинистые алкаши, а разомлевшее светило вяло плескалось в янтарных бокалах с пивом. Видимо, этот лихой и помятый народец чем-то вдохновил нас, и мы с Катей зашли в магазинчик на проспекте и купили плоскую бутылочку коньяка с аистами. На полке стояло два сорта коньяка: «Белый аист» и «Черный аист». «Черный аист» был дороже, следовательно, качественнее. Но мы, не сговариваясь, выбрали «Белый аист».
Светло-черный зернистый асфальт огромными овалами проступал сквозь растаявший снег. Над нами с надсадным спящим свистом, рассекая воздух, пронесся лебедь. Кто бы мог подумать, что вальяжный красавец с гордо изогнутой шеей в полете превращается в обыкновенного трудягу, того самого гадкого утенка, который, натужно вытянув шею, в чернорабочем ритме утробно ухал на каждом взмахе. Тяжело давалось ему передвижение в воздухе. Нет, парить – не его стихия. То ли дело показательно царить на глади пруда.
А вот юркий изящный грач в плотно облегающем оперении тяжелого черно-зеленого цвета с атласным отливом хозяйничал на грядке. Собственно, озабоченно теребил полированным клювом какой-то помойный комок. Пижон был красив и отвратителен одновременно.
О чем рассказать мне моей Катюше?
О том, как в душе моей разыгрывались самые темные сценарии, в то время как я наблюдал за выздоравливающей, набиравшей силы женой?
Я смотрел на жену, а перед глазами плыли картины моего венчания с Катей, почему-то величественного неторопливого венчания, хотя мои отношения с миром святым и непорочным испорчены давно и безнадежно. Где-то в дальнем уголке воображения (ad marginem?) загорался экранчик, на котором прокручивались сцены погребения жены. Она умерла сама, она освободила меня от необходимости делать мучительный выбор, и все сложилось как нельзя лучше: и перед Катей совесть чиста, и перед женой, и перед собой, и перед людьми, потому как похороны представлялись трогательными и искренними. Хотя перед собой чиста весьма относительно: за воображение было стыдновато. Вместо с тем было приятно и на душе легко. Вот то, что мне надо! Следовало бы испугаться себя и воскликнуть, коленопреклоненно обращаясь к тени Достоевского: «Как же темен и страшен человек!» Но меня не покидало ощущение, что я временами находился в плену детских игр воображения. Это были душевные проблемы умного человека, которые яйца выеденного не стоят, – но которые называются жизнь. Именно в тот момент, когда мне грезились все эти сладкие кошмары, я отлично понимал, что я выбираю жену и навсегда отказываюсь от Катьки. Это конек-горбунок Федора Михалыча: выжать из элементарной игры воображения нечто инфернальное и не имеющее отношения к реальной сути человека. Для меня это был кошмар, порожденный бессилием, невозможностью что-либо изменить. Ведь только тогда на помощь спешит воображение, и ты растворяешься в сказочном дурмане. Если человек не способен сделать подлость, это не значит, что он не способен на подлые мечты. Более того: человеку, не способному сделать подлость, остается об этом только мечтать. Он просто обречен на это.
Нет, пожалуй, об этом рассказывать Кате я не стану. Хотя…
Я чувствовал, что мои фантазии не испугают Катюшу, а породнят меня с ней. Да, именно так. В глубине души, в самой глубине души, на том краю, где душа начинает пересекаться с сознанием, мне не было стыдно за себя. То, что мне в себе было подконтрольно, вело себя более-менее пристойно и по-человечески. Думаю, в подлости моих грез не было ничего исключительного. Для тех же, кто поспешит увидеть в изложенном здесь признаки небывалого развращения и неслыханной деградации, я хотел бы сообщить следующее. (Ричард, не сомневаюсь, упек бы меня за мой роман в спецпсихушку на необитаемый остров. А сам бы читал его по три раза на день – в наказание, в покаяние и во искупление – из зависти ко мне, из ненависти к себе и из смутного чувства растранжиренной жизни. А впрочем, нет, не читал бы. Я, как всегда, слегка по себе сужу о человеке вообще.)
Фантазии умного человека понятны и мотивированы. А вот фантазии примитивных и глупых людей – привязаны к вещам произвольным, случайным, непонятным. Этих-то фантазий и следует бояться, ибо глупый человек боится и не понимает самого себя. Для этих людей игра воображения мало отличается от работы ума; для них свершившийся в воображении бред уже и есть реальность. «Если ты согрешил в сердце своем…»
Внешне мы неотличимы. Спим, пьем, говорим на одном языке, ездим в одном трамвае. Фантазируем. Читаем. И мы, и они – маргиналы. Но по-разному. Это люди другой цивилизации. Мы с ними живем в разных мирах, на разных планетах, нас объединяет разве что разъединяющая нас граница, край. Надеюсь, мой роман не попадет им в руки, а если все же просочится сквозь условный занавес, они ведь прочитают совсем не то, что в нем написано.
Я все сказал.
А может, рассказать ей, как я разучился мечтать?
Это тоже целая история. Обычно принято сетовать на то, что мечты не сбываются или сильно расходятся с реальностью. У меня же другая проблема: все, о чем я действительно мечтал, к чему стремился и чего искренне желал, – все это в моей жизни рано или поздно исполнялось. Мои мечты были родом из реальности. Я всегда хотел быть умным, просто боготворил ум. Мне казалось, что умные люди живут как-то иначе, что это особая порода или каста людей. Я подозревал, что их презрение к «прозе жизни» выражается не в том, что они ее не замечают, а в том, что уделяют ей ровно столько внимания, сколько необходимо для того, чтобы заниматься чем-то более важным, на что не жалко тратить жизнь. «Поэзией», что ли. Чем-то высоким, необычным. Какой-то другой, не прозаической стороной жизни.
И я не ошибся. Моя безумная мечта исполнилась. Я стал профессором, я защитил свою докторскую диссертацию в Санкт-Петербурге, в университете, где учились Тургенев, Блок, Сикорский, Стравинский… Список можно продолжать бесконечно. К сожалению, в этот список попадет и Ричард Рачков. Да, да, Ричардуля учился в одном университете с Тургеневым. В разное, правда, время. Я написал пять книг – и ни за одну из них мне не стыдно до сих пор. (P.S. Учебные пособия для студентов я не беру в счет: их способна наклепать даже Флориановна. А школьный уровень потянет и Амалия. Я говорю о серьезных монографиях.) Я стал умным – и убежден, что это еще более почетно и круто, чем попасть в космонавты или стать олимпийским чемпионом. Это очень серьезная вещь. Быть умным – не значит говорить умные слова, читать умные книги или даже писать умные книги. Быть умным – значит быть адекватным реальности. Ты начинаешь понимать, о чем и с какой целью написаны все книги мира, даже если их и не читал. Исполнение такой мечты неизбежно делает тебя исключительным. Я пережил в связи с этим немало приятных минут, которые принято называть счастливыми.
Я вовремя созрел, я вовремя стал умным и пришел к этому постепенно. Я мечтал встретить женщину, которая понимала бы меня, ценила и была мне лучшей женой. Положа руку на сердце: я не видел в жизни женщины, которая бы более годилась на эту неблагодарную роль, чем моя Анюта. Моя мечта вновь исполнилась. Я даже не знал, что мечтаю иметь ребенка – но и эта мечта стала явью. Нежный и очаровательный карапуз, моя Ленка, подарила мне мгновения счастья, составленного из другого состава, нежели счастье быть умным или любить хорошего человека. Боже мой! Как легко ее было воспитывать, какое восхитительное единодушие и взаимопонимание сопровождало нас всю жизнь.
Когда в моей жизни появилась Катя – это тоже не было случайностью. Теперь я это знаю точно. Отныне мое счастье заключалось в том, чтобы перестать быть умным, сойти с ума и испытать что-то из ряда вон исключительное. И меня полюбила молодая, интересная женщина, бедра которой стали для меня эталоном. Катя появилась в нужное время в нужном месте.
Мои сокровенные мечты сделали мою жизнь не пустой, они наполнили ее смыслом. И все мои мечты воплотились. О чем мне мечтать сейчас?
О том, чтобы внезапно скончалась жена?
О том, чтобы мой удар в челюсть Ричарда был более мягким или челюсть внезапно срослась?
О том, чтобы издать свою книгу раньше, чем это сделает бедный Петруша?
О чем?
О том, чтобы стать знаменитым, прославиться на весь свет?
Последнее, кстати, не лишено смысла, но эта мечта всегда была не главной, побочной. Об этом почему-то не мечталось взахлеб, на это не направлялись все силы души. Если ты умен – слава может и подождать. Слава – это всегда следствие, а не причина, сама по себе она ничего не стоит.
Стать богатым?
Неплохо бы. Я бы не отказался. Но это мало что изменит в жизни, в которой ставка сделана на то, что не покупается за деньги. Ведь действительно есть вещи, которые не купишь за деньги, но которые стоят не меньше денег. Проблема в том, что людям нужны только те вещи, которые покупаются за деньги. Но это не моя проблема. Быть богатым – не тянет на мечту. Космонавтом быть круче. Чтобы мечтать о богатстве, надо быть дураком. Мне, к сожалению, это не дано. Зачем же мне тогда нужны были деньги?
Дорогие соблазны, поджидавшие на каждом шагу (шмотки, рестораны, машины и т. п.), были дешевкой; но вот простые вещи, позволявшие с комфортом отделиться от социума (например, коттедж, море, остров, лес), стоили действительно очень дорого. Говорю же: от денег я бы не отказался. Но деньги – это не мечта.
Я остался без мечты.
Отсутствие мечты кажется вам пустяком? Напрасно. Это значит – вы боитесь или стесняетесь своей мечты. А ведь она может исполниться и помимо вашей воли, если вы действительно этого хотите.
Интересно, а можно ли считать мечтой то, что я сейчас опишу?
Сейчас, сконцентрируюсь. Не поймал роскошную, полнокровную бабочку-мысль или стрекозу-ощущение – они тут же скукожатся в корявого червяка. И реанимировать их – невозможно. Какие же легкокрылые тучи самых разных бабочек и стрекоз упорхнули из моих неловких ладоней, нетвердо сжимающих стило-сачок! Какие цвета, оттенки, размеры и узоры! Кстати, я заметил, что самые изысканные и неповторимые мотыльки отличаются сдержанной простотой, которую тут же хочется назвать благородной; броскую роскошь, как ни странно, уловить и зафиксировать легче. Но свою коллекцию я, ловец бабочек, все же собрал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.