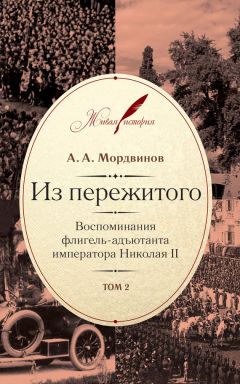
Автор книги: Анатолий Мордвинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
И мне снова вспомнилась мирная жизнь около тех станций, через которые мы проезжали, вспомнился и восторженно встретивший нас несколько часов назад пехотный эшелон, направлявшийся на фронт.
«Вот войдет Иванов в Петроград с двумя-тремя такими частями, и уж одно их появление приведет там все в порядок», – успокаивал я себя и даже радовался, что уже утром буду со своей взволнованной семьей, которую, наверное, успокоит мое неожиданно скорое возвращение…
Но мечтам этим было суждено лишь остаться мечтами на час.
Поезд замедлил ход – мы подходили к Малой Вишере. Я высунулся из выходной двери и смотрел на приближающуюся станцию.
Она была слабо освещена, но на платформе было довольно много народа. На путях стоял какой-то ярко освещенный поезд. Я вышел и столкнулся с генералом Дубенским, ехавшим в служебном поезде далеко впереди нас.
– Вы какими судьбами остались здесь? – удивленно спросил я.
– Мы все здесь, весь наш поезд! – с озабоченной тревогой ответил Лубенский. – Нам не советуют ехать дальше, так как, по слухам, Любань, да и Тосно тоже заняты революционерами, и мы решили подождать вас, чтобы спросить, как поступать дальше. Я еще послал об этом записку Сергею Петровичу (Федорову) из Бологого, получили ли вы ее?
– Записку мы получили, – ответил я, – но было решено, если путь не испорчен, то ехать дальше.
На платформу вышел генерал Воейков. Он вовсе «беззаботно не спал», как рассказывали о нем «очевидцы».
Его сейчас же обступили разные должностные лица и начали докладывать. Мне не хотелось присутствовать при служебных разговорах; было очень холодно, и, не найдя на платформе никого из своих новгородских знакомых и ожидавшегося фельдъегеря, я поспешил войти в служебный вагон инженеров, прицепленный к нашему поезду, надеясь там получить более подробные сведения о причинах задержки.
Отделение, в котором помещалось сопровождавшее нас железнодорожное начальство, было пусто – все были на платформе.
На столе лежала брошенная кем-то служебная телеграмма; я машинально взял ее и прочел: какой-то поручик Греков, называвший себя комендантом Николаевского вокзала, в резких выражениях и, кажется, с угрозами за неисполнение приказывал, чтобы императорский поезд, без захода в Царское, был направлен прямым маршрутом в Петроград, на Николаевский вокзал, «в его, коменданта, распоряжение».
Этот «приказ» неизвестного поручика всероссийскому императору, рассмешивший бы меня даже несколько часов назад, теперь наполнил меня таким гадливым негодованием, от которого я не скоро оправился.
Я вышел снова на платформу и увидел нашего общего любимца инженера М. Ежова, начальника императорских поездов.
Он мне подтвердил, что действительно телеграмма неведомого поручика Грекова была разослана по всей дороге, но что, конечно, на нее никто не обращает внимания, и, вероятно, по получении уведомления от соседней станции, мы, дав отойти свитскому поезду, скоро и сами двинемся вперед, так как путь не испорчен и пока до Любани свободен. Он добавил, что Тосно и Гатчина, через которые нам приходилось сворачивать на Царское Село, лишь только по слухам заняты бунтующими, и теперь идет проверка этих слухов по фонопору…
Было уже очень поздно, около 3 часов ночи; наутро, согласно маршруту, приходилось рано вставать; большинство спутников по вагону уже спали; я сам был очень утомлен своими дневными переживаниями.
Слова Ежова меня временно успокоили, и, не ожидая отправления поезда, я прилег, не раздеваясь, на приготовленную уже кровать и сейчас же крепко уснул.
Спал я, как мне показалось, довольно долго и проснулся около шести утра, когда по расписанию мы должны были проходить Гатчину и час, который, засыпая, я мысленно назначил себе для вставания.
Поезд двигался, как мне показалось, более быстро, чем обыкновенно.
«Слава Богу, – подумал я, – несмотря на строжайший приказ поручика Грекова, мы все же двигаемся, куда хотим, и скоро будем дома, а не на Николаевском вокзале с его обнаглевшими запасными».
Я выглянул в окошко, надеясь издали разглядеть купола Гатчинского собора, и, к изумлению, увидел не хорошо знакомые мне окрестности Гатчины, а совершенно неизвестную местность; к тому же поезд двигался не к Петрограду и Гатчине, а в совершенно обратном направлении.
Встревоженный, я вышел в коридор и столкнулся с генералом Воейковым, еще в шинели, проходившим из служебного вагона в свое купе.
– Владимир Николаевич, что такое? Почему мы едем назад? И куда? – спросил я его.
– Молчите, молчите, не ваше дело, – как будто шутливо, но с сильным раздражением, нетерпеливо ответил он и скрылся в своем отделении.
Убеждение В. Н. Воейкова, что он должен знать все, а мы ничего, и что все касавшиеся близко нас распоряжения о разных передвижениях, известные даже мелкому служебному люду, – «не наше дело», мы знали давно и с этим кое-как свыклись.
Но тогда его столь требовательная таинственность показалась мне особенно неуместной. Видимо, он был сильно взволнован и не хотел этого показывать.
Коридор вагона был пуст; купе были закрыты; все спали, и только у моего соседа, командира конвоя графа Граббе, слышалось какое-то движение – он, вероятно, не спал.
Я вошел к нему и узнал, что вскоре после моего возвращения в вагон, в Малой Вишере, получилось подтверждение, что Любань уже занята большою толпою взбунтовавшихся солдат (одна рота или две), вероятно, испортивших путь, и что проехать через Тосну будет нельзя.
В таких обстоятельствах, конечно, было бы необходимо, чтобы Георгиевский батальон, как и предполагалось, шел действительно впереди нас в виде тарана, и не по боковому, дальнейшему пути.
Было решено поэтому с согласия государя, которого пришлось разбудить, вернуться назад в Бологое и кружным путем, через Старую Руссу, Дно и Вырицу, проехать в Царское Село.
В Бологом еще раньше была назначена смена паровозной бригады, но машинисты и другие, несмотря на свое утомление, не хотели сменяться и выразили непреклонное намерение ехать с императорским поездом и далее.
Наши военные железнодорожники из свитского поезда разъединили путевой телеграфный провод на Петроград, перевели на другой конец паровоз, и наш поезд быстрым ходом двинулся вперед. Теперь мы приближались снова к Бологому.
Впереди нас не было уже никого – служебный поезд остался позади и следовал в близком расстоянии за нами.
О непредусмотренном движении императорского поезда предупреждались постепенно лишь соседние, ближайшие станции.
В своих воспоминаниях Палеолог, упоминая об этом повороте императорского поезда назад, рассказывает, что командир железнодорожного батальона генерал Цабель, войдя тогда в купе спящего государя, убеждал вернуться назад, а не следовать в Царское Село, и что якобы государь отнесся ко всему равнодушно и говорил: «Ну что же, поедем тогда в Москву или в Крым… там теперь уже цветы цветут»23. Этого столь грубо выдуманного разговора не было, да и быть не могло, хотя бы уже потому, что генерал Цабель не входил, да и не мог входить по своему положению в купе государя. К Его Величеству входил в ту ночь лишь генерал Воейков, и разговора о Москве, Крыме и цветах, конечно, не было. Я это знаю наверное…
Начиналась среда, 1 марта, новый тяжелый день, когда томительные переживания не облегчались уже ни надеждой на скорое окончание бунта, ни мыслью о скором свидании с семьей. Впрочем, в то время о своих я перестал почти думать. Мои были сравнительно в безопасности и здоровы, но зато моя Родина и любимая семья моего государя не выходили у меня из головы. Я представлял себе их больными, окруженными бунтующей толпой, растерянными, тщетно ожидающими приезда государя.
К великим княжнам и маленькому Алексею Николаевичу я был привязан всей душой и в своих чувствах к ним почти не отделял их от собственной дочери.
Не любить и не привязаться к ним было нельзя: их внутренний мир чаровал еще больше, чем их прелестный внешний облик. Я чувствовал, что они также любили меня, и нас связывала самая искренняя дружба…
Я не помню хорошо, как прошел этот день до вечера, да и вряд ли что-либо записал об этом в своем дневнике.
Помню только, что весь этот день был ясный, чувствовалось начало войны, что на станциях и, в частности, в Старой Руссе текла обычная мирная жизнь, что задержек в пути не было, что государь не выходил почему-то, как всегда во время остановок, для прогулки и что то короткое время, которое мы обычно проводили вместе с Его Величеством, ничем не отличалось в разговорах от обыденных, не тревожных дней.
Нелегко, конечно, было и нам, и ему говорить о ничтожных вещах – поддерживать разговор и лишь думать о том, что так мучительно волновало каждого из нас, а Его Величество в особенности.
Вспоминается также, что было решено щедро наградить не пожелавших сменяться верных паровозных машинистов и кочегаров.
К сожалению, последовавшие события в Пскове заставили совершенно забыть и об этих преданных своему царю людях[2]2
Брат лейб-медика Боткина моряк П. С. Боткин24 в своей статье говорит: «Не должно забывать, что вся поездная прислуга, вплоть до последнего механика, в царском поезде была причастна к революции». Быть может, это было и так, но по отношению лишь к паровозной бригаде, стремившейся сменить своих вопреки присяге товарищей, а не к этим последним.
[Закрыть].
Помню и то, что в течение дня получилось хорошее известие, что генерал Иванов со своим эшелоном благополучно, без задержек, проследовал через Дно и должен был быть уже в Царском Селе, откуда еще сведений не было.
Получилась и непонятная ответная телеграмма от Родзянко, ожидавшегося нами на станцию Дно и кратко уведомлявшего, что «по изменившимся обстоятельствам он выехать навстречу Его Величеству не может».
Также помню, что до получения этой телеграммы и до прибытия нашего на станцию Старая Русса никаких предположений о перемене маршрута на Псков не было, и лишь по приезде на эту станцию получилось известие, что мост по Виндавской дороге якобы или испорчен, или для тяжелого императорского поезда ненадежен, и только тогда было решено двигаться на Псков и оттуда по Варшавской дороге прямым путем через Лугу, Гатчино и Александровскую на Царское Село.
Тогда же была послана и новая телеграмма Родзянко, уведомлявшая о перемене нашего маршрута и снова предлагавшая ему выехать на встречу в Псков.
В этом городе находился штаб Северного фронта генерала Рузского, и оттуда можно было связаться прямым проводом со Ставкой, Петроградом и Царским Селом и выйти наконец из той тревожной неизвестности, которая нас окружала со вчерашнего вечера.
Остановка в Пскове, о которой с пути был уведомлен и генерал Рузский, предполагалась поэтому очень короткой и ставилась в зависимость лишь от своевременного прибытия Родзянко и от времени, необходимого для переговоров по прямому проводу с Царским Селом и со Ставкой.
Был уже вечер, около 7 с половиной часов, когда императорский поезд подходил к Пскову.
Я, будучи дежурным флигель-адъютантом, стоял у открытой двери площадки вагона и смотрел на приближающуюся платформу.
Она была почти не освещена и совершенно пустынна, несмотря на то, что в Пскове заблаговременно знали о прибытии государя.
Ни военного, ни гражданского начальства (за исключением, кажется, губернатора), всегда задолго и многочисленно собиравшегося для встречи Его Величества, на ней на этот раз, к моему удивлению, не было.
Не было выставлено и почетного караула. Лишь где-то посередине платформы находился, вероятно, дежурный помощник начальника станции, да на отдаленном конце виднелся силуэт караульного солдата с ружьем.
Поезд остановился. Прошло несколько минут, из-за медленно падавшего снега показавшихся мне особенно длинными; никто из начальства не появлялся; на платформу только вышел какой-то офицер, посмотрел на наш поезд и снова скрылся.
Еще прошло несколько минут, и я увидел наконец генерала Рузского, переходящего рельсы и направлявшегося в нашу сторону.
Рузский шел медленно и, как мне невольно показалось, будто нарочно не спеша. Голова его, видимо, в раздумье, была низко опущена. За ним, немного отступя, шли генерал Данилов и еще 2–3 офицера из его штаба.
О Рузском сейчас же было доложено, и государь его принял, а в наш вагон вошел генерал Данилов с другим генералом.
Они сразу, без всякого вступления, стали расспрашивать об обстоятельствах нашего прибытия в Псков и о дальнейших наших намерениях.
– Вам все-таки вряд ли удастся скоро проехать в Царское, – сказал Данилов. – Вероятно, придется здесь выждать или вернуться в Ставку. По дороге неспокойно… Мы только что получили известие, что в Луге вспыхнули беспорядки и весь город во власти бунтующих солдат. Вероятно, и высланные вами части к ним присоединятся.
Об отъезде Родзянки в Псков в штабе не было ничего известно – он оставался еще пока в Петрограде; но были получены от него телеграммы, что в городе началось избиение офицеров и возникло якобы страшное возбуждение против государя. По их сведениям, весь Петроград находится теперь во власти взбунтовавшихся запасных.
Генерал Данилов был мрачен и, как всегда, очень неразговорчив.
Генерал Рузский оставался у государя только несколько коротких минут и в ожидании обеда, к которому был приглашен, вскоре прошел к нам, кажется, в купе Вали Долгорукова.
Как сейчас помню, в каком раздраженном утомлении откинулся он на спинку дивана.
Граф Фредерикс и мы собрались около него, желая узнать, что происходит, по его сведениям, сейчас в Петрограде и какое его мнение на все происходящее.
– Теперь трудно что-нибудь уже сделать, – с раздраженной досадой, почти совершенно в таких выражениях говорил Рузский. – Давно все настаивали на реформах, которых вся страна требует… Не слушались… Голос хлыста Распутина имел больший у вас вес… Вот и дошли до Протопопова, до неизвестного Голицына… до всего того, что сейчас… Посылать войска в Петроград, конечно, поздно – выйдет только лишнее кровопролитие и лишнее раздражение… надо их вернуть…
– Меня удивляет, при чем тут Распутин? – спокойно возразил граф Фредерикс. – Какое он мог иметь влияние на дела?! Я, например, даже его совершенно не знал.
– О вас, граф, никто и не говорит. Вы были в стороне, – вставил Рузский.
– Что ж, по-вашему, теперь делать? – спросили несколько голосов.
– Что делать? – переспросил Рузский. – Придется теперь, быть может, сдаваться совершенно на милость победителя!
Что дальше говорил Рузский, я не помню, кажется, ничего, так как вошедший скороход доложил, что государь собирается выходить к обеду, и мы все направились в столовую.
Я чувствовал только его известное «пренебрежение» к нам, к «придворным», не отдававшим себе отчета в происходящих событиях. Но разбирался ли он в них достаточно ясно сам? Вот что шевелилось в моих мыслях после его слов о необходимости вернуть войска.
Обед, хотя и короткий, тянулся мучительно долго. Моим соседом был гр. Данилов, и я с ним не сказал ни одного слова. Остальным тоже было, видимо, не по себе.
Но государь спокойно поддерживал разговор с Рузским и графом Фредериксом, сидевшими рядом с Его Величеством.
После обеда Рузский через некоторое время, по его просьбе, снова был принят государем, оставался у государя до поздних часов, заходя в промежутке доклада ненадолго к нам в вагон, в отделение к ген. Воейкову, с которым вел какие-то служебные разговоры, а затем ненадолго прошел к гр. Фредериксу.
Был ли там также и генерал Воейков, я не знаю. Кажется, был.
Когда Рузский ушел, граф Фредерикс в разговоре с нами сообщил, что соединиться с Царским Селом не удалось, но что генерал Рузский намеревается переговорить по прямому проводу с Родзянко, спросить, почему он не приехал, узнать, что делается в Петрограде, и просить приехать все-таки в Псков.
Граф Фредерикс добавил, что до получения ответа мы остаемся на неопределенное время в Пскове и, во всяком случае, не уедем до следующего утра.
В тот же поздний вечер мы узнали, что государь, по настоянию Рузского, выразил согласие на назначение ответственного министерства уже вполне по выбору председателя Думы, о чем Рузский также намеревался сообщить Родзянко по прямому проводу. Вот все, что сделалось нам известным в этот день.
Приходилось ждать результатов переговоров. Было очень поздно, чуть ли не около 2 часов ночи, а Рузский все не приходил, и мы наконец после долгих ожиданий разошлись по своим помещениям.
Из тех немногих отрывочных фраз, которыми обменивались Рузский и В. Н. Воейков, ясно сквозило его пренебрежительное отношение к последнему; в свою очередь и генерал Воейков своими полушутливыми фразами давал понять Рузскому, что преувеличивать простой бунт в мировое событие еще преждевременно.
Утром в четверг, 2 марта, проснувшись очень рано, я позвонил моего старика Лукзена и спросил у него, нет ли каких-либо указаний об отъезде и в котором часу отойдет наш поезд.
Он мне сказал, что пока никаких распоряжений об этом отдано не было и что, по словам скорохода, мы вряд ли ранее вечера уедем из Пскова.
Это меня встревожило; я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней уже находились Кира
Нарышкин, Валя Долгоруков и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод испорчен, и переговоры поэтому не могли состояться.
Государь вышел к нам позднее обыкновенного; он был очень бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но он был спокоен и приветлив, как всегда.
Его Величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает с докладами Рузского, удалился к себе.
Скоро появился Рузский и был сейчас же принят государем.
Мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого из штаба, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью, около 4 часов утра, удалось наконец соединиться с Родзянко.
Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо. Там царит полная анархия, а слушаются лишь его одного. К тому же Луга взбунтовалась и якобы никого не пропускает. Все министры им арестованы и по его приказанию переведены в крепость.
На уведомление о согласии Его Величества о сформировании ответственного министерства Родзянко ответил, что «уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уж ничто не сможет сдержать народные страсти».
Тогда же мы узнали, что якобы по просьбе Родзянко Рузский испросил у государя разрешение приостановить движение отрядов, назначавшихся на усмирение Петрограда, и генералу Иванову государь послал рано утром телеграмму ничего не предпринимать до приезда Его Величества в Царское Село.
Это пагубное решение отказаться от защиты законной власти войсками было вызвано, конечно, не просьбами Родзянко, который хотя и был когда-то офицер, но в военном деле еще хуже разбирался, чем в политике.
Оно являлось желанием самого Рузского, как он нам о том говорил еще накануне. По его словам, он желал избежать лишь излишнего кровопролития, но море затем пролитой и проливаемой крови наглядно свидетельствует, что высшие человеколюбие и предвидение были не на его, да и не на других генералов стороне.
Это распоряжение и советы вернуть на фронт высланные на усмирение петербургских улиц войска столькими ужасами отразились на моей Родине, что невольно вызывают необходимость хоть ненадолго отклониться от моего рассказа и на них остановиться подробнее. Именно ими около 10 часов вечера 1 марта и было положено начало тому, теперь уже полнейшему, бездействию, которое вызвало крушение величайшей в мире империи. Начальник штаба генерала Рузского генерал Ю. Данилов в своих воспоминаниях (Архив русской революции, т. XIX) так рассказывает о причинах, вызвавших подобное отношение: «К этому времени (вечером, после обхода, 1 марта) я получил очень тревожное известие о том, что гарнизон Луги перешел на сторону восставших. Это обстоятельство делало уже невозможным (?!) направление царских поездов на север и осложняло продвижение в том же направлении эшелонов того отряда, который, согласно распоряжению Ставки, подлежал высылке от северного фронта на станции Александровка в распоряжение генерала Иванова. Головные эшелоны этого отряда, который был отобран командующим 5-й армией из наиболее надежных частей, по нашим расчетам, должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта; но затем эти эшелоны были временно задержаны в пути для свободного пропуска министерских (царских) поездов, и где они находились в данное время, нам было неизвестно»25. В этом рассказе прежде всего вызывает недоумение, каким образом царский поезд мог задержать движение войсковых эшелонов, направленных из района между Двинском и Псковом на Петроград еще 27-го, а самое позднее – 28 февраля днем. Из приложенной схемы ясно видно, что в тот день императорский поезд находился на много сотен верст к юго-востоку от линии Двинск – Псков – Петроград, по которой направлялся двинутый на столицу отряд. Если, по расчетам ген. Данилова, головные эшелоны отряда должны были подойти к Петрограду еще утром 1 марта, то в эти самые часы мы находились где-то вблизи Бологого и, конечно, никому помешать не могли.
Императорский поезд подошел к Старой Руссе (приблизительно 200 верст восточнее Пскова) лишь в час дня 1 марта, откуда и была послана генералу Рузскому телеграмма, что мы двигаемся к нему, в Псков, с просьбой распоряжения о беспрепятственном проезде.
Таким образом, только лишь после часа дня 1 марта генерал Рузский мог узнать, что мы направляемся к нему из Старой Руссы через Дно в Псков, так как до этого (после Мал. Вишеры) о перемене нашего маршрута никому из высшего военного, да и железнодорожного начальства не сообщалось, а постепенно нами лишь предупреждались станции, находившиеся по движению впереди нашего пути. Наш поезд прибыл в Псков лишь около 8 часов вечера 1 марта. Следовательно, целый день и целую ночь 28 февраля и целый день 1 марта приблизительно 250-300-верстный путь от Пскова на Петроград был совершенно свободен для отряда исключительно важного назначения, и императорский поезд никоим образом не мог его задержать, как не мог задержать и впоследствии, оставаясь все время на Псковском вокзале и свободно пропуская самые обычные пассажирские поезда…
Еще более становится непонятным, каким образом взбунтовавшийся ничтожный гарнизон в Луге (какие-то незначительные автомобильные части) мог сделать «невозможным направление царского поезда на север» и «осложнить продвижение в том же направлении эшелонов, высланных по приказанию государя с фронта на усмирение бунтовщиков».
Ведь именно эти надежные отряды с войсками значительной силы и были направлены в окрестности Царского Села, чтобы устранять подобные препятствия, а не для простой прогулки в Петроград. На эти же отряды, конечно, ложилась и обязанность в случае необходимости открывать путь и для императорского поезда. Если даже один из эшелонов, подошедший без особой предосторожности к Луге, как рассказывали, и был там окружен и обезоружен мятежниками, то существовали еще и остальные эшелоны, следовавшие в самом близком расстоянии один за другим и, конечно, могшие без особого затруднения сломить сопротивление небольшой кучки забывших свой долг «товарищей».
Сообщение Родзянки о том, что этот, окруженный, эшелон якобы взбунтовался и перешел на сторону мятежников, было, по словам самого Рузского, не верно. Он говорил, что «он имел точные сведения, что этот эшелон в Луге не взбунтовался».
Генерал Рузский также говорил, что «гарнизон в Луге был невелик и не содержал боеспособных элементов и что с ним легко можно было справиться», но надежда, что благодаря манифесту об ответственном министерстве (еще даже не объявленном) возможно будет мирным путем прекратить беспорядки, не доводя до столкновения между частями армии, и привела Рузского, а по его совету якобы и государя, к решению вернуть эшелоны обратно в Двинский район. Это же решение одобряли и советовали из Ставки. Решение действительно роковое, а надежда слишком уж наивная – в какой стране и когда во время таких беспорядков и мятежей ответственное министерство, само по себе, без содействия военной силы, водворяло порядок, спасало страну и династию и обеспечивало победу?!! Если бы русская Государственная Дума действительно являла собою глубокую думу русского народа, а вновь назначенный и ответственный перед нею «премьер» Родзянко был действительно государственным человеком, он должен был бы умолять не о задержании вышедших с фронта войск, а наоборот, настаивать перед Рузским и Алексеевым об усиленной и скорейшей их посылке в столицу. Ведь лишь в этих войсках заключалась возможность спасения Родины! Но Родзянко владел уже 3-й день страх улиц, тогда как Рузский продолжал пользоваться значением и спокойствием в Пскове. Каким образом он – умудренный житейским опытом старик – мог вообразить, что петроградские фабричные и запасные вышли на улицу, стали убивать офицеров и городовых, грабить лавки, стрелять в войска и выпускать из тюрем преступников лишь для того только, чтобы добиться им малопонятного ответственного министерства, а не для более им близких и заманчивых целей! Да к тому же сама бушевавшая в Петрограде «многотысячная» толпа была невелика. По словам ее главных вожаков, она в первые дни не превышала 5000 человек, и прибытие с фронта 2–3 надежных полков с энергичными командирами (многие уверяли впоследствии, что и «одного крепкого батальона было бы достаточно») помогло бы быстро справиться с петербургским уличным бунтом и тем спасло бы все, и миллионы загубленных впоследствии человеческих жизней, и династию, и победу, и честь, достоинство и процветание Родины. Но единственным человеком из всего высшего командования, правильно и твердо оценивавшим обстановку, был только сам государь, отдавший своевременно и необходимые приказания. Даже ярые враги его – большевики, отдают ему в этом отношении должное и признают, что «только шаг, сделанный самим царем – разгром революционного Петрограда, мог бы спасти положение монархии». Верховный главнокомандующий в лице русского императора, беспредельно любившего свою Родину, безусловно, оказался на высоте своего положения. На этой высоте не оказались лишь его непосредственные помощники и исполнители его повелений. Их отношение к событиям и вызвало горькую и нелестную оценку государя, занесенную им в свой дневник от 2 марта. Оно же сильнее всего и повлияло на его решение отречься…
Но вернусь наконец к продолжению моего рассказа.
После завтрака (2 марта), к которому никто из посторонних в императорский поезд приглашен не был, распространился слух, что вместо Родзянки к нам для каких-то переговоров выезжают члены Думы Шульгин и Гучков, но прибудут в Псков только вечером.
В этот же день, 2 марта, утром генерал Клембовский из Ставки по прямому проводу передал нам, что конвой Его Величества в полном составе прибыл в Государственную Думу и через своих депутатов просил разрешения арестовать тех офицеров, которые отказались принять участие в восстании.
Помню, что известие это меня и других взволновало необычайно; я не разбирался тогда в возможностях этой поголовной измены и сильно негодовал на конвойцев за их поведение, хотя я должен был бы и тогда сознавать, что в своем «полном составе» конвой никоим образом не мог появиться в Думе: 2 сотни его находились в то время в Могилеве, сотня или полторы в Царском Селе, и, кажется, полсотня несла службу в Киеве при вдовствующей государыне императрице. В Петрограде могла находиться (и находилась там в действительности) лишь оставшаяся там небольшая команда, из коих было много вольнонаемных мастеровых да разные нестроевые.
Но такова уж сила лживого известия, переданного в мятущееся время, – ему верят порою вопреки полной очевидности.
Поверил ему, вероятно, не менее убежденно и сам генерал Клембовский, получив это тяжелое известие из Петрограда и передавая его столь предупредительно нам из того самого Могилева, где, как он отлично знал и сам, продолжала находиться почти половина конвоя… Поверили этому, как ни странно, тогда и мы, свита государя.
Впоследствии, когда мы уже вернулись в Ставку, прибывшие из Петрограда офицеры-конвойцы на мои упреки рассказали мне, как было дело в действительности.
По их словам, двигавшаяся по Шпалерной (где находились казармы конвоя) и направлявшаяся к Таврическому дворцу возбужденная громадная толпа народа привлекла внимание оставшейся в Петрограде команды, и многие, главным образом из любопытства, намеревались вместе с нею добраться до Думы.
Но оставшийся в Петрограде есаул Мануха это им запретил и сказал:
– Сидите тут смирно – я один пойду в Думу и разузнаю, в чем дело, – и направился туда.
Все же несколько человек, не более 30–40, несмотря на приказание, смешались с толпой и пробрались вместе с ней на двор Таврического дворца.
Их красивая, своеобразная казачья форма привлекла всеобщее внимание. Вышедший из Думы какой-то депутат, увидев офицера, обратился к Манухе с предложением привести разрозненных людей в порядок.
Мануха отказался, но какой-то урядник конвоя все же выстроил этих людей, и тогда депутат обратился к ним с речью: «Товарищи, мы счастливы, что даже и конвой» и т. д., и т. д.
Что было дальше, я уже забыл, но помню, что эти же офицеры мне говорили, что 2 сотни, бывшие в Царском, так же как и сотни, находившиеся в Могилеве и Киеве, оставались все время верными присяге, на своих постах.
Это же засвидетельствовал и граф Бенкендорф, находившийся все время при Ее Величестве в Царском Селе, в Александровском дворце.
По его словам, «как конвой, так и собственный Его Величества полк держались в превосходном порядке, готовые всегда исполнить свой долг».
Конвой не соблазнился и революционным приказом № 1, утвердив на своих местах все свое прежнее начальство, чего, к сожалению, не сделал Сводный полк.
Обе эти части телохранителей, неся верную службу, оставались во дворце до 8 марта, когда сменены были по приказу Временного правительства – объявленному через генерала Корнилова – революционными гвардейскими стрелками.
О том, как превосходно держали себя части этих войск в Могилеве и после отречения государя, я был личным свидетелем.
Что сталось с конвоем и частями сводного полка после отбытия государя из Ставки – я не знаю.
Все революции любят окружать себя легендами, даже основанными якобы на показаниях «очевидцев» и документах.
Целых сто лет потребовалось для того, чтобы архивные изыскания смогли снять ореол какой-либо «доблести», проявленной якобы при взятии Бастилии. Число врагов и примкнувших друзей в подобных случаях всегда вырастает до неимоверных размеров.
Как и всякому громкому преступлению, им, конечно, очень трудно говорить о себе правду…
Известие о прибытии депутатов от самовольно захватившей власть Думы очень сильно взволновало находившегося в те дни в наряде в нашем поезде сотника конвоя Его Величества Лаврова.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































