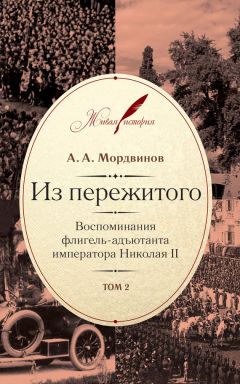
Автор книги: Анатолий Мордвинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
После короткой остановки для выгрузки царского багажа поезд направился, как бывало всегда раньше, в Петроград, где все не жившие в Царском Селе лица свиты, а именно генерал Нарышкин, герцог Н. Н. Лейхтенбергский и лейб-хирург Федоров и разъехались по своим домам.
Один очевидец – офицер, перешедший к революционерам, – наблюдавший прибытие императорского поезда на Царскосельской платформе, в своем рассказе, помещенном в книге генерала Дитерихса, резко отзывался о возмутившем якобы его тогдашнем поведении лиц свиты, прибывших из Могилева с этим поездом.
Хотя меня и не было в то время на Царскосельском вокзале, все же из изложенных выше мною рассказов я вынужден сильно сомневаться, чтобы описанная этим офицером картина могла иметь в действительности тот недостойный характер, как он о ней рассказывает.
Я вынужден сильно сомневаться, потому что: «быстро, быстро разбегаться с вокзала в разные стороны, оглядываясь по сторонам», – именно этим лицам, по приезде в Царское Село, не было никакой надобности.
Все они жили не в Царском Селе, а в Петрограде, и, как было рассказано уже выше, простившись с государем, на этот раз, судя по прощальным словам Его Величества, уже окончательно, продолжали спокойно оставаться в императорском поезде, с которым и доехали до Петрограда.
В искренность рассказов этих лиц, не участвовавших в перевороте и не изменявших государю, я верю.
Двух из них, К. А. Нарышкина и герцога Н. Н. Лейхтенбергского, нет уже более в живых.
Мой долг не только как бывшего их сослуживца, но и как просто человека обязывает меня передать с их слов, как было дело в действительности.
* * *
Только 2 апреля 1924 года я узнал также о рассказе придворного лакея Волкова, напечатанного в книгах Н. А. Соколова и генерала Дитерихса62, в котором упоминается без всякой, казалось бы, необходимой проверки и моя фамилия.
В книге генерала Дитерихса лакей Волков рассказывает так: «Нарышкин, Мордвинов и Лейхтенбергский были в поезде государя, когда Его Величество приехал в Царское Село после отречения. Приехав во дворец, государь спросил меня про Лейхтенбергского и Мордвинова: «Приехали ли они?» Я побежал и спросил об этом Бенкендорфа, Бенкендорф мне сказал: «Не приехали и не приедут». Я передал его слова государю. Он не подал никакого вида, а только сказал: «Хорошо».
А Мордвинов был одним из любимых государем флигель-адъютантов…»63
Утверждение Волкова, что я находился якобы в поезде государя и доехал в нем до Царского Села, совершенно не верно: меня в тот день в императорском поезде не было.
Как уже подробно и с полной искренностью точно изложено в моих воспоминаниях выше, я в те дни оставался в Ставке, убежденный в полном одобрении на то самого государя.
Я не поехал тогда поэтому и к своей собственной встревоженной семье.
Но в остальном рассказ Волкова, видимо, правдив.
Это ужасное недоразумение, возможное лишь в те, полные всеобщего замешательства дни, тяжело ложится на мое сознание.
Оно может объясняться только одним: мой дорогой государь, будучи сильно угнетен и, вероятно, занятый другими мыслями, не только не заметил моего отсутствия в его поезде, но и совершенно забыл, по приезде во дворец, мой последний, ставший прощальным, с ним разговор в Ставке.
Судя по собственным словам Его Величества, сказанным им графу Бенкендорфу через месяц после отречения, он «только тогда начал понемногу приходить в себя.
Во время же событий в Пскове, в Могилеве и в пути он находился почти в полном забытьи и каком-то тумане…»
Вероятно, вскоре затем государь все-таки вспомнил о моем последнем свидании с ним в Могилеве, иначе я не был бы обрадован получением двух милых дружеских писем от великих княжон уже после возвращения Его Величества в Александровский дворец. В них великие княжны даже не спрашивали, почему я остался в Ставке, вероятно, уже зная об этом от своего отца. Они писали и моей дочери, передавая ей поклоны от «папа и мама».
А я как сейчас слышу слова Его Величества, сказанные мне в тяжелые минуты, с сильным ударением на слове «конечно»: «Конечно, оставайтесь, Мордвинов», и как сейчас ощущаю его крепкий, прощальный, будто надолго, поцелуй.
Мне ли забыть эти мгновения и не запомнить даже звук его тогдашних слов!!!
* * *
Я много думал впоследствии об обстоятельствах, при которых государь мог узнать о «постановлении», лишавшем его свободы…
От кого и когда он узнал об этом впервые?
Оживляя в своей памяти картину минувших дней, какой она успела запечатлеться во мне, вплоть до переживания тогдашних настроений, я приходил лишь к одному выводу, что очень неопределенное предупреждение об аресте, вернее, намек государь мог получить только непосредственно от одного генерала Алексеева, и притом в самую последнюю минуту при отъезде в Царское Село, когда Его Величество, простясь со своей матушкой, находился уже у себя в вагоне, а поезд готовился к отправлению.
Я думал об этом последнем обстоятельстве с особенным волнением – ведь даже такая весть, сообщенная своевременно, могла стать спасительной: предупрежденный заранее, государь мог, если бы не пожелал остаться в Ставке, направить свой путь не в захлопывавшуюся уже темницу Александровского дворца, а в другое место, к другим, более достойным людям…
Граница союзной Румынии от Ставки была даже ближе, чем далекий Мурманск с его дальнейшим морским переездом, с немецкими подводными лодками по пути.
Представитель полуправославной Румынии в Ставке генерал-адъютант короля Коанда был сердечно привязан к государю; на румынском фронте находился и генерал Сахаров, первая часть телеграммы которого ясно говорила, какой заботливый прием там можно было бы у него встретить.
По пути именно туда легко было найти приют у большинства оставшихся еще верными войск, гордившихся бы оказанным им доверием…
Сколько раз мне приходилось потом выслушивать от многих командиров корпусов, начальников дивизий, командиров полков убежденные заявления, что «…у них-то уж наверное государь нашел бы надежную защиту».
Но не только среди русских войск – среди любой губернии, уезда или глухого угла нашей тогдашней Родины государь мог бы найти безопасное пребывание.
Несомненно, и у нас повторился бы случай, имевший место в 1846 году в Австрии, когда удалившемуся из взбунтовавшейся столицы, даже не особенно любимому императору со всех концов страны предлагалось гостеприимство и убежище.
Наконец, это были все еще те последние дни, когда у государя, несмотря на отречение, еще продолжали, вероятно, по привычке, почтительно спрашивать о его намерениях и не менее почтительно осведомляться: «Куда и когда Его Величество изволит поехать?» В эти же дни своего пребывания в Ставке государь мог свободно ездить в автомобиле, куда ему было угодно, без всякого надзора.
К сожалению, я мог думать о таких возможностях лишь впоследствии; вероятно, не строил таких предположений и сам государь: он был слишком озабочен положением своей семьи и стремился лишь соединиться с нею, да и вряд ли мог в том состоянии, в каком находился, вникнуть в смысл весьма осторожных и неопределенных намеков генерала Алексеева.
Кроме того, он не верил, что предательство по отношению к нему, ставшему бессильным, будет все еще продолжаться. Прощаясь с войсками, он призывал не только их, но и свою свиту повиноваться Временному правительству; он шел открыто навстречу новой власти, стараясь облегчить ее положение. Какое зло и за что даже эти люди могли бы на него теперь замышлять? Но благородство жертвы редко находит отклик в людях, совершивших преступления и отовсюду боящихся возмездия. В своем страхе они не знают границ и даже не останавливаются перед арестом малых детей…
Все же, повторяю, даже эти последние минуты, протекшие после предупреждения Алексеева, не исключали у государя еще возможности защитить себя от этого грубого насилия. Можно было и тогда переменить по своему приказанию путь следования, и если не оставаться в Ставке, то снова перейти в стоявший тут же рядом наготове поезд императрицы-матери и проследовать в нем через Киев на юг.
Генерал Алексеев и Ставка были еще в то время не бессильны, а при их желании и содействии что могли сделать те 3–4 делегата, приехавших «заботливо охранять императорский поезд от возможных случайностей»!
Были поэтому, конечно, и другие возможности, более или менее легкие для исполнения при тогдашнем всеобщем замешательстве и еще не совсем исчезнувшем значении даже отрекшегося императора; но не было у государя лишь одной, самой для него главной и необходимой: вырвать одновременно из цепких рук Временного правительства императрицу и больных детей, находившихся в Царском Селе уже в качестве заложников.
Сколько раз в те дни, да и потом, я проклинал в цепи несчастных обстоятельств обстоятельство, заставившее государя отклонить самоотверженное, ввиду болезни детей, намерение императрицы выехать нам навстречу, чтобы соединиться с нами где-нибудь в пути, при нашем тогдашнем отъезде 28 февраля из Могилева. Чуткое сердце любящей женщины и русской императрицы подсказывало ей тогда самое верное и, как оказалось, самое необходимое решение. Ведь находись императрица в дни Пскова, в качестве опоры, около государя, отречения от престола, конечно, не было бы, как не было бы и всего того, что за этим отречением последовало…
Только в середине июля 1926 года, прочитав брошюру генерала Тихменева, я узнал более точно, при каких обстоятельствах последовало распоряжение из Петрограда об аресте государя.
Вот что Н. М. Тихменев рассказывает64:
«Вечером 7 марта, на четвертый день пребывания в Ставке государя, вошел ко мне в кабинет генерал К. (Кислянов). Толстый, грузный, жирный, рыжий, с широким бледным лицом, молодой, способный и талантливый, но весьма шаткий человек, он занимал в Ставке должность высшего представителя министерства путей сообщения, имея свое начальство в Петрограде, в лице министра, тогда инженера Бубликова. По взволнованному и недоумевающему лицу К. я увидел, что случилось что-то особенное.
– Я пришел к вам по-дружески, за советом, – сказал он мне. – Вот я только что получил шифрованную телеграмму от Бубликова с известием, что завтра утром приедут в Могилев 4 члена Государственной Думы, для того чтобы арестовать государя и отвезти его в Петроград.
Мне воспрещается осведомлять кого-либо об этом и приказано приготовить секретно поезда и паровозы. Так вот, я и не знаю, что делать.
– Видите ли, – ответил я ему, – если вы должны были держать все это в секрете и никому не говорить, а пришли ко мне за советом, то вот мой совет: немедленно поезжайте к Алексееву.
– Да как же, ведь телеграмма секретная?
– Да понимаете вы сами, что надо предупредить. Ну, скажите Алексееву, что телеграмма секретная, а он уж сумеет с этим секретом распорядиться.
К. уехал. Позже я узнал, что, когда он в разговоре с Алексеевым стал напирать на секретность, тот его оборвал, сказав, что «сам знает, что делать».
Но, к сожалению, генерал Алексеев поступил лишь так, как у меня изложено выше. Все же хочется верить, что, быть может у него, презиравшего солдатским сердцем низость Временного правительства, мелькали не раз в ту ночь мысли о возможности избавления от тюрьмы своего бессильного императора, и только убеждение, что при тогдашних обстоятельствах государю была дороже семья, чем свобода, заставило его отнестись к полученному в секрете от него распоряжению с таким бездействием и наружным равнодушием…
В тот же день 8 марта, почти в те же часы, когда государь прощался в Ставке с чинами штаба, объявили в Царском Селе императрице о ее аресте.
Привез это удивительное «распоряжение» Временного правительства в Александровский дворец командовавший тогда войсками Петербургского округа генерал Корнилов.
Впоследствии, со слов графа Бенкендорфа[16]16
Графа Бенкендорфа я посещал несколько раз во время моих скрываний на его частной квартире в Петрограде, куда он переселился из Царскосельского дворца.
Он уже хлопотал о выезде в Эстонию, откуда был родом, и получил на это разрешение.
Большевики все же выпускали его с большой неохотой и с возмутительными придирками. Раз даже выбросили из вагона уже погруженный в поезд его багаж.
Он скончался во время пути, совсем близко от границы, кажется, в Ямбурге.
Удивительно уравновешенный, владеющий собою человек, граф Бенкендорф и в те ужасные дни сохранил полное, мне даже казалось, слишком холодное самообладание.
Какими-то путями до него дошло несколько номеров «Illustration», в которых P. Guilliard (Пьер Жильяр. – О. Б.) впервые начал печатать о своем пребывании в Сибири65. Иллюзий, казалось, у нас не должно было бы существовать никаких, но не только я и графиня, но даже и он (Бенкендорф. – О. Б.), мы все же иногда продолжали на что-то надеяться – уже в те дни появилось столько рассказов о спасении!
Все эти рассказы я проверял в течение последующих годов до самых мельчайших подробностей, с постоянно волнующим чувством надежды.
Их накопилось у меня к началу 1932 года более 360 версий.
Все они оказались в конце концов неверными или даже нарочно распространенными.
Но на их месте возникают и могут еще появляться новые, и своим упорным стремлением найти в них что-нибудь более утешительное я не вижу конца… Впрочем, это уже слишком лирическое, не нужное никому отступление…
[Закрыть], мне стали известны подробности этого тяжелого события.
Корнилов появился у них во дворце около 10 часов утра (8 марта. – О. Б.).
Сначала он предупредил об аресте государыни графа Бенкендорфа, а затем направился вместе с ним к самой императрице, которой и прочел громким голосом, в присутствии лишь Бенкендорфа и графа Апраксина, «постановление», столь достойное новой власти66.
Таким образом, напечатанный рассказ «очевидца» – одного из офицеров сводного полка – о том, что объявление об аресте произошло якобы в поздние, почти ночные часы в присутствии многочисленных свидетелей, как и некоторые подробности этого события, как будто не соответствовали действительности.
По словам графа Бенкендорфа, как во время разговора с ним, так и во время беседы с государыней Корнилов держал себя вполне корректно.
Он настойчиво уверял их обоих – видимо, будучи в том и сам убежден, – что этот арест является ничем иным, как только предупредительной мерой, необходимой якобы для безопасности царской семьи, а также и для того, чтобы дать удовлетворение крайним революционерам и тем помешать им прибегнуть к насильственным действиям!!!
Он уверил также, что продолжительность ареста зависит исключительно от состояния здоровья царских детей и что английский крейсер уже ожидает их в Мурманске, чтобы отвезти всю семью в Англию.
Бенкендорф тогда настойчиво предложил императрице сейчас ее начать готовиться к отъезду, и они действительно стали уже укладывать свои вещи.
Увы, Корнилов, хотя не монархист, очень любивший императрицу, все же, вероятно, невольно вводил и себя, и других в жестокое заблуждение.
Никакого английского крейсера не находилось тогда в Романове67.
Несмотря на ясную необходимость немедленного спасения, об этом шли какие-то вялые, лишь «между прочим» длительные дипломатические переговоры.
Они тянулись с марта по июль 1917 года, и, как все у этого Временного правительства, выражалось и тут лишь словами, туманными намерениями, а не поступками. Об этих переговорах пространно рассказывают в послевоенной печати сами их участники как с русской, так и с английской стороны, оправдывая, по обыкновению, себя и обвиняя других.
Несмотря на многие противоречия и желания заменить истину, все же из этих свидетельств ясно одно: Керенский, безусловно, искренно желал вывезти царскую семью в Англию, но она не была отправлена за границу исключительно из-за отказа в гостеприимстве главы тогдашнего английского правительства Ллойд Джорджа.
Таким образом, даже у русских революционеров, как это ни странно, оказалось на этот раз больше сердца и благородства, чем у этого корректного «либерального» деятеля.
Я убежден, что английское население ему этого не забудет, а русское никогда ему не простит…
Из-за бесчеловечного, ни на чем не основанного отказа в гостеприимстве затем последовала в августе «охранительная» поездка в Сибирь.
По словам, неоднократно сказанным Керенским графу Бенкендорфу, эта сибирская ссылка тоже не должна была длиться более 3–4 месяцев.
Он утверждал, что в конце ноября 1917 года, по закрытии работ Учредительного собрания, ничто не будет мешать Их Величествам возвратиться в Царское Село или куда они пожелают…
Знаменитое «русское» Учредительное собрание действительно открылось революционером Черновым, но было быстро разогнано, как уверяли, одним вооруженным матросом, а дальнейшее, как, впрочем, бывшее и ранее, уже никакому преступлению помешать не могло68…
* * *
Один из очевидцев, находившихся в те дни в Пскове, а затем и в Ставке, но не бывший в нашем императорском поезде, в своих напечатанных воспоминаниях упоминает и о тогдашних настроениях лиц свиты, сопровождавших государя в этой последней поездке.
Его рассказ, в общем, верен и, пожалуй, справедлив, насколько могут быть верны, глубоки и справедливы мимолетные впечатления человека, в свою очередь не менее, а скорее более других потрясенного внезапным несчастием.
Вот почему мне думается, что не только ему, но и никому другому не следовало бы говорить с такою уверенностью о двух моих сослуживцах по свите, которые, по его словам, «особенно сильно волновались лишь из-за будущего для себя».
Я лично, находясь в постоянном общении с ними, далеко не вынес такого впечатления.
И они, как и упомянутый наблюдатель, были одинаково со всеми остальными удручены неожиданным известием и, как все мы, в первые часы были довольно сильно раздражены на государя – именно потому, что любили и были ему искренно преданны, – за его, как нам казалось, столь поспешное отречение.
Но ни это раздражение, ни высказывавшиеся порою горькие упреки отнюдь не имели, как я ясно чувствовал, отголоска чего-либо личного, особенно себялюбивого, или возбуждения от внезапно рухнувшей карьеры.
Родина, беспокойство за государя и его семью, опасения за исход войны, полное презрение к Временному правительству, ожидаемый всеобщий развал – вот что одинаково со всеми остальными высказывалось совершенно искренне и этими «заподозренными», и, быть может, с этим главным волнением о грядущем «несчастии всех» могли невольно связываться и личные опасения за свое будущее, но лишь как частицы этих всех.
Каждый из нас, вероятно, переживал нахлынувшие события по-своему, с оттенком, присущим его характеру, но то общее, невыразимо тяжелое, что одинаково чувствовалось нами всеми и что так сплоченно нам тогда пришлось переживать вместе, наполняет меня до сих пор особенно теплым чувством к моим тогдашним спутникам по этой поездке.
К некоторым из них я относился ранее совсем равнодушно, многих любил, но с тех дней эта разница почти исчезла.
Я ко всем отношусь теперь почти с одинаковой привязанностью: дни совместно перенесенного горя сближают сильнее, чем годы радости.
Двух из моих товарищей по тогдашней свите – адмирала К. Д. Нилова и Вали Долгорукова – уже нет более в живых, и память о них, как горячо любивших государя и Родину людей, навсегда сохранится в моем сердце.
Остальные – граф Фредерикс, В. Н. Воейков, граф А. Н. Граббе, К. А. Нарышкин, профессор С. П. Федоров и герцог Лейхтенбергский – живут разбросанными в неизвестном мне пространстве мира, но и к ним очень часто обращается моя память.
О многих из них мне приходилось слышать не раз очень поспешные, пристрастные отзывы.
Я должен сознаться, что такие суждения меня наполняли не только чувством горечи, но и глубокой обиды за них.
Я постоянно чувствовал, а отчасти и твердо знал, что их судили главным образом те, кто в тогдашние дни должен был бы поглубже вдуматься в свои собственные поступки и речи и сильнее, чем кто-либо другой, сознавать все благородство, величие и особую спасительность для них слов: «Не судите, да не судимы будете».
Особенно часто в различных обвинениях и упреках упоминалось также имя графа Граббе, прежде всего за его тогдашнее якобы бездействие.
Он был командиром конвоя Его Величества, и с отречением государя его положение было довольно сложно.
В те первые два-три дня у него являлось два императора, императрица Александра Федоровна и государыня-мать, разделенные все четверо большим пространством, которых его воинский долг и присяга повелевали ему охранять.
Положение вновь вступавшего на престол государя Михаила Александровича, находившегося сначала в Гатчине, а затем в бунтующем Петрограде без всякой охраны и конвоя, очень тревожило Граббе. Он неоднократно высказывал свои опасения по пути из Пскова в Могилев и намеревался по приезде в Ставку отправить немедленно одну сотню конвоя в Петроград для охраны Михаила Александровича, а самому с одной сотней оставаться в Могилеве при государе, где была еще одна рота собственного Его Величества сводного полка.
Государь тогда еще был окружен достаточным наружным вниманием и должной охраной. Ожидать каких-либо буйств со стороны ничтожного могилевского гарнизона или местных, в громадном большинстве преданных государю жителей города не было оснований.
Опасность для государя подкрадывалась не оттуда, а со стороны далекого Временного правительства, с такой почтительностью осведомлявшегося «о дальнейших намерениях Его Величества» и заявлявшего затем за своей подписью, что оно «предоставит бывшему императору беспрепятственное следование в Царское Село, а оттуда за границу».
Мысль о злобном коварстве даже этих злобно-враждебных людей не могла прийти в голову никому. С такой неощутимой хитростью было трудно бороться не только конвою, но и % русского народа.
В этом отношении положение верной швейцарской гвардии, перебитой при защите короля во время Французской революции, было ясно и просто69.
Она имела дело с явными врагами и резкими проявлениями буйства; у нас в Могилеве и Пскове бороться с оружием в руках было пока еще не с кем. Там текла по виду почти обычная жизнь, не вызывавшая даже особой необходимости усиления вокруг дворца или императорского поезда обычных караульных постов.
Змея предательства и в те дни походила на индийскую кобру – ее замечают, как говорят, только тогда, когда она уже смертельно укусила.
Думая с неописанно гадливым чувством о поступке Временного правительства по отношению к бессильному государю, я с не меньшим ужасом думаю не столько о решимости этих людей, сколько о той легкости, вернее, простоте, с которой подобное тайное «постановление» удалось самозваному правительству привести в исполнение.
Ведь, отдавая такое распоряжение в Ставку, эти люди были уверены, что их распоряжение, переданное по телеграфу издалека или привезенное четырьмя невооруженными штатскими, будет на месте непременно исполнено, что их покорно послушается не только все начальство Ставки, но и войска могилевского гарнизона с конвоем Его Величества и испытанными людьми сводного полка во главе.
Если у них, ослепленных своим петроградским могуществом, и существовало такое убеждение, то эти отборные войска телохранителей, конечно, не только могли, но и должны были бы их не послушаться: присяга Временному правительству была принесена только на другой день по отъезде государя.
По всем данным, насколько я мог убедиться, они действительно и не послушались бы, несмотря на прощальный призыв государя, если бы постановление об ареста царя стало им и их начальству известно не по отправлении императорского поезда, а хотя бы за час до этого времени.
Глубочайшая тайна и обман предназначались не только для этих войск, но и для остальных верных людей в Могилеве.
Положение через несколько часов, конечно, изменилось. Весть о лишении свободы государя, хотя и в виде смутных слухов, должна была дойти и до этих преданных людей и должна была взволновать их необычайно.
Отчего же они не бросились тогда сейчас же, захватив первый попавшийся паровоз, вслед уходившему поезду, чтобы по дороге или даже в Царском Селе, несмотря на свою малочисленность, попытаться хоть этой частицей верного народа сложить свою жизнь за освобождение государя, так их любившего и хотя снявшего с себя царский сан, но не снявшего с себя святого миропомазания?
Отчего и остальной народ, не перестававший искренно чтить своего царя, не поднялся одновременно на его защиту?
Отчего?!. Вот вопрос, который, несмотря на ясность многих причин, я знаю, навсегда тяжело ляжет на совесть громадного большинства русских людей, как бы ни облегчалось у них это сознание думами: что государь ведь сам просил повиноваться самозваному Временному правительству и думать не о нем, а о защите Родины…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































