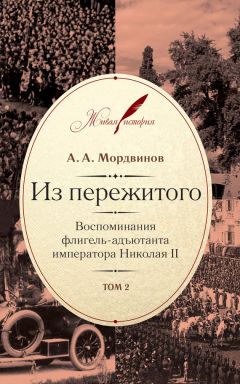
Автор книги: Анатолий Мордвинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Это убеждение я лично слышал от него, следуя с ним в одном автомобиле за государем на вокзале при нашем отъезде из Могилева, и я вынес впечатление, что это же убеждение не покидало его и по приезде в Псков, вплоть до разговора государя с «тремя генералами».
Имел ли он возможность передать с известной силой это свое мнение государю еще до подписания телеграммы об отречении – я не знаю; но если да, то благодаря такой возможности ему одному удалось бы в те минуты и часы исполнить свой долг перед Его Величеством и Родиной.
Мне кажется, что возмущавшее некоторых спокойное развешивание картинок в купе перед Рузским было умышленным – показным пренебрежением к разыгравшимся событиям, желанием нагляднее показать, что раз он, дворцовый комендант, спокоен, значит, и Рузскому не следует столичному бунту придавать чрезмерное значение.
Человеку с другим характером, пользовавшемуся большими симпатиями, это, пожалуй, более бы и удалось. Ведь мы знали, что ему по его должности многие карты в закулисной игре «революции» были открыты.
Но его обычная скрытность, далеко выходившая за пределы необходимости, и всегдашнее нежелание искренне делиться с нами своими заботами и тревогами сыграли в данном случае и для него, и для нас очень плохую роль.
И если он лично, а также и граф Фредерикс знали уже до вторичного прихода генерала Рузского с двумя генералами 2 марта, что вопрос идет уже об отречении, и не сочли нужным об этом нас предупредить, то этим они лишили нас последнего утешения и возможности всем сообща явиться к государю и умолять его отклонить домогательства лишь одного Петрограда и нескольких генералов, возмущавших нас до глубины души.
Но и для графа Фредерикса, как и для Воейкова, состоявшееся отречение явилось, видимо, таким же неожиданным, как и для нас.
К нашему отчаянию, как я сказал выше, мы об этом узнали слишком поздно – телеграммы были подписаны без нас и находились в руках Рузского.
Правда, свите, в том числе и Воейкову и графу Фредериксу, удалось оттянуть посылку роковых телеграмм до вечера, в надежде, что, как казалось нам, «веские доводы» Шульгина непременно придут к нам на помощь. Эти доводы пришли на помощь не нам, а другим…
Пусть об этом судит история и русский народ, принимая, однако, во внимание, что в те дни лживое слово вызвало растерянность и лживые представления не только у мирных штатских обывателей, но и у генералов, награжденных русскими крестами за храбрость…
Базили был принят государем, оставался у Его Величества недолго, и после короткой остановки в Орше поезд двинулся далее.
Не помню, на какой-то станции, недалеко от Могилева, ко мне в купе пришел встревоженный мой старик Лукзен и предупредил меня, что он слышал на вокзале, как какие-то, вероятно, прибывшие из Петрограда, солдаты рассказывали, что получено распоряжение немедленно по прибытии в Могилев арестовать весь императорский поезд и всех нас отправить в тюрьму.
Я его успокоил как мог, говоря, «что не всякому слуху надо верить» и что он скоро и сам увидит, что все это выдумки; но некоторые сомнения все же не переставали тревожить меня.
К Могилеву императорский поезд подошел немного позже 8 часов вечера.
На платформе вместо ареста и тюрьмы – обычная встреча, даже более многочисленная, более торжественная, чем всегда.
Прибыли и все иностранные военные представители в полном составе миссий, обыкновенно отсутствовавших в таких случаях.
Помню, француз генерал Жанен и бельгиец барон де Риккель молча, но особенно сильно и сердечно, как бы сочувствуя и угадывая мое настроение, пожали мне руку, как и серб полковник Лонткевич, видимо, взволнованный более других.
Остальные также находились в подавленном состоянии, и мне показалось, что чувство, быть может, более сложное, чем простое любопытство, привело этих людей на вокзал в таком необычном количестве. Каждый из них, как иностранец, так и русский, вероятно, думал и переживал события по-своему, но что-то, уже общее, более хорошее, высокое, человеческое, уже успевшее совсем отойти от политики, сказывалось в особой сосредоточенности и даже подчеркнутой почтительности при этой встрече.
Было ли в этом настроении уже начинающееся раскаяние в прежних измышлениях, прорывавшийся уже тогда страх перед будущим или только простое сожаление обо всем свершившемся, столь и так недавно желанном для многих, – я, конечно, не знаю.
В безлюдном Пскове мне такие мысли даже не приходили на ум.
Но почему они могли промелькнуть у меня именно здесь, так неожиданно, на могилевском вокзале, и внести с собою даже что-то похожее на горькое удовлетворение? В те минуты, каюсь, я не разбирался ни в правых, ни в виноватых. Я считал всех и вся, повинных как в клевете, так и в безумной игре в какой-то переворот, вызвавшей отречение. «Ну что?! Дождались?! Доигрались?!» – сказал я только эти презрительные слова обступившим меня тогда офицерам Ставки и отошел от них в сторону.
Государь спокойно спустился из своего вагона, молча, холодно поздоровался с Алексеевым и, обойдя, подавая руку, всех собравшихся, вернулся в свой вагон, куда для короткого доклада вошел вслед за Его Величеством и генерал Алексеев.
Было решено сначала, что мы останемся и будем жить в поезде, но после обеда вышла почему-то перемена: подали автомобили, Его Величество сел с графом Фредериксом и уехал в губернаторский дом, а мы, собрав свои вещи, двинулись по пустынным улицам вслед за ними.
В помещении верховного главнокомандующего было все по-прежнему, как и четыре дня назад…
Но я не стал дожидаться вечернего чая и ушел к себе: мне хотелось быть одному…
* * *
Этим же днем, 3 марта 1917 года, помечена и записка, писанная рукою государя и попавшая в числе других документов Ставки в руки большевиков.
Сведения о ней появились в газетной печати лишь в конце 1923 г.
В этой записке, составленной, вероятно, для памяти, в пути, после моего разговора с Его Величеством во время прогулки на станции о скорейшем отъезде за границу, государь писал:
«Потребовать от Временного правительства гарантий:
1) в беспрепятственном моем следовании с лицами, при мне находящимися, в Царское Село;
2) в беспрепятственном моем пребывании с теми же лицами в Царском Селе на время болезни детей;
3) в беспрепятственном следовании моем затем через Романов на Мурманске за границу, с теми же лицами;
4) по окончании войны в возвращении моем в Россию для жительства в Ливадии»37.
Об этих своих как будто уже тогда созревших решениях государь, к сожалению, ни в тот день, ни во все последующие дни не обмолвился со своей ближайшей свитой не только ни одним словом, но даже и намеком.
Узнал я о них лишь случайно, здесь, за границей, в 1925 году!
Вероятно, по приезде в Могилев государь передал эту записку генералу Алексееву для передачи его требований Временному правительству, что тот, надо думать, и исполнил38.
По всем данным, именно ответом на эту записку и была та телеграмма князя Львова, в которой он незадолго до отъезда государя из Могилева уведомлял Ставку: «Что Временное правительство постановило разрешить бывшему императору беспрепятственный проезд до Царского Села для пребывания там и для дальнейшего следования на Мурманск»39.
Во что превратилось это «разрешение» – всем известно!!!
* * *
Утром, в субботу 4 марта, после бессонной кошмарной ночи, в которой на этот раз опасения за судьбу моей семьи играли уже немалую роль, я отправился, как всегда, в губернаторский дом к утреннему чаю.
Государь уже был в столовой, немного бледный, но приветливый, наружно спокойный, как всегда. От Его Величества мы узнали, что в этот день прибывает в Могилев вдовствующая императрица Мария Федоровна и что поезд ожидается перед завтраком около 12 часов.
Что делается в Петрограде и остальной России, мы не знали; утренних агентских телеграмм ни нам, ни государю больше уж не представляли.
На мой вопрос днем по поводу этого обстоятельства кто-то из офицеров штаба мне ответил, что это делается нарочно, по приказанию начальника штаба, так как известия из Петрограда были настолько тягостны, а выражения и слова настолько возмутительны, что генерал Алексеев не решался волновать ими напрасно государя.
Но мы все же узнали, что зараза из Петрограда начала уже охватывать не только Москву, но и некоторые другие города и что окончательно сформировалось Временное правительство, в котором Керенский был назначен министром юстиции.
Помню, что последнее известие меня, подавленного и ничему более не удивлявшегося, даже вывело из себя: человеку, надругавшемуся в эти дни сильнее всех над нашим основным законом, вручали самое главное попечение о нем. К тому же Керенский в наших глазах являлся одним из самых злобных, наиболее революционно настроенных членов тогдашней Думы.
* * *
Мог ли я тогда предполагать, что через каких-нибудь два месяца мне придется, во имя справедливости, отнестись к этому же человеку даже с чувством некоторой признательности и лично простить ему многое за его хотя и слишком поздно, но все же искренно проявленные не только уважение, но, видимо, и начинавшуюся теплоту в обращении к моему государю и его семье.
По словам многих лиц, Керенский очень близко принимал к сердцу судьбу арестованной царской семьи и старался «делать что мог» для ее облегчения. Говорили также, что императрица после свидания с ним отзывалась о нем с хорошим чувством; насколько это верно, я не знаю40.
Его зять, полковник Барановский, рассказывал своим сослуживцам по Ставке, передавшим впоследствии это мне, как однажды, в поезде, будучи уже во главе «правительства», Керенский «как исступленный» бегал по коридору вагона, «хватал себя за голову и в неописанной тревоге выкрикивал: «Нет! их убьют! их убьют! их надо спасти во что бы то ни стало!»
Его возбуждение было на этот раз совершенно искренним, представляться по обычаю не было надобности ни перед кем, так как в вагоне, кроме Барановского и его, никого не было.
Такое отношение, конечно, являлось логическим последствием того более близкого соприкосновения с государем, которое было даровано Керенскому в назидание судьбой.
Не только его, но и других, еще более предвзято относившихся людей благородство души государя заставляло отдавать ему должное и считать себя глубоко виноватыми перед Ним…
* * *
Я в этот день был снова дежурным при Его императорском Величестве. Государь сейчас же после чая направился, как и до отречения, в штаб, к генералу Алексееву. Сопровождал я один; дворцового коменданта на этот раз не было.
За те несколько шагов, которые приходилось сделать от губернаторского дома до помещения генерал-квартирмейстерской части, я успел только спросить у государя, нет ли известий из Царского Села, и Его Величество ответил, что, к сожалению, пока нет, но что он все же надеется получить, так как уже и сам послал телеграмму.
Кажется, государю удалось вечером все же сказать императрице несколько слов по телефону, соединявшему губернаторский дом с Александровским дворцом. А может быть, это было только наше предположение, запомнившееся лишь из разговоров с товарищами по свите, так как государь не любил разговаривать по телефону и пользовался им лишь в исключительных случаях, а в те дни он знал, что его разговор будет подслушан другими…
Его Величество, встреченный генералом Алексеевым на площадке лестницы, как всегда, прошел к нему, а я остался в соседнем помещении, ожидая обратного выхода.
Ко мне подошли некоторые из более знакомых молодых офицеров штаба и, вероятно, понимая мое состояние, с чуткой сердечностью стали расспрашивать о событиях последних дней.
Видимо, и для них – для этих, с которыми я говорил, – весть об отречении, далеко не такая внезапная и ошеломляющая, как для меня, была не менее мрачной, чреватой тяжелыми последствиями, и я сразу почувствовал к ним доверие и признательность.
Вообще ни радости, ни ликования или какого-либо удовлетворения при мне высказано не было как в тот день, так и потом, во время дальнейшего пребывания Его Величества в Ставке.
Только изредка я мог чувствовать на себе довольно ясно выраженное ироническое злорадство немногих генералов. «Кончилось ваше царство, – говорили их лица, но все же не слова, – теперь пришел наш черед!»
Не помню, кто из говоривших молодых офицеров отвел меня в сторону и озабоченно, как мне показалось, даже сочувственно сказал: «Знаете что, здесь, в Ставке, царит сильное возбуждение против Фредерикса и Воейкова, в особенности против Воейкова – его считают виновником всего, и мы опасаемся, чтобы дело не кончилось для него очень и очень скверно; посоветуйте ему возможно скорее уехать из Могилева, а то будет поздно, и его не спасет даже присутствие государя, а только вызовет излишнее раздражение здешней толпы против Его Величества. Во всяком случае, арест его уже предрешен…»
При этих словах государь вышел от Алексеева и, зайдя на несколько минут в губернаторский дом, сел затем вместе с графом Фредериксом в автомобиль, и мы направились на вокзал для встречи прибывающей императрицы Марии Федоровны.
Я как дежурный ехал на автомобиле вместе с Воейковым.
Вспоминаю, как я волновался за него и как мне было тяжело передавать ему то, что я только что слышал.
Но мое предупреждение его могло спасти и оберечь моего государя от многого излишнего и тяжелого, и после некоторых колебаний, уже на середине дороги, я начал:
– Владимир Николаевич, только что в штабе люди, видимо, искренно беспокоящиеся за вашу судьбу, просили меня предупредить вас, что решено вас арестовать, и посоветовать вам возможно скорее уехать из Ставки. Действительно, может быть, это будет и лучше: ведь, арестованный, какую пользу принесете вы государю? Я знаю, Его Величество заступится за вас, но вы видите, что творится? Вам Алексеев ничего не намекал?
Бедный Воейков был очень угнетен, и мое предупреждение, видимо, его не поразило.
Он ничего не ответил на мой последний вопрос и как-то задумчиво спросил:
– Уехать? Хорошо! Но куда? И как?
– Поезжайте пока к себе, в Пензенскую губернию41; я думаю, окружным путем туда еще можно пробраться – ведь не везде творится петроградский ад; поговорите с Его Величеством и поезжайте!
Воейков задумался, и мы молча доехали до вокзала.
Через несколько минут показался поезд императрицы, остановившийся на месте обычной остановки императорских поездов.
Государь вошел в вагон матери и вскоре вышел оттуда вместе с Ее Величеством.
Обойдя всех немногих присутствовавших, Их Величества прошли в деревянный, пустой, грязный железнодорожный сарайчик, находившийся напротив остановки поезда, где и оставались очень долго.
Вероятно, лишь непреодолимое желание сейчас же остаться наедине заставило их войти в эту первую попавшуюся на глаза будку.
С государыней прибыл только великий князь Александр Михайлович, живший также в Киеве, и ее свита: графиня Менгден, князь Шервашидзе и князь Сергей Долгоруков.
Ожидавшаяся мною с таким нетерпением и волнением, лучший друг нашей семьи, моя горячо любимая великая княгиня Ольга Александровна с этим поездом не приехала; ее, кажется, не было в эти дни в Киеве. Отсутствие Ольги Александровны сказалось на мне самым тоскливым, тяжелым разочарованием; я так надеялся на ее приезд и для себя, и для государя, зная ее искреннюю и горячую привязанность к своему брату, любившему ее, в свою очередь, как я чувствовал, не менее сильно.
Князя Шервашидзе я знал долгие годы, еще с первого дня вступления его в должность состоявшего при императрице-матери.
Нас соединяла не только совместная служба под одной дворцовой кровлей (Михаил Александрович, при котором я долго был единственным адъютантом, жил до 1910 года совместно с матерью), но и наша общая страсть к старине, к историческим исследованиям и собиранию портретов, миниатюр и гравюр.
Князь Шервашидзе был большой оригинал, очень начитан, наблюдателен, отличался большою находчивостью в затруднительных случаях и весьма своеобразно мыслил и говорил о разных исторических событиях.
Графиню Менгден я тоже давно и хорошо знал, и приезд их обоих, помню, меня очень тогда облегчил – я почувствовал себя менее одиноким; с ними я более успел сжиться, чем с обширной свитой государя, к которой я принадлежал только 6 последних лет.
Великого князя Александра Михайловича я знал тоже довольно близко, так как мне приходилось подолгу гостить у него в Ай-Тодоре. Ко мне он относился добродушно, немного иронически и, вероятно, во многом меня не понимал.
Увидев меня, Шервашидзе сейчас же направился ко мне, и я как сейчас вижу его растерянно-удивленное лицо.
Он отвел меня в сторону и недоумевающе-возбужденно начал укорять.
– Что вы там, в Пскове, наделали?!! Что наделали?!! – говорил он, качая головой.
– Мы-то ничего не наделали. Вы спросите лучше, что с нами наделали, – ответил я и в кратких словах объяснил ему, как все произошло и с какой внезапностью и на нас самих обрушились последние события.
Он изумлялся все более и более и, как и я, негодовал на поспешность отречения.
Государь и императрица оставались в бараке очень долго, как мне показалось, уже более получаса. Был сильный морозный ветер, и, чтобы согреться, мы с князем вошли в сколоченную из досок пристройку к бараку, где топилось подобие печи; около нее сидели какие-то дети.
Они обернулись, когда мы вошли, и вдруг радостно узнали меня.
Это были дети путевого рабочего, которых успели уже полюбить великие княжны во время своих наездов в Могилев и которые сами успели привязаться к неизвестным «барышням» – игравшим с ними и заботившимся об их здоровье и одежде.
Подобные пустяки, о которых в другое время, конечно, не стоило бы и вспоминать, меня вывели окончательно из равновесия; у меня больно защемило сердце от ничтожного напоминания о дочерях того, кто за досками этого барака должен вновь переживать свою душевную драму, делясь ею со своею матерью[11]11
Великий князь Александр Михайлович, рассказывая в своих воспоминаниях о приезде императрицы-матери в Могилев, не совсем точно передает подробности этого свидания на вокзале. Оно длилось не два часа, а всего около 40 минут, и происходило не в вагоне императрицы, а в этом железнодорожном сарайчике.
[Закрыть]…
Вскоре Их Величества вышли из барака – государыня со своей обычной приветливой, доброй улыбкой, государь также наружно совершенно спокойный и ровный.
Все разместились в автомобиле и поехали в губернаторский дом к завтраку.
Я ехал с Шервашидзе и графинею Менгден. Мои спутники сообщили мне, что в Киеве у них было совершенно спокойно, и удивлялись, что и улицы Могилева ничем пока не говорили о совершившемся перевороте.
Я не помню, как прошел этот завтрак, не менее мучительный и молчаливый, чем предыдущие, и за которым никого, кроме ближайшей свиты и находившихся в Могилеве великих князей, не присутствовало.
Все эти 8 дней марта я ничего не мог есть и, будучи физически здоров, совершенно не чувствовал голода.
Встав из-за стола, государь и императрица удалились в комнату государя, долго оставались наедине, и лишь около 4 часов дня государыня уехала к себе в поезд, в котором и оставалась до 9 марта.
Насколько помню, вслед за отъездом императрицы в кабинет к государю пошел Воейков.
Он оставался там недолго и вышел, как мне показалось, растроганный42. В то время как мы сидели за столом за чаем, он появился уже одетым в шинель и стал с нами прощаться, говоря, что сейчас уезжает. Тогда же нам стало известно, что и граф Фредерикс, по настоянию многих и Алексеева, также решил уехать, и милый инженер Ежов делал все возможное, чтобы ему устроить удобный и по возможности скрытый проезд43.
Я не знаю, каким образом В. Н. Воейкову не удалось добраться до своего имения, помню только то, что бедный Фредерикс направился поздно вечером из Могилева сначала на юг, кажется, через Киев в Крым. Ночь прошла благополучно, но утром на одной из станций его чиновник для поручений Петров, с усами, немного схожими с усами самого графа, неосторожно вышел из вагона для отправки телеграммы графине. Революционная волна успела докатиться и до сравнительно отдаленной станции (Гомель) – Петрова приняли за самого графа Фредерикса, а затем арестовали обоих и отправили в Петроград44.
С отъездом Фредерикса и Воейкова их обязанности стал исполнять гофмаршал Валя Долгоруков.
После чая государь сообщил, что поедет обедать к своей матушке в поезд, проведет с нею весь вечер и что я буду один сопровождать Его Величество.
Мы выехали из губернаторского дома около 7 часов вечера.
До вокзала было не более 10 минут. Кроме меня, государя никто не сопровождал – даже запасного автомобиля, следовавшего по обыкновению сзади, на этот раз не было. Мы ехали совершенно частными людьми. На улицах было пустынно и тихо.
То же волнение, как и во время вчерашней прогулки, охватило меня и теперь, но еще с большею силою.
Так хотелось опять высказать сердцем многое, и так опять не хватало для этого ни мыслей, ни слов.
Государь тоже был, видимо, подавлен и, вероятно, чувствовал и мое состояние.
Он был очень бледен, и я невольно заметил, как он сильно успел похудеть за эти дни.
Мы ехали некоторое время молча.
– Ваше Величество, – начал опять первым я, – нет ли у вас известий из Царского Села? Когда вы думаете поехать туда?
– Я еще не знаю, – ответил государь, – думаю, что скоро. – Потом надолго задумался и вдруг спросил: – Что обо всем говорят, Мордвинов?
– Ваше Величество, – ответил опять, бестолково волнуясь, я, – мы все так удручены, так встревожены… Для нас это такое невыносимое горе… Мы все еще не можем прийти в себя… Для нас все так непонятно и чересчур уж поспешно… Зачем вы отреклись!!!
А в Ставке, как я слышал, особенно не понимают, отчего вы отреклись в пользу брата, а не законного наследника Алексея Николаевича; говорят, что это уж совсем не по закону и может вызвать новые волнения…
Государь еще глубже задумался, еще глубже ушел в себя, и, не сказав больше ни слова, мы вскоре доехали до вокзала.
Генерал Деникин в своих воспоминаниях о возвращении государя в Ставку после отречения говорит: «Никто никогда не узнает, какие чувства боролись в душе Николая II – отца, монарха и просто человека, когда в Могилеве, при свидании с Алексеевым, он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал: «Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград».
На листе бумаги отчетливым почерком государь писал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея.
Алексеев унес телеграмму и… не послал. Было уже слишком поздно: стране и армии объявили уже два манифеста.
Телеграмму эту Алексеев, «чтобы не смущать умы», никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование.
Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранился затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки…»45
* * *
Я не знаю, к какому дню пребывания государя в Ставке относится рассказанный генералом Деникиным случай, о котором никто из нас не слыхал. Произошел ли он утром, в субботу 4 марта, то есть до моего разговора с государем в автомобиле, а значит, и до свидания Его Величества с императрицей-матерью, или на другой, после этого, день?
Я думаю, что последнее вернее, так как иначе государь, наверное, упомянул бы о состоявшемся уже изменении своих намерений. Весьма вероятно, что на такую перемену подвигла государя сама императрица-мать, узнавшая лишь 4 марта об отказе великого князя Михаила Александровича от вступления на престол.
Поезд императрицы, видимо, был наскоро собран. Он был смешанного пассажирского состава, и вагон государыни походил на обычный служебный вагон железнодорожного начальства.
Государь прошел в последнее, большое отделение, где находилась императрица, а я остался в коридоре, выжидая указаний о нашем обратном отъезде.
Его Величество приоткрыл дверь и сказал:
– Мордвинов, матушка вас приглашает также обедать; я потом вам скажу, когда мы поедем обратно, – и снова закрыл дверь.
Через вагон великого князя Александра Михайловича, где находился и бывший в Ставке великий князь Сергей Михайлович, я прошел не останавливаясь в вагон князя Шервашидзе и графини Менгден, а затем, после недолгого разговора с ними, мы направились в столовую, куда вскоре вошли и Их Величества.
Государыня была по виду почти такая же, какою я привык ее видеть в обычные дни ее жизни. Она с доброй и приветливой улыбкой поздоровалась со мной.
Но, зная ее хорошо, я чувствовал, каким нечеловеческим усилиям были обязаны это наружное спокойствие и в особенности эта улыбка.
Мое место за столом приходилось напротив Их Величеств, а моей соседкой была графиня Менгден.
Помню, что во время этого долгого, необычайно долгого обеда я силился поддержать с нею обычный разговор. Она отвечала мне спокойно, как вспоминаю, даже оживленно, и я был несказанно поражен, когда уже в конце обеда мой другой сосед, князь Шервашидзе, наклонился ко мне и, указывая на графиню глазами, шепнул:
– Знаете что?! Она только что, перед обедом, получила известие, что ее старшего брата, кавалергарда, убили солдаты!
Этим изумительным самообладанием, которое мне, кроме императрицы-матери, среди женщин еще ни разу не приходилось встречать, графиня Менгден восхитила меня и в дальнейшие дни, когда по улицам Могилева уже были развешены красные тряпки и бродила вызывающая и уже разнузданная толпа.
Графиня Менгден ни за что не хотела внять нашим настояниям – и решительно отказываясь от нашего сопутствования, с презрительной, но спокойной улыбкой отправлялась в одиночестве бродить по взбудораженному городу.
Я не помню хорошо, как прошел остаток этого дня. Вспоминаю только, что после обеда еще долго государь оставался наедине с матерью; великий князь Александр Михайлович с великим князем Сергеем Михайловичем разговаривали у себя в вагоне, а я сидел у князя Шервашидзе в купе вместе с ним и князем Сергеем Долгоруковым.
Помню, что к нам приходил полковник Шепель, комендант поезда императрицы, но о чем шла тогда наша беседа, совершенно забыл. Вряд ли и было что-нибудь замечательное, что могло бы невольно сохраниться даже в моей притупленной памяти.
Все главное совершившееся было уже известно, а будущее, даже ближайшие часы, совершенно неопределенно и не давало возможности строить какие-либо предположения.
Помнится, что передача престола Михаилу Александровичу, ввиду его женитьбы на Брасовой, вызывала у всех тяжелые недоумения.
Выяснилось также, что Ее Величество решила оставаться в Могилеве до конца пребывания государя в Ставке.
Очень поздно вечером мы вернулись с Его Величеством домой. Государь, как мне показалось по дороге, был более спокоен и, насколько помню, очень заботливо и с тревогой отзывался о поездке Фредерикса и Воейкова.
Я проводил Его Величество до верху и вернулся к себе, не заходя в столовую, где остальная свита еще сидела за чаем.
5 марта был воскресный день. Утром я узнал, что великий князь Михаил Александрович отказался вступить на престол до созыва учредительного собрания и передал судьбу России в руки самозваного правительства – «по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой государственной власти» – как говорилось о том в его манифесте.
Удивительно, как поздно дошла до нас, свиты, весть об этом событии, совершившемся еще днем 3 марта, в частной квартире отставного кавалергарда князя Путятина на Миллионной улице в присутствии Родзянко, Львова, Набокова и других.
Я когда-то бывал в этом помещении. Оно принадлежало двоюродному брату командира яхты Михаила Александровича и находилось напротив Преображенских казарм.
Отказ великого князя, вероятно, был известен в штабе немедленно, но там считали его, вероятно, не важным или заранее предрешенным и не торопились о нем сообщать. Но государю об этом событии все же доложил ген. Алексеев в тот же вечер, прибыв для доклада в губернаторский дом с последними известиями от Родзянки46.
А нам об этом отказе сказали как-то «вскользь», не придавая ему значения ни в положительную, ни в отрицательную сторону, а через несколько часов и не говорили совсем – другие события, намного менее важные, отвлекали внимание всех.
А между тем эта столь быстрая передача полной власти в руки революционеров была крушением последней возможности, правда, слабой и незаконной, сохранить в России привычную для населения монархическую власть и тем избавить Родину от ужасов междуцарствия и развала.
Известие об этом событии поэтому наполнило меня помимо горьких чувств даже какой-то обидой.
Я вполне понимал, что Михаил Александрович имел не только право, но, пожалуй, и обязанность отказаться от незаконно переданного ему престола, но, отказываясь от него, он не имел никоим образом уже права передавать законную власть, хотя бы временно, в руки революционеров.
Кроме него, было еще много других членов императорской фамилии, к которым за его отказом, в порядке закона, преемственно мог бы в будущем перейти престол.
Нарушать их права, в особенности законные права Алексея Николаевича, он не мог.
Чтобы спасти тогдашнее путаное, но и грозное для Родины положение, у Михаила Александровича был простой и, как мне казалось, естественный выход: он должен был объявить, что принимает врученную ему братом власть только временно, полагая себя лишь регентом законного наследника престола.
Конечно, приняв такое решение, шедшее как будто вразрез с желанием государя, великий князь должен был бы предварительно испросить на то согласие своего старшего брата.
Препятствий к сношению друг с другом в этом вопросе не было никаких: манифест об отречении в его пользу, по настоянию Родзянки, еще задерживался опубликованием, к присяге ему еще никого не приводили, а прямой провод для разговора между Псковом, Ставкой и Государственной Думой в Петрограде действовал без отказа за все время пребывания в Пскове и в Могилеве Его Величества. Наконец, существовал еще телефон, соединявший Александровский дворец с могилевским губернаторским домом. Этот провод первые два дня не был прерван[12]12
Когда мы прибыли в Могилев, я узнал от одного штабного офицера, что телеграфная связь Ставки с Царским Селом была прервана по распоряжению думского полковника Энгельгардта уже с 11 часов утра 1 марта! Все телеграммы, адресованные Ставкой в Царское Село и Петроград, по его требованию должны были направляться по прямому проводу лишь в Государственную Думу. Подчиняется ли этому требованию также и чиновник телефонного аппарата, прямого провода, находившегося в самом Александровском дворце, мне так и не удалось выяснить.
[Закрыть].
Я почти убежден, что государь после некоторых колебаний согласился бы на такую перемену, могущую притом быть только временной, до успокоения страстей, а великий князь, пользуясь властью регента, конечно, не препятствовал бы маленькому императору оставаться при его родителях. Этот вопрос, при известной находчивости, легко мог быть улажен.
Но, к сожалению, в те роковые дни обмена мнений между братьями не состоялась. Михаила Александровича окружали и ему советовали отказаться лишь думские деятели, изменившие престолу, а с ним и Родине.
Впрочем, все это были только возможности, притом возможности, пришедшие на ум большею частью уже после совершенных действий. О них не стоило бы и говорить. Но решимость воспользоваться в особенности в Псковские дни 1 и 2 марта могла большим благом сказаться на моей Родине. Даже столь легко организованная на наших придворных автомобилях поездка государя из Пскова на фронт в верные войска близкой армии Радко-Димитриева спутала бы карты заговорщиков. Отречения бы не было и всего того, что за ним последовало…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































