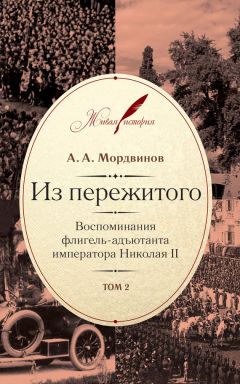
Автор книги: Анатолий Мордвинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Я не знаю, что думали по этому поводу генерал Бартер, заменивший впоследствии генерала Вильямса, и младшие офицеры миссий, так как я имел с ними мало откровенных разговоров о наших событиях. Думаю, что они приветствовали переворот, хотя и презирали его совершивших.
Но все же даже главные военные представители дружественных нам держав, жившие среди нас, чувствующие непосредственно нашу гибель, не могли отрешиться от обаяния ходячих фраз международной политики.
«Мы не можем вмешиваться в ваши внутренние дела!» – хотя и с отчаянием, но неоднократно говорили они мне, точно вопрос шел действительно только о делах, а не о спасении!
Я впервые услышал эти слова из уст иностранного представителя в Ставке в августе 1917 года, во время корниловского выступления, когда так нужна была помощь, и в то же мгновенье в моем внутреннем, почти тогда любовном отношении к друзьям союзникам что-то оборвалось.
Для меня остались лишь знакомые люди из иностранцев, близкие мне по чувствам, питаемым ими к моему государю, но представляемые ими страны для меня были уже ничто… Они были уже не друзья, а враги… Только враги еще могли тогда раздумывать и находить предлоги для отказа в помощи…
«Не вмешиваемся в ваши дела!» Сколько раз и впоследствии слышал я эти лицемерные слова из уст людей, которых я называл европейцами… и друзьями, и одновременно видел их помощь, оказанную большевиками!
Найдутся ли такие силы, наступят ли такие времена, которые заставят русский народ забыть когда-нибудь это предательство из-за выгоды!
О, я знаю по себе, что ни таких сверхчеловеческих сил, ни таких отдаленных времен не будет…
Мы, может быть, «по христианству» простим за себя – за нас, оставшихся, хоть с искалеченными душами, но в живых, – но как простить за наших замученных братьев, когда вечно будут слышаться их полные отчаяния мольбы о спасении и видеться лишь помощь, оказанная не жертвам, а палачам!
* * *
При иностранцах, кроме меня, в те дни состояли: кавалергардского полка штаб-ротмистр барон Пиллар фон Пильхау, полковник Звегинцев и поручик князь Голицын, женатый на графине Карловой. Потом прибыл кавалергардского же полка корнет Скалон.
Отделом, ведавшим иностранными операциями, заведовал бывший офицер л. гв. Семеновского полка генерал Скалон, впоследствии не выдержавший позора преждевременного заключения мира и застрелившийся в Бресте во время переговоров. Все это были очень милые люди, мои сослуживцы по 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Их настроение совершенно сходилось с моим, и мне до сих пор вспоминаются иронические, полные презрения слова князя В. Голицына по поводу некоторых из нашего начальства: «Сами государя от нас отняли, а требуют теперь, чтоб мы еще служили им и работали».
Начальником штаба в эти осенние месяцы был генерал Духонин79, вскоре зверски убитый большевиками. До него, после Корнилова, главным лицом в Ставке был генерал Алексеев, исполнявший должность начальника штаба при Керенском. Он прибыл в Могилев 1 сентября, там оставался недолго и вскоре ушел.
К чести Алексеева, кроме основания белой армии, надо отнести и то, что он был единственный из охранявшихся в то время руководителей Ставки, который решительно отказался жить в комнатах, занимавшихся ранее государем императором, и выбрал себе внизу губернаторского дома скромное помещение прежней военно-походной канцелярии.
По его словам, переданным мне другими, он считал для себя «святотатством» пользоваться обстановкой и мебелью, которая живо напоминала ему «ушедшего императора».
Как бы иронически не воспринимались многими эти слова, сказанные человеком, так способствовавшим этому уходу, в искренности их я все же не сомневаюсь. При многих недостатках характера Алексеев все же обладал русской душой, был далек от всего показного и не любил громких фраз. Я убежден, что он, в полную противоположность многим, не переставал мучиться своей, ясно им сознаваемой виной.
Но продолжал ли бы он мучиться ею, если бы переворот оказался «удачным» и «мирным», я не знаю, а это было бы для меня в моих суждениях о людях и событиях главное.
Хочется думать, что его простая чисто народная религиозность делает и такое предположение весьма вероятным.
После отречения я с генералом Алексеевым почти не говорил и только раз, в самый последний день перед его отъездом, желая получить на всякий случай отпускной билет, спросил его:
– Кто же теперь будет начальником штаба вместо вас и вообще, что будет дальше?
– Что будет?! Будет конец! – ответил мне безнадежно Алексеев. – Называют Духонина, но идет вопрос о назначении и Черемисова… Ну, если этот, почти явный большевик, будет назначен, тогда никому нельзя оставаться в Ставке, а надо придумывать что-нибудь другое.
Но «назначен» был кем-то не Черемисов, а Духонин. Я видел его один лишь раз, и мне не приходилось с ним говорить.
На меня он произвел своим внешним видом и чувствуемой внутренней порядочностью очень хорошее впечатление.
В Ставке я продолжал жить в своей прежней гостинице «Франция», отводимой ранее для сменявшихся по очереди дежурных флигель-адъютантов. Служил мне бывший коридорный, нестроевой солдат Артем, до болезненности преданный государю, хотя и не видавший ни разу Его Величество. Он и его жена Анна Ивановна не могли без слез вспомнить обо всем происшедшем и проклинали изменников самым решительным образом. В первое время гостиница была почти пуста, в ней только жил генерал-адъютант Иванов и генерал Борисов, друг генерал Алексеева. Но зато после них какие «господа» в ней не перебывали.
Генерал Иванов был очень подавлен, но не терял надежды на скорое лучшее будущее: «Мы еще пригодимся Его Величеству, вот вы увидите», – заканчивал он всегда этими убежденными словами наш невеселый разговор.
Генерал Борисов, с присущей ему наивностью теоретика, также не падал духом, хотя и относился к «перевороту», наверное, совершенно иначе, чем мы. Он не видел опасности в развивавшемся большевизме. «Куда им, этим большевикам, тягаться с остальными, – говорил он, – их всего-то наберется несколько жалких тысяч, а нас одних только офицеров 200 000 человек, и эти цифры говорят сами за себя… они не обманывают».
На мое замечание, что офицеров избивают и не перестают преследовать и что в лучшем случае они в загоне, выбиты из колеи и не смогут еще долго объединиться в большую силу, а пока «солнце выйдет, роса глаза выест», – он убежденно возражал: «Уж не думаете ли вы, что с этой войной так все и кончится? Нет, скоро наступит новый ряд войн… Посмотрите, как за офицерами тогда начнут ухаживать… Офицеры без дела не останутся… Это самые необходимые люди в наше время… да были ими и всегда… Надо только перетерпеть».
Но терпеть приходилось долго, да и продолжать вести какую-либо войну с офицерами, у которых «раздраженный народ» отнимал оружие, было, конечно, немыслимо.
Правда, мудрое начальство Временного правительства, делая уступку военному времени, стало вскоре выдавать офицерам письменное разрешение на право ношения оружия, но одновременно с этим каждому являвшемуся в штаб Петроградского округа за таким разрешением, чтобы ехать затем на фронт, не только вменялось в обязанность, но и строго приказывалось развозить по своим частям большие пакеты прокламаций и листовок, раздававшихся за соседним столом вновь явленным военным начальством в лице курсисток и личностей самого неопределенного вида.
Один клочок бумажки, восстанавливавший унизительным способом самое естественное право защитника Родины на оружие, сразу же уничтожался громкими фразами целой кипы бумаг, низводивших офицера на степень опаснейшего преступника, подлежавшего неустанному надзору со стороны подчиненных солдат.
3 июля, в день своих именин, я выехал из Ставки на несколько дней в свою деревню. Подъезжая к Петербургу, я услышал беспорядочную перестрелку.
– Из-за чего опять стреляют? – спросили некоторые пассажиры кондуктора.
– А кто их знает, – отвечал он апатично. – Каждый день палят, сегодня будто посильнее… Ума-то ведь нынче ни у кого нет.
В Петербурге на почти пустынных улицах мне попался испуганный извозчик, нахлестывавший с ожесточением свою лошадку. Мне с трудом удалось его остановить и упросить отвезти меня на Николаевский вокзал.
– Хорошо, что по пути на мою фатеру, барин, – говорил он, – а то ни за что б тебя не взял. Садись скорее, ишь страхи какие – большевики ныне чуть не с полночи выступили, все разнести хотят… палят во все стороны, куда ни попало – видишь, весь народ по домам попрятался.
Действительно, улицы точно вымерли. Все магазины и лавки на Загородном проспекте, Владимирской улице и Невском были закрыты, ворота в домах также.
Это было первое известное выступление большевиков, случайным свидетелем которого мне пришлось тогда быть. Строго говоря, какое это было «выступление»? Это была просто неизбежная дележка добычи, захваченной совместными действиями обоих союзников по бунту в февральские и мартовские дни.
В деревне, куда я приехал, мне сказал мой лесник – бедный, но толковый крестьянин: «Я так думаю, барин, – что это хорошо, пущай их побольше между собою дерутся – все меньше этой сволочи останется – плакать не будем».
* * *
В ноябрьские дни моим соседом по комнате оказался генерал Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба генерала Рузского, появившийся по какому-то случаю в Ставке и занявший большую комнату, где прежде помещались приезжавшие на очередное дежурство в Могилев великий князь Дмитрий Павлович и князь Игорь Константинович.
Бонч-Бруевич, кажется, в ноябрьские дни исполнял должность коменданта Ставки, завел у себя телефон и не давал мне спать своими постоянными ночными переговорами. Я с ним не обмолвился ни одним словом, хотя его знал по прежней его службе, да, впрочем, и видел его лишь издали.
Вспоминаю один характерный его разговор по телефону, который мне однажды ночью, невольно пришлось услышать через тонкую перегородку, отделявшую наши комнаты. «Вы знаете, – говорил кому-то Бонч-Бруевич, – мне сейчас передали по телефону, что к Могилеву подходит поезд, в котором едет большая команда большевиков. Большевики эти, надо предполагать (?), нам враждебны и едут вряд ли с хорошими намерениями…» Не правда ли? – (Странный вопрос, уже после большевистского восстания, – подумал я.) – Ну так вот – постарайтесь осторожно принять меры, чтобы их каким-либо способом обезвредить, а нас обезопасить. Но действуйте обдуманно, мягко, чтобы не вызвать излишнего возбуждения и у здешних…»
Большевистский переворот, как я уже сказал, на меня лично не произвел решительно никакого впечатления. Не было уже давно ничего нового, что могло бы меня поразить – в моем притупившемся сознании.
Да «переворота» по внешности, собственно говоря, и не было: октябрьские дни ничем не отличались от мартовских и последовавших за ними.
Мартовские дни для меня были даже намного ужаснее. Продолжая с какой-то болезненностью по возможности сторониться от людей и слухов, я не знал точно, что делается вне моей комнаты и вне моего леса, где я проводил все свободное от службы время. Я чувствовал только, что продолжает совершаться что-то отвратительное и ужасное, а было ли это совершавшееся более или менее ужасным, для меня было уже почти все равно.
Лишь один случай вывел меня опять, и то ненадолго, из безразличного состояния.
Это было во время моего ночного дежурства по генерал-квартирмейстерской части, которое я, окончивший в свое время военную академию, нес наравне с остальными офицерами генерального штаба.
Я пришел поздно ночью в дежурную комнату штаба, где на столе находились уже обычные вечерние сводки, поступавшие постепенно из действующих армий, и которые я как дежурный штаб-офицер должен был предварительно разобрать для утреннего доклада генералу-квартирмейстеру. Донесений от некоторых армий еще не поступало, и в ожидании, пока их принесут с телеграфа, я стал ходить взад и вперед по комнате, стараясь хоть движением и внешними впечатлениями прогнать свои назойливые, безотрадные мысли. Довольно длинная, скомканная в путаный клубок и брошенная кем-то под стол телеграфная лента привлекла мое внимание. Я поднял ее, расправил и начал читать. Первые же ее слова меня поразили настолько, что я все их почти точно запомнил до сих пор. «Спасите нас скорее, – стояло там, – я, телеграфист, и двое юнкеров, мы заперлись в помещении телеграфа в Кремле… все остальные перебиты… мы окружены большевиками… Один снаряд уже разорвался в нашей комнате… Патронов у юнкеров нет… К нам сейчас ворвутся… Спасите… Спасите…»80
Потом шло длинное пустое место. «Сейчас один юнкер убит, нас только двое», – еще очень длинный пробел, изредка прерываемый повторением все одной какой-то буквы, и в конце ленты лишь слова: «И этот юнкер… Помогите…»
Телеграмма была, видимо, из Москвы, из Кремля, числа, подписи, адреса не было. Какими судьбами попала она сюда, в Могилев? В эту комнату? Кто бросил ее под стол?
Кто были эти удивительные люди долга, телеграфист и двое юнкеров, не хотевшие сдаваться и обращавшиеся за помощью в необъятное пространство их родной России? И чем ответила им моя тогдашняя Родина? Чем им могу теперь ответить я?
Я взял себе этот небрежно брошенный, смятый, со следами от наступившего грязного сапога документ человеческих страданий и, наверное, разбитых надежд, привез с собою в деревню и долго хранил его вместе со своими дорогими по памяти вещами и родовыми бумагами, потом погибшими.
Эти неизвестные юноши, положившие свою молодую жизнь за Родину в один из ее наиболее черных дней, тоже принадлежали к моему русскому роду и были мне более чем родными… я ими гордился.
Но ведь и кто начал их убивать, были тоже русские?
Этот вопрос я решал тогда возмущенно и просто.
Для меня те были уже давно не русские. Это были лишь жалкие люди без роду и племени… Родины у них не было, и они ее не желали.
Не научившись любить Россию, они воображали, что могут любить весь мир!
Таково было первое донесение с впервые тогда образовавшегося «внутреннего» фронта, так случайно достигшее до меня в Ставке и которое меня сильно взволновало. Последующие известия, доходившие оттуда, вплоть до сегодняшнего дня, повторяли разными словами то же самое, что и эта памятная мне телеграмма. То же неравное соотношение сил, та же неравная борьба людей чести и долга, те же тщетные мольбы о помощи в равнодушном пространстве уже не только России, но и всего земного мира…
Жизнь, жизнь, сколько прекрасного и сколько подлого наполняет тебя в одно и то же время!!!
* * *
В один вечер, во второй половине ноября (кажется, 17-го по старому стилю), когда я пришел в свой служебный угол, находившийся в неимоверно грязной комнате наверху штаба, не помню, кто-то из штабных офицеров подошел ко мне и таинственно предупредил:
– Завтра рано утром будет подан поезд. Духонин, часть штаба и все иностранцы решили покинуть потихоньку Ставку. Вы едете также с нами. Думаем направиться в Киев, если туда пустят… Никому пока не говорите об этом и завтра около 8 часов утра отправляйтесь на вокзал и, пожалуйста, распределите в поезде по отведенным вагонам весь состав миссий…
Такое намерение меня тоже не удивило. Действительно, было давно пора что-нибудь предпринять, а не сидеть в Могилеве и спокойно ждать неудержимо развивавшихся событий.
Большевики уже давно господствовали в Петрограде, не встречая ни с чьей стороны сопротивления, и давно грозились стереть с лица земли контрреволюционную Ставку, не желавшую заключать, по их требованию, сепаратного мира и немедленно выслать парламентеров…
Все чаще и настойчивее приходили сведения об организуемом большевиками с большими силами похода на Могилев, защищаемый лишь небольшим ударным отрядом да очень ненадежными «георгиевцами».
Сам город также давно находился почти весь в руках могилевского совета рабочих и солдатских депутатов, где некий Гольдман играл выдающуюся роль… Помещение этого совдепа было близко от штаба, и с его балкона уже с начала лета свешивался на главную улицу громадный плакат: «Вся власть советам!»
Значение начальника штаба Духонина, заменявшего исчезнувшего верховного главнокомандующего Керенского, также давно сводилось к нулю, и он сам зависел от непрестанных собраний писарей и различных команд штаба.
В конце концов Ленин и Крыленко смехотворной телеграммой даже уведомили Духонина об его смещении, но он, конечно, оставался на своем посту81.
Все же существование беспомощной Ставки явно близилось к концу, все мы были под подозрением, вероятно, в особенности я, так как заведовавший иностранными миссиями наш бывший военный агент в Берлине полковник Базаров, близко соприкасавшийся с писарскими командами штаба и исполнявший среди них какую-то выборную должность, неоднократно доброжелательно предупреждал, что на меня «как на явного приверженца старого режима» особенно точат зубы. Я это чувствовал и сам по тем красноречивым взглядам, которые на меня исподлобья бросало большинство писарей штаба, и в особенности по злобному, весьма недвусмысленному поведению одного матроса, вестового какого-то адмирала, прибывшего еще летом представителем морского ведомства в Ставку и поселившегося в одной из комнат гостиницы, где я жил.
Этот адмирал являлся в те дни своеобразной известностью.
Он был тот, кого революционный Балтийский флот, зверски перебивший своих офицеров, даже частью их сжегший в машинных котлах, выбрал единогласно своим главным начальником. Как я узнал впоследствии, он назывался почему-то «чухонским адмиралом» Максимовым и, как говорят, плохо знал по-русски.
Но его невидная внешность, молчаливость, приниженность, даже какая-то забитость совсем не соответствовали тому облику крикливого революционного вождя, овладевшего доверием взбунтовавшихся матросов, каким можно было бы его себе представить.
Он по целым дням сидел у себя в комнате, нигде не показывался и так же незаметно исчез в один день, как незаметно и появился. С ним исчез и его матрос, бывший непременным посетителем могилевского совдепа и игравший роль наблюдателя и доносителя.
– Уезжайте вы поскорее из Ставки куда угодно, лучше всего за границу, – продолжал настойчиво советовать мне Базаров, – а то будет поздно.
Но как уехать за границу, когда государь с семьей оставался еще в России, еще шла война, и он сам призывал на время ее повиноваться Временному правительству.
Правда, я это правительство презирал, как только мог, и повиноваться ему я был не в силах. Я не подписал ему и присяжного листа, как это тогда требовалось от всех в Могилеве.
Эта присяга была назначена в Ставке по требованию Временного правительства на следующий же день по отъезде государя и происходила на площади около губернаторского дома. К присяге приводил протоиерей московского Успенского собора, прибывший еще до отречения Его Величества в Могилев с чудотворной иконой Владимирской Божьей Матери.
Кроме офицеров гарнизона и Ставки и всех нижних чинов, присягали находившиеся в то время в Ставке и великие князья: Александр Михайлович, Сергей Михайлович, Борис Владимирович и принц Александр Петрович Ольденбургский. Великий князь Николай Николаевич, прибывший в Ставку через два-три дня, приносил присягу, кажется, в своем поезде, откуда он не выходил, уехав через несколько часов обратно, получив письмо от князя Львова, отказывавшего в его утверждении Временным правительством в должности верховного главнокомандующего.
Это кощунственное распоряжение о присяге поразило меня своим кричащим несоответствием с событиями последних дней – люди, только что с такой преступной легкостью нарушившие присягу, требовали ее теперь себе от других!!!
Только страх и неуважение к народу заставляли их прибегнуть к этому «отжившему» в их глазах и «совершенно не действительному и не священному средству».
Невольно вспоминаются при этом слова архиепископа Гурия, сказанные перед присягой дворянам, собравшимся на наши губернские дворянские выборы.
«Вы приносите теперь торжественную присягу, – говорил он, – перед крестом и Евангелием… Всемогущий и Всезнающий Бог, конечно, не нуждается в вашей клятве. Ему известны и ваши потаенные мысли, и ваши намерения. Присяга нужна не для Него, а для окружающих вас людей, на служение которым вы будете выбирать из своей среды им начальников. Ваша присяга придает в глазах этих людей особую ценность выбранным вами людям. Они будут чувствовать, что вы выбрали действительно по совести, лучших людей из своей среды».
Но такими лучшими и способными людьми не было, конечно, тогдашнее правительство, которое и не было даже выбрано никем.
Все же надежда, даже уверенность, что безумие не может быть вечным и что я еще каким-либо образом могу пригодиться любимой семье, а также и Родине, жили во мне довольно крепко даже в те последние дни, когда со всех сторон ширились слухи о новых кровавых расправах, о надвигающемся голоде и когда у большинства из нас уже давно были заготовлены билеты об отпуске, чтобы ими воспользоваться и выбраться из Ставки без задержки в нужном случае.
Все, кто был более предприимчив и предусмотрителен, старались понемногу отправлять свои семьи даже с солдатскими эшелонами подальше из Могилева, по возможности на юг, где в продовольствии еще не было затруднений и где надеялись, что возможно будет еще задержать уходившую с нашей земли Россию.
Положение моей семьи, находившейся в те дни на севере, в нашем имении, меня тревожило порядочно, но главным образом из-за голода. Местные крестьяне еще продолжали относиться к жене и дочери очень хорошо, так как моя Ольга помогала им по обыкновению, чем могла, не отказываясь их лечить и перевязывать собственноручно самые отвратительные язвы, и вместе с дочерью и ее воспитательницей m-elle Jaccard была чутка и сердечна к их повседневным деревенским невзгодам.
Уезжая со Ставкою на юг, я еще более и, наверное, надолго отделялся от своих, но в те дни я как-то мало об этом думал.
В своих мыслях, иногда мелькавших по этому поводу, я оставлял моих дорогих лишь на защиту Бога и добрых людей…
Да и куда я повезу их, в особенности престарелую и больную мать жены, на неизвестный юг, где было бы, быть может, больше еды, но где по дороге царила та же человеческая злоба и ненависть, как и на севере!
Хотя добрых людей и всюду много, но все же я верил, что наши ближайшие крестьяне, с которыми я был связан в течение многих поколений, не так скоро решаться, как те, посторонние, заплатить злом за добро.
Я много об этом советовался с моим другом и нашим домашним врачом, человеком высокой порядочности Н. Н. Чашкиным, которого я, к большой моей радости, случайно встретил на улице Могилева, который был назначен на службу в санитарном отделе Ставки после заведования полевым лазаретом Минска.
Он, как и я, был одного мнения, что надо все же оставаться в Ставке до последнего дня, а там видно будет. По крайней мере это соответствовало бы, хотя и с большой натяжкой, и последнему призыву нашего ушедшего государя.
Но эти не дни уже, а часы Ставки были явно сочтены… Ходили слухи о готовящейся «варфоломеевской ночи»; во время прогулки по нам с Чашкиным уже как-то стреляли, но промахнулись.
На всякий случай мы с ним заранее, чисто по-детски, наметили в окрестностях Могилева, в холмах, что-то вроде пещеры, заваленной камнями, где можно было укрыться на первое время, а затем ночью перейти незаметно в другой город, добраться до своих и, если возможно, всех их вывезти все же на юг…
Рано утром 18 ноября (1917 г. – О. Б.), уложив небольшую часть вещей и оставив остальные – в том числе несколько очень редких, найденных мною в Могилеве французских книг XVI века – в гостинице «Франция» на попечение коридорного Артема, я поехал на вокзал.
Поезд, предназначенный для иностранцев и части штаба, был уже подан. На вокзале толпилось много народа. Так же, около вагонов, была собрана небольшая команда ударного батальона, которая должна была сопровождать наш поезд. Ее начальник торопливо отдавал какие-то приказания и, видимо, был очень озабочен, что никто из уезжающих штабных еще не появлялся на вокзале, так как стало известно, что большевистские отряды уже давно выступили из Петрограда и из других мест и двигаются по железнодорожным путям с двух сторон на Ставку.
На платформе, кроме обычной для могилевского вокзала смешанной толпы офицеров, солдат и различных служащих, находилось много военных, удививших меня странным видом своего обмундирования: у всех были в петлицах разноцветные ленты, особые повязки на рукавах, какие-то значки на фуражках… Иногда целый пук развевающихся пестрых лент свешивался у многих с плеча.
Я догадался, что это были представители от тех «национальных» войск, которые образовались почти сейчас же после отречения государя из частей русской армии, не желая себя смешивать с нею.
Больше всего было малиновых с белым, польских цветов, и сине-желтых «украинских» лент.
Все эти люди принадлежали к единой, великой славянской нации, но они уже не считали ее своей… Исчезло властное, священное, связующее Россию начало, и ничто другое, даже общая опасность порабощения славян другими народами была бессильна удержать их от этих побуждений. Всегдашний сепаратизм Польши был еще понятен, но стремление к отделению малороссов вызывало не только удивление, но и негодование.
Я вошел в поезд, прошел по вагонам и увидел, что подробное распределение мест было уже кем-то сделано до меня. На всех отделениях были прикреплены соответствующие билетики.
Делать было нечего – было уже около 10 утра, и я снова вышел на платформу посмотреть, не подъехал ли уже кто-нибудь из моих иностранцев. Но никого из них еще не было. Я увидел лишь двух молодых энергичных, знакомых мне из немногих офицеров из штаба, суетливо осматривавшихся и, как мне показалось, озабоченно совещавшихся между собою.
Я подошел к ним и спросил:
– Вы, наверное, с нами? Что ж это другие так запаздывают?!
– Нет, мы потом к вам присоединимся, – ответили они, – а сейчас едем в Быхов, освобождать из тюрьмы Корнилова, Деникина и других.
– Как, только вдвоем?! – изумленно спросил я.
Они рассмеялись и показали многозначительно какую-то бумагу:
– Нет, мы везем приказ начальника штаба об их немедленном освобождении.
– А вас послушают?
– Все равно терять времени нечего – им необходимо так или иначе бежать… Самое позднее завтра Ставка будет уже занята большевиками.
– Как?! Без сопротивления?! – спросил я. – Ведь приказано Финляндской дивизии задержать карательный отряд Крыленко!
– Какое тут сопротивление? – и они безнадежно махнули рукой.
– Что ж там, в штабе, так копаются? Не вышло ли отмены?
– Нет, – ответили мне, – уже укладывают вещи и бумаги на автомобили – вероятно, скоро приедут, – и затем торопливо отошли, увидев какой-то подходивший поезд.
Я снова вошел в свой поезд, к которому уже был подан локомотив, отыскал свое купе, распределил вещи и стал ожидать…
Вскоре приехала румынская миссия, затем сербы, итальянцы, японец и часть французов и англичан.
Привезли и тяжелый багаж. Было уже около 12 часов дня, а остальные все не появлялись. Такое опоздание уже начинало начальника ударного батальона и меня заботить, а находившиеся в поезде иностранцы сами не могли мне объяснить причины задержки остальных, уверяя только, что перемены нет и что решено непременно сегодня же уехать из Могилева.
Был уже час дня, Крыленко, по слухам, подъезжал то к Витебску, то уже к Орше, чтобы узнать на месте причины замедления, я с кем-то из офицеров миссии поехал на автомобиле в гостиницу, где жили наши союзные представители.
Внизу были нагромождены горой ручные чемоданы, все было, видимо, готово к отъезду, но, войдя наверх в столовую, я, к моему удивлению, застал всех спокойно сидящими за завтраком.
– Что такое? – упрекнул я полусерьезно-полушутливо бельгийца барона Риккеля. – Я с 7 утра жду вас на вокзале, локомотив давно подан и под парами, начальник конвоя волнуется, а вы здесь спокойно завтракаете и не думаете уезжать! Даже не предупредили меня, что вышла перемена!
– Успокойтесь, – сказал мне, по обыкновению весело, Риккель, – перемены никакой нет, мы все-таки уезжаем. Но об отъезде Духонина узнали писаря и разные команды – и не отпускают его из штаба… говорят, даже выбросили все уложенные уже дела из автомобиля и заперли ворота, а без Духонина мы решили не уезжать. Теперь идут там какие-то переговоры. А пока садитесь и завтракайте… быть может, долго не придется завтракать в таких приличных условиях.
«Хороши приличные условия!» – невольно подумал я, но сел за стол, так как был очень голоден. Завтрак кончился, прошло еще часа 2–3.
«Переговоры», видимо, все продолжались. О них неоднократно справлялись по телефону, посылались офицеры узнавать, но результат был все неопределенный. То Духонин решил под давлением штабных команд оставаться, то решил уезжать и только ждал для этого удобной возможности. Наступило время обеда, который был подан в положенное время и за которым определилось, что вряд ли что сможет выясниться в этот день, и большинство из союзных миссий решили переночевать у себя в городе и отдали распоряжение, чтобы их вещи, необходимые для ночлега, были привезены обратно из поезда.
Меня с моей гостиницей «Франция» уже ничего не связывало, и я, чтобы не вставать утром рано и бесплодно не искать извозчика, решил ночевать в вагоне.
Я зашел ненадолго к своему приятелю доктору Чашкину, которого ранее не успел предупредить лично о своем возможном отъезде.
К сожалению, я не застал его и на этот раз дома и, подождав некоторое время, написал ему короткую записку, в которой предупреждал, что часы Ставки сочтены, и, объяснив, в чем дело, добавил, что если завтра утром, до 10 часов, мои иностранцы и Духонин будут по-прежнему не приходить ни к каким решениям, а вести бесплодные переговоры с писарями и спокойно ждать, как их захватят большевики, то я не иностранец и никаким образом не желаю попадаться в их руки.
И так как из всех решений самое худшее ни на что не решаться, то я и решил больше не выжидать, а, имея отпускной билет в кармане, пробраться на север, к своей семье, чтобы, если будет возможно, вывезти ее на юг – а что дальше, там будет видно.
Затем я зашел ненадолго в Могилевский братский монастырь, чтобы приложиться к чудотворной иконе Божьей Матери и помолиться перед долгим, неизвестным путем.
На вокзале я с трудом в темноте отыскал свой поезд, уже отведенный на далекий запасный путь, нашел в нем спящими некоторых из младших офицеров иностранных миссий, кое-как сам устроился на ночлег и забылся в полудремоте.
Проснулся я утром 19 ноября, довольно поздно, когда было уже светло. Никаких распоряжений о приготовлении поезда к отправлению сделано не было; ничего не передавали и об отмене.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































