Текст книги "Едва слышный гул. Введение в философию звука"
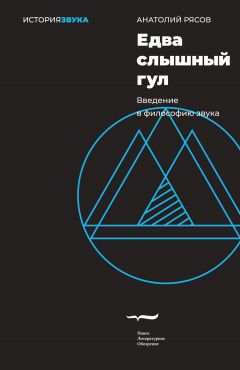
Автор книги: Анатолий Рясов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
§ 13
ЗВУКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
В 2010‐х годах появились психологические исследования о людях, страдающих необычными звуковыми галлюцинациями: интернет-пользователям, ожидающим новых комментариев, мерещатся издаваемые смартфоном сигналы несуществующих уведомлений. Так сон подводит свой сюжет к звуку, который в конце концов нас будит, или же это можно сравнить с резонирующим гулом, который ощущает человеческое тело перед началом землетрясения, если бы не кардинальная разница: речь идет о звуковом приближении несостоявшегося события. Впрочем, в качестве примера здесь не обязательно выбирать патологии. Вообразим человека, замершего при виде откупориваемой за праздничным столом бутылки шампанского. Он ждет хлопка, но внезапно пробка отделяется от горлышка почти бесшумно. Он понимает: то, что он в итоге слышит, не соответствует масштабу его ожидания. Ведь внутри себя он уже услышал нечто иное. Шумы в кинофильмах нередко опережают или замещают визуальные события, здесь же перед нами иная ситуация: помысленный звук предварил то, чего не произошло. Почти как в случае с уже упомянутым выстрелом из романа Андре Жида.
Так или иначе, мы действительно способны слышать звуки до того, как они прозвучали, а порой и вовсе не прозвучавшие. Эта тема все еще весьма далека от банализации и толком не проработана. Мы можем вообразить, к примеру, звук шагов, затем уточнить: стук каблуков по каменному полу, хруст гравия под сапогами или гул, отдающийся по лестничному пролету. Это, в свою очередь, позволяет погрузиться в дальнейшие тонкости: мысленно услышать этот звук с разной реверберацией, представить тот же топот с сокращенным динамическим диапазоном, с добавленными высокими частотами или, наоборот, с утрированным низкочастотным гулом. «Функция языка не информировать, а вызывать представления»183183
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 1995. С. 69.
[Закрыть], – писал Лакан. Но в случае звуков эти представления как будто бы остаются слышимыми. Музыканты легко пропевают про себя оркестровые партии, и звучащую в голове мелодию не может заглушить даже уличный шум. Едва ли не любой из этих помысленных звуков можно условно назвать подобным бессознательным пропеванием.
Каким же образом в тишине или даже при наличии постороннего шума мы способны мысленно слышать звуки? Или все-таки, вопреки войне с визуальным, корректнее было бы говорить о способности увидеть звук? Деррида утверждал, что фонему невозможно помыслить вне представления графемы, так как она присутствует внутри нашей мысли, прежде всего в виде графического символа. Но фонема – не синоним звука как такового. А должен ли каждый звук быть помыслен именно таким образом? Музыкальный звук представляется в виде графемы-ноты. Но нужно ли непременно представлять некую «графему» нетонального звука, чтобы мыслить его? Или все же для того, чтобы помыслить звук, нам не обойтись без миметического «пропевания»? Неужели мы мыслим скрип двери или гул ветра как что-то, похожее на графемы? Или все-таки мы воспроизводим их внутри себя и звуку вовсе не требуется изображение, чтобы быть представленным? Пора ли в таком случае признать ошибку Деррида, обозначив упоминание графемы как подмену длящегося статичным, против которой предостерегал еще Бергсон?
Попробуем определить это дление-пропевание. Откуда оно берется? С ним все не так-то просто. Еще недавно мы воображали, что о звуке и слухе нам многое известно, классифицировали тембры и систематизировали их свойства – и вдруг опять соскальзываем в какую-то вязкую темноту. Привычная картина рушится, ведь принципиальной здесь оказывается именно беззвучность пропевания: стоит изобразить плеск волн голосом, как точное воспоминание угрожает превратиться в ужасающую пародию, настолько далекую от оригинала, что любое словесное или даже графическое описание звука покажется куда более надежным средством его передачи. И одновременно нет никакой уверенности в том, что тот, кто абсолютно несхоже изобразил звук, так же неточно слышал его в своих мыслях. Здесь машина памяти похожа на аналоговый магнитофон, настроенный только на запись, но не на воспроизведение. «Как звучит струнный квартет?» – этот простой вопрос способен поставить нас в тупик. Если музыканты не сидят перед нами и под рукой нет аудиозаписи, мы можем в лучшем случае напеть мелодии, попытаться по очереди имитировать тембр каждого из четырех инструментов квартета или же описать звучание словами, заранее понимая, что обречены на фиаско: квартет все равно звучит не так.
Но если мы не можем ответить на подобного рода вопросы, откуда же тогда берется внутренняя уверенность в том, что мы способны мыслить звук, не слыша его? И как определить этот процесс? Признаем его воспоминанием об услышанном звуке, внутренним мимесисом, попыткой молча повторить его для себя. Очевидно, на этом этапе еще легко прийти к некоей конвенции. Значит, звук все-таки должен быть записан в памяти, и все сказанное о звукозаписи остается в силе. Но учимся ли мы мыслить звук или просто имеем эту способность как данность? Можно ли, к примеру, быть уверенным в том, что маленький ребенок, представляющий шум автомобиля, делает это менее достоверно, чем водитель, ежедневно вставляющий ключ в замок зажигания? И сразу еще один вопрос: всегда ли нужно сначала услышать звук, чтобы помыслить его?
Здесь здравый смысл несомненно должен выдвинуть свои возражения. Но в ответ на эти несогласия нужно решительно убрать знак вопроса: каждый из нас, несомненно, может помыслить звук, которого никогда не слышал, – вообразив его. Вспомнив о том, что другие быстрее узнают твой голос в записи, чем ты сам, можно еще раз споткнуться об эту проблематичность разделения памяти и вымысла. Фундаментальна ли для мышления разница между уже услышанным звуком, еще не услышанным и тем, который не будет услышан никогда? Ничто не мешает представить шум водопада, которого ты никогда не слышал, и едва ли эту фантазию можно назвать абсолютно ложной по сравнению с воспоминанием того, кто пытается освежить в памяти свое давнее пребывание на берегах Ниагары. Гуссерль вряд ли согласился бы нивелировать это различие между памятью и фантазией, но речь здесь не об отсутствии разницы между восприятием и воспоминанием (в таком случае мы бы в принципе не испытывали потребности в переслушивании музыки). В свою очередь, Сартр писал, что даже сидящий в концертном зале слушает симфонию в своем воображении, однако для того, чтобы воспринять ее как феномен, преподносимый новым исполнением, «нужно выполнить образную редукцию, то есть схватить в качестве аналогов именно реальные звуки»184184
Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Пер. с фр. М. Бекетовой. СПб.: Наука, 2001. С. 315.
[Закрыть]. Но здесь имеется и еще один уровень. Дело в том, что в отношении своей принадлежности миру и непосредственное восприятие, и такие факты сознания, как память и фантазия, абсолютно равнозначны. И вспоминая, и воображая, мы способны услышать беззвучный звук.
Память и действительность должны существовать в одном и том же пространстве. В свою очередь образ и действительность также существуют в одном пространстве185185
Wittgenstein L. Philosophical Remarks / Trans. from the German by R. Hargreaves and R. White. Oxford: Basil Blackwell, 1998. P. 38.
[Закрыть], —
здесь Витгенштейн снова способен дать фору феноменологам.
Однако, углубившись в воспоминания и представления, можно легко пройти мимо вопроса, с которого, вероятно, стоило начать этот разговор: мыслим ли мы звук в тот момент, когда слышим его? Или мгновенно оказываемся в плену переживаний? Есть соблазн устремиться в сторону рассуждений о быстрой перекодировке звука в некую знаковую систему – столь стремительной, что человек, как правило, даже не способен уловить ее законов, но здесь слишком легко увязнуть в нескончаемом процессе подмены мышления мыслительными инструментами. Феноменологическая философия оставляет физике анализ звуковых волн, биологии – слуховые механизмы, а психологии – эмоции слушателя. Интенциональность и смысл населяют эту среду каким-то иным способом, и именно здесь разговор о слышимом наконец-то открывает возможность выхода за пределы коммуникативных кодов.
Казалось бы, что́ может быть проще: нечто звучит, мы его слышим и мыслим как звучащее здесь и сейчас (одновременно или почти одновременно со звучанием). И даже если мы в этот момент кодируем звук с помощью инструментов слуха в некую информативную систему, позволяющую воспринять его, перцептивный акт все равно имеет принципиальные отличия от воспоминания об услышанном звуке. И все же: мыслим ли мы сам звук или некий знак звучащего? Избавлено ли это мышление от психологизации звучания или продолжает испытывать эту угрозу? И наконец: слыша звук, думаем ли мы о самом звуке или все еще сохраняем воспоминание о его источнике? Так, можно считать, что размышляешь о природе света, а в действительности лишь рассматривать лампу и освещаемые ею предметы. Ведь звукорежиссер способен часами слушать звук, но при этом относиться к нему исключительно как к функции, думать только о его применении: об обработке и преобразовании. Во время записи и сведе́ния у него обычно нет времени на что-то другое. Архитекторы-акустики меньше озабочены обработкой звука, поскольку помнят о том, что звук всегда приходит к нам «обработанным» пространством, в котором он прозвучал. Звук обладает способностью заполнять помещения, оставаясь невидимым и как будто бы внепространственным. Но разговоры о спектре, колебательной скорости, плотности и давлении приближают нас к феноменологии звука не больше, чем изучение алфавита помогает пониманию речи. Не ширина стереобазы или степень компрессии первичны в разговоре о звуке, но одновременно это вовсе не повод считать, что физики, акустики и аудиоинженеры стоят от мышления о звуке дальше, чем дилетанты, полагающие, что можно запросто перешагнуть через проблему техники.
Желание перескочить через «ненужный» звукорежиссерский опыт, как правило, оказывается лишь увязанием в бесконечных мифах. Казалось бы, обычный слушатель отличается от аудиоинженера большей степенью близости к «звуковому целому» и чистому восприятию, ведь он способен слушать музыку, не разделяя ее на отдельные тембры, частоты, инструменты. Но порой такой «идеальный слушатель» не замечает разницы между струнным оркестром и синтезатором. Увы, несмотря на все сказанное о феноменологической редукции, дилетант слишком часто находится вовсе не вне сферы опыта, а лишь на начальной стадии его накопления. Нарочитое невнимание к деталям и безграничное доверие случайности вовсе не определяет степени приближения к «мистической силе» звука. В звукозаписи роль случайности действительно порой оказывается принципиальной: так, простой перебор обработок может привести к столкновению с единственно нужным эффектом, а случайно открытый переговорный микрофон иногда заставляет поменять концепцию сведе́ния, и дорожка, предназначавшаяся для сугубо технических целей, становится главной. Однако опыт звукорежиссера заключается и в необходимости выбора между случайностями: схожим образом музыкант-импровизатор предпочитает один из записанных дублей. Звукорежиссерское восприятие, заточенное на баланс, сочетания тембров, задержки сигналов и т. п., вполне заслуженно претендует на особый режим слушания. Стоит предельно внимательно отнестись к опыту и к деталям, но не нужно считать, что проблема звука ими и ограничена. Звукорежиссер Юрген Копперс на мой вопрос, почему в его студии отсутствует спектроанализатор, ответил: «Музыка часто красиво выглядит, но дерьмово звучит».
Но пора вернуться к вопросу о мышлении-воспоминании и мышлении-вслушивании. Неужели сидящий на берегу моря и вслушивающийся в шум волн вернее помыслит их плеск, чем тот, кто сформулирует свои воспоминания о морском гуле за столом в кабинете? Разве не чаще бывает наоборот? Мышление о звуке не обязано быть похожим на рисование с натуры. Возможно, как раз бросаясь навстречу звучанию, мы теряем его, а приближаемся странным образом именно тогда, когда погасло даже его эхо. Но если мы слышим его так поздно, то уж наверняка ловим что-то другое и скорее заняты осмыслением собственного мышления, вновь и вновь путаем entendre и écouter, подменяем вслушивание очередной интерпретацией нашего восприятия или превращаем звук в картезианский объект исследования. Может быть, мы лишь раз за разом выхватываем из звука обрывочные фрагменты и потом задним числом пытаемся складывать эти осколки в некое целое?
Но существует же, в конце концов, общепринятое разделение на переживание и рефлексию. Мыслительный анализ действительно очень часто способен превращать переживание в скверный конспект, лишь отдаленно напоминающий оригинал. Аналитический разбор переживания всегда запаздывает в отношении самого́ переживания. Кроме того, здесь нужно учесть умение формулировать впечатления, и тогда речь уже будет идти о хорошо или плохо артикулированном переживании, а не о степени точности. Стало быть, вместо того чтобы учиться слушать, феноменологу звука придется учиться риторике. Что же не так с этим разделением восприятия на переживание и рефлексию? Странным образом, оно звучит убедительно только в том случае, если уже принято, если представлено как давно решенное. Стоя на берегу и вслушиваясь в шум моря, я переживал его, а вернувшись домой – принялся его осмыслять: почему-то это высказывание кажется пропитанным фальшью. Откуда-то сам собой возникает протест, словно мы заранее знаем, что так не бывает. Слишком часто мы затрудняемся сказать, где осмысление, а где переживание: момент перехода неясного представления в рациональное высказывание едва ли возможно уловить.
Воспринимать – не значит испытывать множество впечатлений, которые будто бы ведут за собой дополняющие их воспоминания, это значит видеть, как из некоего созвездия данных бьет ключом имманентный смысл, без которого не было бы возможным никакое обращение к воспоминаниям186186
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 48.
[Закрыть], —
Мерло-Понти выбирает здесь слово смысл, но с равным успехом можно было бы сказать о чем-то более раннем – например, о сгущенных возможностях смысла, с которыми сталкивает нас звук. Он существует на окраинах значений и захватывает нас до того, как мы начинаем делить восприятие на бесконечные подгруппы – ощущение, воспоминание, рефлексию.
В этом контексте довольно симптоматичным оказывается недоверие Шиона к понятию тембра и желание разоблачить его собирательно-метафорическую сущность, рассортировать его на более четкие подвиды. Шион проводит аналогию с узнаванием человеческого лица, которое можно разложить на конкретные составляющие вроде характерной формы подбородка или цвета глаз187187
Шион М. Звук: слушать, слышать, наблюдать. С. 222–223.
[Закрыть]. Но именно этот пример мгновенно очерчивает узкие границы подобного подхода, заставляя вспомнить предложенный Витгенштейном концепт «семейного сходства»: узнавая чье-то лицо или родственность двух лиц, мы в принципе не нуждаемся в раскладывании их на детали, более того – если мы начнем проводить подобные классификации и сравнивать брови, зубы и носы, то место лиц быстро займут блеклые фотороботы. Шиона, напротив, удручает ситуация, в которой «едва ли создается впечатление, что есть какие-то международные разногласия в том, как обстоят дела с геометрией или теорией множеств. В том же, что касается звука, царит абсолютный разнобой»188188
Там же. С. 249.
[Закрыть]. Несмотря на оговорки о релятивизме, он испытывает нескрываемый восторг, когда находит подходящий термин для того или иного звукового события, составляя предельно точную (насколько позволяют имеющиеся в нашем распоряжении слова) «описательную анкету» и предлагая внушительную типологию звуков, в которую тембр, разумеется, не сможет вписаться даже в качестве собирательного понятия. Однако этот множащийся каталог неологизмов – в котором, к примеру, аудио-визуальное оказывается дополнено не только визуальным слушанием, но также понятиями вроде аудио-визогенного и аудио-дивизии – в какой-то момент начинает вызывать улыбку: пожалуй, самым последовательным шагом здесь должен стать отказ от употребления бытового, ненаучного и предельно неточного слова «звук». На этом этапе расплывчатый и критиковавшийся многими «звуковой ландшафт» Шейфера начинается казаться более ценным, чем выстраиваемая Шионом иерархия терминов. Реестры, претендующие на всеохватное понимание явления, оказываются лишь каталогизацией его признаков и, несмотря на множество ценных наблюдений, в конечном счете не выходят за границы семиотики.
Все эти классификации нередко позволяют вернуться на исходный уровень слушания с новыми сведениями, и тем не менее они кажутся свидетельствами запоздалого дистанцирования от звука, попытки вслушаться в него с «безопасного» расстояния, тогда как интегральное восприятие – сам акт захваченности – всегда предшествует этим цепочкам представлений. Именно поэтому от подобных разделений всегда будет ускользать первичный импульс вслушивания, еще не вытесненный последующими умозаключениями: состояние странной, завораживающей амехании, в которой раскрывается мир. Момент, когда суждение не кажется чем-то необходимым. Пристальное вслушивание действительно похоже на сон – это тоже опыт потери субъекта, но странным образом оно же и возвращает к субъекту, регенерирует его. Как писал Долар, размышляя о звуках, вторгающихся в сновидение, «в нашем повседневном опыте есть нечто изначально объединяющее грань, которая отделяет сон от бодрствования, с само́й природой звука»189189
Долар М. Самый рискованный момент. Кафка и Фрейд / Пер. с англ. И. Аксенова // Новое литературное обозрение. 2012. № 4. С. 220.
[Закрыть].
Этот интегральный опыт вслушивания дает возможность вернуться к незавершенному спору психоанализа с феноменологией. Перцептивное сгущение заставляет вспомнить о Verdichtung Фрейда и метафорической природе сновидения, подробно проанализированной Лаканом: эта конденсация «представляет собой структуру взаимоналожения означающих, являющуюся полем действия метафоры – структуру, само имя которой, включающее в себя слово Dichtung (поэзия), указывает на родство указанного механизма с поэзией, и родство настолько тесное, что он вбирает в себя традиционную функцию этой последней»190190
Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. С. 43.
[Закрыть]. Еженощное ускользание субъекта, испытываемое каждым из нас при погружении в сон, вплотную сближается с превращением слушающего в пространство резонанса. Упоминание о цепочке означающих не должно вводить в заблуждение: это отнюдь не возвращение к классификации знаков, но (как и в разговоре о грамматологии голоса) указание на фундаментальные принципы или, говоря языком Лакана, возвращение букве ее онтологического достоинства. Иными словами, какой бы из путей мы ни выбрали – феноменологический или психоаналитический, – оба они в итоге приведут к одному и тому же – к онтологии.
ГЛАВА V
К онтологии звука
Полвека назад Шейфер писал о проблеме перенаселенности мегаполисов звуками. С тех пор успели появиться наушники и мобильные приложения, направленные на подавление внешнего шума и позволяющие слушать музыку в метро, в аэропорту, в любых местах с большим скоплением людей. Одним из способов борьбы с окружающим грохотом стала функция выравнивания громкости прослушиваемых треков. Монтажеры, вклеивающие «аналоговые паузы» между частями симфоний, в этой системе координат рискуют показаться безумными. Теперь важнее не сравнивать молчания разных студийных залов, а иметь возможность слушать музыку, прогуливаясь по тротуару рядом с десятиполосным проспектом. В этом вычищении шума из наушников есть какой-то абсурд, оно похоже на освобождение пространства для уединения в самом центре толкотни. Вместо того чтобы находить возможность для сосредоточенного прослушивания, люди готовы приносить в жертву динамический и частотный диапазон ради «победы» над шумом метро. Мы не отдаляемся от шума, а пытаемся расслышать хоть что-то, любой ценой оставаясь внутри городского громыхания. Чаще всего мы слушаем аудиозаписи «на ходу», довольно часто в режиме произвольного воспроизведения треков, превращая это занятие в аккомпанемент для других, более насущных дел, а приложения, вроде бы направленные на «защиту» музыки, как ни странно, очень часто еще больше способствуют ее превращению в фон. И тем не менее даже в суете мегаполиса не теряется фундаментальное свойство звука: для того, чтобы быть услышанным, он должен быть окружен хотя бы суррогатом тишины, защищающей от вторжения других звуков.
При этом настоящая тишина в этом звуковом изобилии, как правило, оказывается чем-то нежелательным. Возвращаясь к странному гулу, наводившему страх на героя Краснахоркаи, можно вспомнить, что «призрачный колокольный звон напугал его, но еще больше пугала внезапная тишина, угрожающее безмолвие, потому что он чувствовал, что в эту минуту может произойти что угодно»191191
Краснахоркаи Л. Сатанинское танго. С. 13.
[Закрыть]. Посетители безэховых камер не так уж часто делятся восторженными отзывами об этом опыте: обычно людям не нравится находиться в глухих комнатах дольше нескольких минут. Исключением стал Джон Кейдж, который готов был провести там несколько часов, поджидая тишину, но встреча с беззвучностью не состоялась: он быстро услышал непривычные высоко– и низкочастотные биения, производимые собственной нервной системой и кровеносными сосудами. Так, в документальном фильме Вернера Херцога «Страна молчания и темноты» глухая женщина рассказывает, что в ее мире нет ничего похожего на тишину – сплошные трески, шепоты, скрипы.
Засыпая, можно подолгу ждать момента, когда стихнут все далекие шорохи и шуршания, и тогда тишина становится союзником. Боязнь тишины, ежедневное бегство от нее и одновременно грезу о ней несложно связать со страхом смерти, подсознательно символизируемой отсутствием звуков.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































