Текст книги "Едва слышный гул. Введение в философию звука"
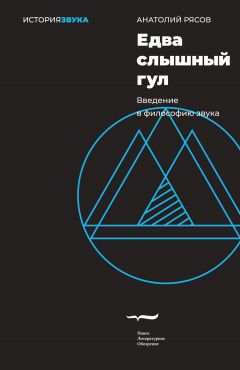
Автор книги: Анатолий Рясов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
§ 9
ПРОГРЕСС КАК НОСТАЛЬГИЯ
Еще один стереотип, предлагаемый многими звуковыми исследованиями, дает повод вернуться к вопросу о технике. Начиная с позднего модерна, слуховой опыт манифестируется как принципиально отличный от предшествующих столетий. Более того, само возникновение звуковых исследований во многом обусловлено революцией в технологической сфере. Горожанин, окруженный шумом моторов, электронных сигналов, многоканальными аудиосистемами и портативными плеерами, слышит как-то иначе – более изощренно, чем те, кто бродил по тем же улицам еще сто-двести лет назад, не говоря о более ранних временах. Попадание в современный мегаполис стало бы для древнего грека чем-то вроде путешествия на другую планету: слишком многие звуки оказались бы абсолютно чужими. Исследователи соревнуются в производстве неологизмов, характеризующих новый порядок: на смену шизофонии приходит ризофония. «Изменился сам опыт слышания»8686
Ihde D. Listening and Voice: Phenomenologies of Sound. P. 5.
[Закрыть], – пишет Айди. Наша реакция на окружающие шумы совсем не та, что у наших прадедов: мы в считаные мгновения схватываем бесчисленное количество тонов, с детства учимся анализировать сложнейшие сочетания тембров. «Звуковые миры изменились», – уточняет Стерн. И, несмотря на необходимость постоянной оглядки на опыт прошлых веков, «звуковые исследования как область мысли являются реакцией интеллектуалов на культурные и технологические изменения»8787
Sterne J. Sonic Imaginations // The Sound Studies Reader. P. 1, 3.
[Закрыть].
Почему не хочется безоговорочно соглашаться с вроде бы очевидным тезисом о техническом расширении слухового опыта? Дело не только в том, что технологические манифесты все труднее отличить от рекламных роликов. Само указание на привилегированность опыта современности настолько поспешно, что постоянно перечеркивает само себя. С тем, что историческая ситуация изменяется, сложно спорить, но как будто бы именно желание акцентировать уникальность изменений и мешает продумать их природу. Это давно знакомая примета технического: жизнеспособность программы зависит от заложенного в ней потенциала для обновлений. Как ни странно, даже впечатляющая левая критика «панакустического общества» у Хольгера Шульце почти не покушается на саму идею привилегированности позднего модерна, поэтому здесь и требуются всевозможные «человекоподобные пришельцы» и «потребители звуков», в очередной раз маркирующие уникальность происходящего и подспудно сохраняющие представление об исключительности слухового опыта современности8888
Shulze H. Sound Works. A Cultural Theory of Sound Design. New York: Bloomsbury, 2019.
[Закрыть].
Едва ли не каждый разговор о будущем чаще всего начинается с темы развития технологий. В какой-то момент разница между эпохами стала ярче ощущаться именно при сопоставлении технических возможностей: вслед за разделением древнейшей истории на каменный и железный века стало привычно дробить по этому принципу и совсем недавние события. Так, мы говорим о времени до и после появления компьютеров, интернета, мобильных телефонов, а внутри этих классификаций появляются свои подглавы. То и дело провозглашается очередное открытие, которое в один миг «изменяет все» и объявляет предшествующие периоды чем-то вроде первобытных эпох. Не совсем ясно, правда, как древние греки, жившие столь медленно по сравнению с нами, в течение суток преодолевающими сумасшедшие расстояния, в области мысли за полтора века сделали так много, что всемогущие компьютеры едва ли способны помочь нам разрешить загадку тех столетий? Впрочем, отвечать на этот вопрос нет времени, ведь будущее стремительно окружает нас как неустанно продолжающий расчерчиваться проект, как заманчивые и опережающие друг друга прогнозы. Техника сама собой подталкивает к выводам о масштабности преобразований: изобретение iPod – это революционное изменение слухового опыта, рождение IMAX – символ новой эры. В результате «эпохи» начинают сменять друг друга быстрее, чем листки в отрывном календаре. Вроде бы мы собирались поговорить о звуке, но вновь и вновь незаметно оказываемся на территории технического.
За темпами развития технологий становится все сложнее успевать, но при этом открываются новые и новые музеи техники, рождается странное и, казалось бы, абсолютно неуместное чувство ностальгии по вышедшим из употребления техническим объектам. Винтажное оборудование становится не только предметом профессионального интереса, но и неотъемлемым элементом моды. На фоне подобного увлечения устаревшими и зачастую лишенными массы современных функций приборами довольно забавными выглядят мысли Сюхэя Хосокавы, изложенные в программной для sound studies статье о нарушившем производственную логику технологическом «регрессе» портативного плеера в сравнении с многофункциональным рекордером: «Walkman формирует новую парадигму, внося революционные изменения в прагматические, а не технические аспекты прослушивания музыки»8989
Hosokawa S. The Walkman Effect // The Sound Studies Reader. P. 106–107.
[Закрыть]. Не совсем ясно, что нового в этой парадигме, если еще граммофон отменил так называемый закон усложнения, сделав ставку именно на удобство домашнего прослушивания и ознаменовав первый отказ от функции записи (очевидный «шаг назад» в сравнении с фонографом). Вполне закономерно, что через некоторое время этот бег на месте продолжится и роль новатора перейдет к iPod, о чем вслед за рекламодателями заговорят звуковые исследователи, например Майкл Булл: «он легко помещается в карман и при прослушивании не требует дополнительных усилий в отличие от своего предшественника Sony Walkman, требовавшего от пользователя возни с заменой кассет, CD или мини-дисков… Технология MP3 изменила восприятие музыки»9090
Bull M. iPod Culture: The Toxic Pleasures of Audiotopia // The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 527.
[Закрыть]. Но еще через несколько лет у меломанов вновь проснется интерес к винилу и даже кассетам. Однако главная проблема этих рассуждений – не необходимость уточнения понятий «прогресс» и «регресс», а ложность самого́ противопоставления прагматического и технического. Ни увеличение функций, ни, наоборот, их сокращение, ни высокая точность, ни удобство использования не могут претендовать на роль главных направляющих в процессе развития технологий, напротив – именно разрастание противоречащих друг другу подходов служит гарантией жизнеспособности дальнейшего производства. Даже избавление от разного рода побочных эффектов не является здесь серьезным критерием: сегодня появляются сотни плагинов, эмулирующих звучание аналоговых приборов и даже оснащенных кнопками добавления и усиления «лампового» шума. Этот ностальгический элемент проявился еще в работах Маршалла Маклюэна по теории медиа: технологическая эра рассматривалась им как возвращение к дописьменной традиции и пробуждение Африки внутри нас9191
Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего / Пер. с англ. И. Тюриной. М.: Академический проект, 2015.
[Закрыть]. Отчего-то прогресс нуждается не просто в оглядке на прошлое, но в ностальгии по нему. Удивительно, но мысли об уникальном технологическом опыте современности и тезисы о реактуализации общинно-племенных ценностей вполне способны уживаться друг с другом.
При этом адепты той или иной технологии постоянно вступают в открытую полемику. «Устаревшие» технологии далеко не всегда готовы мгновенно уступать свое место новым. В сфере звукозаписи противостояние аналоговой и цифровой идеологий по-прежнему остается принципиальным. Несмотря на возможность эффективного взаимодействия ламповых микрофонов и цифровых аудиостанций, споры на эту тему год за годом продолжают вспыхивать с новой силой. В музыкальных кругах предметом столь же острой полемики выступают предпочтения в области акустических и электронных инструментов. Казалось бы, тема давно исчерпала себя, и на этапе смешения технологий любой, кто шагнет в сторону специализации, должен почувствовать неловкость, но почему-то этого не происходит.
Нередко спорящих почти удается примирить аргументом о том, что речь идет лишь о выборе инструмента, который при должном профессионализме способен привести к тому же результату. Вопреки популярности медиатеорий, мысль о технике как о нейтральном орудии продолжает транслироваться во множестве публикаций: создается впечатление, что речь идет о театральном бинокле, который можно спокойно отложить в сторону, продолжив смотреть спектакль. Словно можно не вспоминать о том, что техника – вовсе не вспомогательный инструмент, а пространство и условие существования звукозаписи. Взгляд на оборудование как на что-то второстепенное, вроде бы призванный обратить внимание на пределы технического, продолжает оставаться лучшим плацдармом для сохранения техники в качестве идеологии. Поразительно, что миф о нейтральном орудии продолжает сохранять свою силу в эпоху, когда техника готова удовлетворить большинство потребностей музыкантов и звукорежиссеров еще до того, как они дали о себе знать. Используемое оборудование порой настолько сильно определяет звучание музыки, что разговор о ней невозможен в отрыве от технологии. И эта проблема в той или иной степени коснулась всех музыкальных жанров.
Если еще полвека назад взаимодействие музыки и технологий выходило за рамки ожидаемого, то сегодня это общее место, нечто привычное, даже вульгарное. В синтезированной музыке давно скопилась собственная свалка клише, которая и позволяет академистам высокомерно говорить: «Это всего лишь электроника» (деликатно умалчивая, что исполняемые ими симфонии давно принято записывать по частям, а нередко и монтировать по тактам). При этом в процессе мастеринга музыки самым сложным объектом обработки действительно остается симфонический оркестр: он куда менее предсказуем в реакции на компрессию и эквализацию, чем электронные тембры, алгоритмы которых делают воздействие обработки вполне прогнозируемым. Кроме того, степень компрессии по-прежнему весьма критична для звучания оркестровой музыки, и поэтому симфонические записи по сей день не подходят для прослушивания в метро. Так, во многих современных цирках, активно задействующих звукоусилительную аппаратуру, присутствие живого оркестра может показаться абсолютным архаизмом на фоне дискотечного грохота. Впрочем, еще на начальном этапе именно звукозапись способствовала популярности легких жанров: работать с малыми составами было значительно легче, чем с оркестрами, непредсказуемый динамический диапазон которых вызывал искажения. Все это позволяет молодому композитору, предпочитающему виртуальные синтезаторы и уверенному в том, что уже завтра оркестры будут не нужны, а акустическая музыка – это что-то архаичное вроде кружевных манжет, сказать: «Это всего лишь оркестр». Не важно – флейта или скрипка, все можно засэмплировать, исполнить на клавишах, главное – следить за появлением новых виртуальных синтезаторов. В свою очередь, прослушав номинантов премии «Грэмми» последних лет, можно прийти к продолжающему эту цепочку наблюдений выводу: звучание этих групп намного интереснее, чем их репертуар. Примерно с начала 2000‐х годов стало появляться все больше оснований для того, чтобы говорить об эволюции в области звукозаписи на фоне растущей музыкальной стагнации. Более того, именно стремительное развитие технологий – главная причина этого застоя и превращения музыки в гигантский архив, в котором новые композиции все больше начинают напоминать фотовоспоминания, генерируемые социальной сетью.
Долгое время характерным воплощением конфликта отцов и детей были «культурные разногласия», к примеру расхождения во вкусах в области искусства. Аттали всерьез утверждал, что именно модернизация принципов сочинения, исполнения и восприятия музыки неоднократно определяла изменения в области экономики и политики. Однако начало нового тысячелетия ознаменовалось вовсе не потребностью молодого поколения сбросить очередной культурный памятник с парохода современности, а тем, что место на пьедестале, который раньше принадлежал искусству, заняли технологии. Быть может, именно эта примета лучше, чем многие, обозначает случившиеся перемены. «Нейтральный инструмент» внезапно оставил в тени производимые с его помощью культурные объекты. Очереди за новой моделью планшета оказались длиннее, чем ряды выстроившихся за билетами на концерт, а обновление дизайна операционной системы стало более важным событием, чем вернисаж выставки или выход нового музыкального альбома. Еще недавно музыка, казалось, заполняла все пространство (портативные плееры, прохожие с магнитофонами на плечах, раздающиеся из автомобильных окон ритмы, вездесущие радиоволны), но вот спустя какие-то десять-двадцать лет она превратилась в содержимое нескольких не самых популярных приложений в смартфоне. Множество культурных сфер стали узкоспециализированными, но они оказались прочно связаны на другом уровне: в роли их узлового центра теперь выступают технологии. Возможно, единственным опровержением этого порядка сможет стать только деконструкция технического концепта, и в частности – звукозаписи как одного из его подвидов.
В 2009 году Эрик Харви в статье «Социальная история MP3» пришел к симптоматичному выводу: начало XXI века стало для поп-музыки первым десятилетием, которое «войдет в историю благодаря звукозаписывающим технологиям, а не само́й музыке»9292
Harvey E. The Social History of the MP3. URL: https://pitchfork.com/features/article/7689-the-social-history-of-the-mp3/.
[Закрыть]. Спустя еще несколько лет гротескной иллюстрацией к этому тезису стали проекты Найджела Стэнфорда, в одном из которых его музыку исполняют промышленные роботы9393
URL: https://nigelstanford.com/Automatica/.
[Закрыть]. И хотя клип Automatica завершается опостылевшим рок-клише – разрушением всей задействованной в записи техники (в данном случае включающей и самих исполнителей), ситуация, в которой фонограммы будут записываться прежде всего для рекламы очередных технических инноваций, не выглядит столь уж невообразимой. Так, уже многие годы фоновая функциональная музыка создается исключительно для использования в торговых пространствах, решая задачу повышения лояльности покупателей и создания атмосферы, благоприятствующей шопингу. Да и можно ли сегодня назвать шокирующей антиутопию, в которой музыка в принципе исчезнет из медиаплееров и вытеснится другими развлекательными приложениями? Впрочем, пока куда более привычным остается формат цифрового паноптикума, задворки которого с каждым днем пополняются звуковыми экспонатами – фонограммами, единственными слушателями которых нередко являются их создатели. Там, где еще недавно для анализа происходящего требовался Делёз, внезапно оказалось вполне достаточно работ Бодрийяра: парад симулякров удивительно самодостаточен.
Девальвацию музыкальных идей на фоне усложнения звукозаписывающих технологий убедительно проанализировал Саймон Рейнольдс в книге «Ретромания»: «Такое положение дел рано или поздно может привести к тому, что мы просто забудем, что когда-то в популярной культуре появлялось нечто новое»9494
Рейнольдс С. Ретромания: Поп-культура в плену собственного прошлого / Пер. с англ. В. Усенко. М.: Белое яблоко, 2015. С. 464.
[Закрыть]. Или же, если новое все-таки появится, у нас не будет почти никаких шансов его заметить. С наступлением цифровой эры архивирование прошлого достигло ошеломительных масштабов, но бесконечная каталогизация все больше напоминает грандиозную свалку, при блуждании по которой археологи медиа по инерции продолжают сравнивать один обломок с другим, а множащиеся интерпретации становятся неотличимы от заблуждений и фальсификаций.
Техника, сыгравшая важную роль в футуристических манифестах, быстро обнаружила странную особенность: обратной стороной автоматизма и планирования оказались неизбежность сбоев и производство с расчетом на износ. Давно перестала казаться преувеличением мысль о том, что современное оборудование начинает устаревать до того, как поступает в продажу. Еще до Второй мировой войны Фридрих Юнгер обратил внимание на то, что «развороченная и разбитая на части техника, фантастически скрученная и разодранная»9595
Юнгер Ф. Г. Совершенство техники. Машина и собственность / Пер. с нем. И. Стребловой. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 176.
[Закрыть] – неотъемлемая часть руин, рассыпанных на полях сражений. Сегодня многие электронные устройства выбрасываются всего лишь спустя год эксплуатации, и все же представление технической сферы прежде всего как скопления развалин по-прежнему выглядит экзотичным.
§ 10
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ УСТНАЯ ЭРА
Так что же общего между устремленными в будущее технологиями и руинами прошлого? И может ли понимание техники выйти за пределы этой парадигмы? Подступаясь к ответу на эти вопросы, я хотел бы вспомнить об одном эпизоде из третьего тома романного цикла Марселя Пруста. Герой, отвечая на телефонный звонок своей бабушки, задумывается о том, что у него впервые появилась возможность по-настоящему вслушаться в ее голос: «голос, который до сих пор напрасно казался мне знакомым». А в конце этого абзаца появляется еще более любопытный оборот: голос «без маски лица»9696
Пруст М. У Германтов / Пер. с фр. Н. Любимова. СПб.: Амфора, 2005. С. 133–134.
[Закрыть]. Кроме напрашивающегося противопоставления визуального и слышимого, эта довольно короткая в контексте прустовских описаний сцена (но все же слишком пространная, чтобы приводить здесь полную цитату) вбирает целый букет тем, как минимум четыре из которых оказываются напрямую связаны со звуковой письменностью.
Первая из них: несмотря на определенную бестактность в отношении художественного текста, здесь определенно можно различить исторический срез: речь идет о самых ранних этапах столкновения бытовой жизни с техникой, способной воспроизводить звук. Телефон еще не стал предметом повседневности, для разговора с близким человеком нужно идти на станцию, сам этот аппарат с несуразной трубкой – нечто раздражающее и предельно искусственное в сравнении с живой беседой. Пруст использует соответствующие эпитеты: «болтающий кусок дерева», «судороги звучащей деревяшки». Но эта вполне привычная для начала XX века критика технического, называющая голоса из машин карикатурными или даже мертвыми, сменяется более оригинальными размышлениями.
Сначала трубка трещит, затем замолкает (это уже вторая тема) – и лишь потом доносится голос. В переводе Любимова фигурирует фраза «после нескольких секунд молчания», но в данном контексте важно, что оригинальные слова après quelques instants de silence9797
Proust M. À la recherche du temps perdu. VI. Le côté de Guermantes (Première partie). Paris: Gallimard, 1920–1921. P. 164.
[Закрыть] одновременно можно передать и как «после нескольких мгновений тишины». Прочная связь между речью, неясным шумом и тишиной потребует более внимательного прочтения, но прежде я хотел бы обратить внимание на третью тему.
Услышав знакомый голос, герой романа забывает обо всем и оказывается поражен доносящимися интонациями. В них слышны ласка, грусть, тягость житейских проблем, но вдруг впервые становится ясно, что бабушка скоро умрет, что это голос приближающейся смерти. Снова перед нами Пруст как феноменолог звука и голоса – кажется, в одной этой теме можно утонуть. К слову, в данном контексте весьма примечательны многочисленные жалобы писателя на соседей, ведь львиная их доля была связана с шумами, причем самыми разнообразными: стуком при работе электрика, выбиванием ковров, скрипом дверей, пронзительным голосом горничной, работой обойщиков, вбиванием гвоздей в сундуки и даже пением маляров9898
Пруст М. Письма соседке / Пер. с фр. А. Масалевой. СПб.: Лимбус Пресс; Изд-во К. Тублина, 2018.
[Закрыть]. Стоит ли удивляться тому, что Пруст предпочитал писать в обитой пробкой комнате? Впрочем, его затворничество и веру в безмятежность тишины не нужно идеализировать, ведь «это заглушение звуков иной раз даже вместо того, чтобы охранять сон, тревожит его»9999
Пруст М. У Германтов. С. 73.
[Закрыть].
Но пора отметить и четвертую (может быть, самую важную) тему: без маски лица присутствие голоса оказывается ощутимо, если так можно выразиться, еще реальнее, чем в действительности. Заметим еще раз: перед нами ситуация, в которой приходится говорить не с человеком, а лишь с аппаратом, передающим его голос. Не слишком боясь преувеличения, можно сказать, что герой романа слышал голос бабушки в записи, как если бы он воспроизводился граммофоном или радиолой. Странным образом этот гиперреальный голос одновременно был подлинным и незнакомым. В чем-то схожим образом героиня фильма Робера Лепажа «Триптих» пытается вспомнить голос отца, но ничто не помогает ей восстановить его, даже когда она привлекает профессиональных актеров, чтобы озвучить старую пленку. Но в какой-то момент звукорежиссер просит ее саму произнести в микрофон фразу, искусственно понижает запись, и в этом гротескном эффекте питч-шифтера она внезапно слышит подлинную интонацию отца. Дело здесь вовсе не в том, что вымысел оказывается более правдивым, чем реальность. В действительности вещи не могут происходить так, как они выстраиваются в образе, и однако именно так они и происходят: словно в образе спрессовывается весь потенциал их воплощения в действительности. «Комбре возникает, но совсем не таким, каким он был в прошедшем ощущении, а в некоем блеске, в „истине“, никогда не эквивалентной реальности»100100
Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки / Пер. с фр. Е. Соколова. СПб.: Алетейя, 1999. С. 84.
[Закрыть], – писал Делёз о романах Пруста.
Итак, перед нами четыре темы:
– техника;
– тишина;
– феноменология звука;
– двойственность письма.
Пришло время задать вопрос: чей же голос доносился из телефонной трубки? Интонации близкого человека, впервые проявившиеся как подлинные сквозь посторонние шумы и треск, или, наоборот, чужая мелодика, внезапно открывшаяся внутри знакомого голоса? Или же, наконец, именно благодаря предельной чуждости голос и проявил свою истину? Для описания подобных ситуаций Пьер Шеффер в свое время ввел в употребление термин «акусматический голос», в дальнейшем подхваченный звуковыми исследователями. Проблема, разумеется, выходит за пределы технологий, и характерным примером здесь могут послужить диалоги в исповедальнях. Но есть и еще один существенный аспект. Параллель с литературным письмом здесь так очевидна, что нет большой нужды подробно разворачивать аналогию: в виде текста голос одновременно оказывается и предельной условностью, и обретает невероятную силу. На этой амбивалентной сцене и разворачивается все литературное действие. То ли голос обречен интерпретировать неясное послание мысли, то ли мысль прислушивается к смутным зовам, чтобы записать их. Художественное произведение рождается на этой границе речи и письма.
Здесь открывается пространство для взаимодействия многих конфликтов, разыгрывающихся у зыбкого рубежа, разделяющего звук и букву. Рассмотрим некоторые из этих сюжетов, и, возможно, вопрос о звукозаписи перестанет представляться сугубо техническим, а окажется главным местом встречи звука и философии.
Удивительно, но идущее от Маклюэна восприятие современных медиа как в большей степени речевого – аудиального, а не текстуального – пространства не теряет популярности. Sound studies прочно унаследовали взгляды Маклюэна на медиа, и эта преемственность столь очевидна, что не так уж обязательно искать ссылки на его работы (хотя к его идеям прямо апеллируют, например, Берланд, Лабелль, Мартин, Райс и особенно Шейфер101101
Berland J. Contradicting Media: Toward a Political Phenomenology of Listening; LaBelle B. Auditory Relations; Martin M. Gender and Early Telephone Culture // The Sound Studies Reader; Rice T. Sounding Bodies: Medical Students and the Acquisition of Stethoscopic Perspectives // The Oxford Handbook of Sound Studies; Schafer R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World.
[Закрыть]). Среди авторов, пишущих о звуке, самостоятельную концепцию выстраивает композитор Владимир Мартынов, рассматривающий «девальвацию нотопечатного текста, связанную с возникновением звукозаписи» как свидетельство «кризиса власти письма и кризиса принципа письменности»102102
Мартынов В. И. Зона opus posth, или Рождение новой реальности. М.: Классика-XXI, 2005. С. 161, 162.
[Закрыть]. С этим переломным моментом Мартынов во многом связывает надежды на возможность возвращения маклюэновской «внутренней Африки» – восприятия мира, характерного для дописьменных обществ. Однако эпоха программирования и интернета куда убедительнее может быть интерпретирована противоположным образом, и для этого даже не обязательно прибегать к помощи экономического противопоставления между племенным обществом и капиталистической системой. Вопреки мысли о том, что электронно-информационные технологии таят предпосылки для возвращения «устной эры», сегодняшний триумф техники сам по себе обнаруживает внушительный потенциал для анализа происходящего как кульминации письменной, а не устной традиции. Возможно, перед нами лишь начинает открываться необъятное пространство письма, незначительным элементом которого останется устная речь. Вопреки роликам, рекламирующим очередной звуковой или видеоформат, якобы приближающий человека к так называемому естественному восприятию мира, всякая технологическая инновация оказывается новым погружением в глубь символического.
Греческая γράμμα (буква) понимается Мартыновым прежде всего как копия произносимого звука, прибавочный символ, знак знака – то есть именно в том узком смысле, который был серьезно поколеблен работами Жака Деррида, чей концепт первописьма способен распространиться не только на фольклорные сказы, передаваемые от деда к внуку, но и на любые следы в человеческой памяти и даже на генетические коды, годичные кольца или отпечатки водорослей на камнях. Письмо связано вовсе не с наличием карандаша и бумаги, но с самим принципом фиксации чего-либо в виде знака. Письмо является сценой истории и игрой мира и, разворачивая эти проблемы, среди прочих открывает и вопрос техники. В фильме Кена Макмаллена «Призрачный танец» Деррида делает парадоксальное для 1980‐х годов заявление: техника не истребляет фантомы и суеверия прошлого, а множит их103103
McMullen K. Ghost Dance. London: Channel Four Films, 1983. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0nmu3uwqzbI.
[Закрыть]. Телекоммуникация, кинематограф, компьютеры и любые медиа лишь усиливают могущество призраков минувшего. Концепция, впоследствии получившая известность под именем хонтологии, стала лишь одной из вариаций Деррида на его излюбленную тему письма. След буквы присутствует в каждой про-грамме, в каждой фоно-грамме. Символично, что первым звукозаписывающим устройством стал фоноавтограф: машина, игла которой не воспроизводила звуковые колебания, а прочерчивала их волнистые формы на специальных цилиндрах104104
Sterne J. The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham & London: Duke University Press, 2003. P. 31–46.
[Закрыть]. Технология – это эффект письма, безграничное царство призраков, голоса мертвых отцов. Может быть, как раз поэтому техническое так легко соскальзывает в иррациональное?
Любопытно и то, каким образом в эту систему Деррида вписывает будущее. Предстоящее тоже концептуализируется им как письмо, как след, как призрак, как фантазм: «то, что, казалось, было впереди, пред-стояло, будущее, возвращается раньше времени – из прошлого и во-след»105105
Деррида Ж. Призраки Маркса / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Logos-altera, Ecce homo, 2006. С. 23.
[Закрыть]. Более того, как раз в тех случаях, когда будущее предстает как проект, как пространство, которое можно расчертить, как территория, которой следует распорядиться, – именно тогда оно в наибольшей степени одержимо призраками прошлого. В том числе и поэтому, кстати, заслуживают скепсиса неустанные провозглашения новых эпох и смехотворные заявления, что современные люди живут динамичнее древних греков. Здесь концепция Деррида сияет неподдельным совершенством.
Интересно, однако, что в обширном грамматологическом проекте фактически не нашлось места для темы звукозаписи. Есть что-то парадоксальное в том, что продумывание взаимоотношений между манускриптами и магнитофонными записями так и не было развернуто в работах Деррида. Но, как ни странно, именно среди микрофонов, эквалайзеров, аудиостанций и плагинов открывается новый простор для «науки о письме», которую Деррида назвал «не похожей на технологию и историю техники»106106
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. Н. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000. С. 163.
[Закрыть]. Каждый записанный звукорежиссером трек – такого рода след, и в этом смысле дорожки программы Pro Tools не так уж сильно отличаются от протоптанных в лесу тропинок. За знакомой всем благодаря Фрейду аналогией между психикой и машиной (применительно к звукозаписи подробно прокомментированной, например, Фридрихом Киттлером) скрывается более широкая проблема: дело не в том, что работа психического аппарата в ряде аспектов похожа на технический процесс, а в том, что и то, и другое является разновидностью письма.
С появлением звукозаписи φωνή оказывается неразрывно связан с γράμμα. Рождение фонограммы – это этап, на котором сам голос начинает играть роль, на протяжении долгого времени закрепленную за рукой, выводившей буквы. Эта проблема попадает и в фокус sound studies. О’Каллаган задается следующим вопросом: «Если слышимый звук явно производится динамиком, слышали ли вы саму лекцию или же всего лишь некий ее образ или факсимиле?»107107
O’Callaghan C. Sounds. A Philosophical Theory. P. 141.
[Закрыть] Подробно на теме звукозаписи останавливается и Шион (кстати, с прямой отсылкой к «хонтологии» Деррида), среди перечисляемых им отличий фонограммы от незаписанного звука можно выделить следующие: деконтекстуализация звучания, возможность повторного прослушивания и, наконец, превращение последовательности случайных, готовых к исчезновению звуковых событий в завершенную «картину»108108
Шион М. Звук: слушать, слышать, наблюдать. С. 183.
[Закрыть]. Все эти особенности записи значительно изменяют восприятие звучащего. И точно так же, как музыканты пробуют разные инструменты для фиксации одной и той же партии, каждый тембр можно записать множеством разных способов, а любая последующая обработка в каком-то смысле будет рождением нового звука. В книге «Аудиовизуальное» Шион упоминает, что на заре звукозаписи существовало понятие «фоногеничности» по аналогии с фотогеничностью. Однако если разговоры о том, что одним людям удается лучше выглядеть на фото, чем другим, еще сохранили свое право на существование (несмотря на множество приложений для улучшения внешности на фотографиях), то с развитием звукозаписывающих технологий фоногеничность практически канула в Лету109109
Chion M. Audio-vision: Sound on Screen / Trans. from the French by C. Gorbman. New York: Columbia University Press, 1994. P. 101–104.
[Закрыть]. Выяснилось, что отсутствием фоногеничности исполнителя чаще всего ошибочно называли некачественную запись. Но опять же: если это исчезновение термина и сигнализирует о чем-то, так это о том, что мы успели настолько сильно привыкнуть к медиатехнологиям, транслирующим звук, что больше не воспринимаем их как «запись».
Сегодня у многих вызывает улыбку мысль Гленна Гульда о тотальном вытеснении концертной деятельности звукозаписью к концу XX столетия. Однако приведенные аргументы заслуживают внимания. По мнению Гульда, студийная технология расстановки микрофонов раскрыла в «Кольце Нибелунга» ту степень слияния драматического и звукового, которая была недоступна слушателям лучших байройтских фестивалей. Поэтому концертное исполнение всегда будет напоминать плохо отрепетированную пьесу и уступать созданному в студии звуковому образу110110
Кстати, Гульд отнюдь не был одинок в своем мнении, не столь уж радикально сформулированном, если сравнить его с высказыванием Мортона Фелдмана: «Концертный зал навязывает композитору ложные цели. Я бы только приветствовал его кончину, это моя мечта. Я никогда до конца не понимал эту потребность в „живой“ публике. Моей музыке, почти неслышной, лучше всего было бы с „мертвой“» (Фелдман М. Разговоры без Стравинского / Пер. с англ. А. Рябина // Фелдман М. Привет Восьмой улице. СПб.: Jaromír Hladík press, 2019. С. 76).
[Закрыть]. Благодаря прослушиванию записи музыкант получает возможность взглянуть в зеркало и услышать изъяны собственного исполнения, а монтаж отнюдь не всегда является способом скрыть ошибки, но, прежде всего, расширяет диапазон интерпретаций нотного текста. Отныне музыкант должен внимательно относиться не только к тому, что́ и кем исполняется, но и к тому, как именно записано исполнение. Гульд, вопреки апелляциям к работам своего соотечественника Маклюэна, по сути двигался в противоположном направлении. Отказавшись от концертов и став одним из первых музыкантов, осознавших возможности звукозаписи и использовавших метод наложений для создания на рояле вариаций оркестрового исполнения, он предпочел письменную традицию устной («считать, что… мы можем вернуться к некоему состоянию, напоминающему культурный монолит до Ренессанса, будет рискованным упрощением»111111
Gould G. The Prospects of Recording // The Glenn Gould Reader. New York: Alfred A. Knopf, 1989. P. 352.
[Закрыть]). Ошибочный прогноз Гульда о скорой смерти концертных залов парадоксальным образом дает понять о произошедшем значительно больше, чем многие сбывшиеся пророчества. Однако увеличение разновидностей звуковых медиа в итоге привело к обратному: запись на портативное устройство стала восприниматься многими как вполне достоверная фиксация. Впрочем, миф о запечатлении «естественного звука» сопровождал звукозапись на протяжении всей ее полуторавековой истории. Этот рекламный стереотип, не устающий доказывать, что запись в точности воспроизводит то, что мы слышим в повседневной жизни, восходит еще к Эдисону.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































