Текст книги "Едва слышный гул. Введение в философию звука"
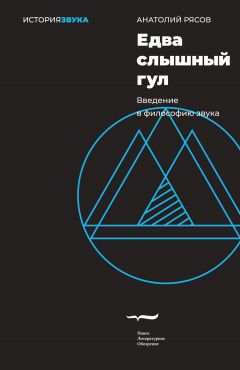
Автор книги: Анатолий Рясов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
§ 8
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ТИРАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО
Каждое второе звуковое исследование начинается с противопоставления слухового и зрительного. Точкой отсчета для этого разговора выступает мысль о том, что человек с удивительным постоянством пренебрегает звуковыми ощущениями, подменяя их визуальными образами, и, следовательно, совершает массу ошибок. В повседневной жизни мы реализуем далеко не все возможности нашего слуха: они постоянно вытесняются визуальными событиями. Но, к примеру, как только выключается свет, мы совершенно по-другому начинаем относиться к тому, что звучит вокруг, фактически – лучше слышим. Эхолокация летучих мышей по сей день кажется чем-то почти фантастическим, абсолютно непостижимым для человека, хотя при этом слепые люди могут ударом трости об пол определять объем помещения, демонстрируя незаурядный опыт слуховых отношений с пространством. И тем не менее требуется то и дело напоминать о том, что ви́дение и слышание – принципиально разные ресурсы сознания.
Джонатан Стерн во введении к известному дайджесту по звуковым исследованиям усомнился в необходимости этого противопоставления, составив список из так называемых аудиовизуальных литаний. Но несмотря ни на что подобные установки на противостояние зрительному все еще сохраняют свое значение. Вот некоторые из них: «слушание сферично, зрение однонаправленно», «слушание вовлекает субъекта, зрительное восприятие предлагает перспективу», «вслушивание в звук – это погружение, взгляд – взаимодействие с поверхностью», «вслушивание предполагает физический контакт с внешним миром, всматривание требует сохранять дистанцию», «слышимое имеет отношение к аффектам, видимое – к интеллекту», «слуховое темпорально, зрительное пространственно» и, далее, «слушание открывает нам мир живого, зрение ставит нас перед лицом замершего и мертвого». Казалось бы, можно остановиться, но есть и продолжение: «слуховое восприятие погружает нас в мир, зрительное удаляет нас из него»6262
Sterne J. Sonic Imaginations // The Sound Studies Reader. London & New York: Routledge, 2012. P. 10.
[Закрыть]. Разграничение разных ресурсов сознания в считаные секунды угрожает перейти в рукопашную схватку с приверженцами зрительного восприятия. Иными словами, визуальное – главный враг звукового, необходимо не останавливать атаку на него, пока справедливость не восторжествует и оккупированные территории не будут отвоеваны. Ведь, судя по всему, именно из‐за зрительной тирании сами sound studies по сей день вызывают подозрение как экзотическая, избыточная дисциплина. Поэтому продолжение битвы с визуальным превращается едва ли не в одну из основных миссий звуковых исследований как научного направления. Пафос этого противопоставления по-прежнему характерен для многих авторов, работающих в этом русле (характерным примером, как ни странно, оказываются и некоторые из представленных Стерном статей упомянутого сборника).
Особый интерес представляют размышления, обращенные к философской проблематике.
Наше понимание восприятия и его роли сформировано «визуоцентризмом», – пишет О’Каллаган. – Даже терминология, используемая при ведении философских дискуссий об опыте восприятия – облик, картина, образ, наблюдать, – по преимуществу визуальна6363
O’Callaghan C. Sounds. A Philosophical Theory. P. 2–3.
[Закрыть].
Схожее замечание о геометрически расчерченной, а потому тотально визуальной концепции Декарта позволило Айди назвать саму философию «царством беззвучных объектов»6464
Ihde D. Listening and Voice. Phenomenologies of Sound. P. 50.
[Закрыть]. Итак, чтобы заговорить о звуке, философский дискурс должен преобразоваться и выработать новую терминологию, радикально противоположную предыдущим эпохам и традиции визуального. В какой степени справедливы подобные нападки и насколько существующий философский язык сохраняет потенциал для разговора о слышимом, еще предстоит разобраться, но эти обвинения как минимум заставляют обратить внимание на то, сколь мало философы высказывались на тему звука.
Некоторую курьезность этому пафосу придает тот факт, что сама идея подмены слухового зрительным восходит к более широкой оппозиции, детально проанализированной Анри Бергсоном почти за век до оформления sound studies в гуманитарную дисциплину. Звуковые исследователи редко обращаются к работам Бергсона, однако сама идея о вытеснении слышимого видимым по сути является бессознательной ретрансляцией выводов, сформулированных в самой первой его книге. Корень проблемы, именуемой тиранией визуального, легко обнаруживается, например, вот в этом известном фрагменте: «мы проецируем время в пространство, мы выражаем длительность в терминах протяженности»6565
Бергсон А. Непосредственные данные сознания. Время и свобода воли / Пер. с фр. Б. Бычковского. М.: ЛКИ, 2010. С. 74.
[Закрыть]. В суждениях о времени то и дело проявляется присутствие пространственных элементов, и, например, изображение хода истории в виде череды отрезков не учитывает проблемы одновременности существования геометрических объектов, кардинально противоположного последовательности длительностей. Бергсон приводит и пример, имеющий прямое отношение к звуку, – запись длительностей нотными знаками:
Так как усилие, посредством которого ваш голос переходит от одной ноты к следующей, прерывисто, то вы представляете себе эти последовательные ноты как точки пространства. Мы достигаем этих точек, одну за другой, резкими скачками, проходя каждый раз разделяющий их пустой промежуток. Вот почему мы устанавливаем интервалы между нотами гаммы. Остается еще не решенным вопрос, почему линия, на которую мы наносим эти точки, скорее вертикальна, нежели горизонтальна, и почему мы в одних случаях говорим, что звук повышается, а в других, что он понижается6666
Бергсон А. Непосредственные данные сознания. С. 36.
[Закрыть].
Так или иначе, сегодня это противопоставление визуального и аудиального утратило какую-либо оригинальность и превратилось в общее место звуковых исследований, более того – в один из эпицентров стагнации. Возможно, вовсе не изобретение новой «звуковой» терминологии, а перечитывание Бергсона стало бы действенным способом для смещения этого разговора с мертвой точки.
Впрочем, симптоматичным примером может выступить книга Кокса, в которой его идеям уделено существенное внимание. «Длительность» Бергсона – наряду с «дионисийством» Ницше, «становлением» Делёза и «гипер-хаосом» Мейясу – оказывается одним из оснований для определения звука как плотного материального потока. Звук раскрывается здесь как неуправляемая, переливающаяся внутри себя энергия, не вписывающаяся в устоявшиеся социальные коды. Однако роковым образом этот впечатляющий экскурс в историю философии в итоге оказывается не чем иным, как теоретическим базисом для «подавления захватнических намерений визуального»6767
Cox C. Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics. P. 184.
[Закрыть]. В этой системе координат «аудиовизуальные» и «синестетические» формы объявляются «заведомо однонаправленными: все излагается господствующим языком образа»6868
Ibid. P. 185.
[Закрыть]. Иными словами, «материалистический поворот» обнаруживает зависимость от той же самой оппозиции видимого и слышимого, из‐за которой раз за разом повторяющийся во многих текстах тезис о тирании визуального продолжает выглядеть как навязчивое дежавю. Конечно, это отнюдь не повод для указания на полную непродуктивность противопоставления: можно вспомнить, например, прения Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, когда схватка визуального с аудиальным перешла на территорию реальной политики6969
Знаменитые дебаты 1960 года были абсолютно по-разному восприняты телезрителями и радиослушателями: те, кто слушал выступления кандидатов на пост президента, восприняли доводы Никсона как более убедительные, а те, кто смотрел эфир, были абсолютно уверены в победе Кеннеди. Поскольку это были первые в истории США теледебаты, количество зрителей превосходило количество слушателей, и есть определенные основания считать, что невнимание к телевизионному формату могло стоить Никсону потери многих голосов.
[Закрыть]. И все же привязанности к одной и той же антитезе явно недостаточно для придания разговору о звуке прочного фундамента. Нескончаемая ретрансляция этой мысли заставляет задуматься об иных аналитических схемах, не нуждающихся в обязательной шпильке в адрес визуального.
Конечно же, любую из этих «литаний» можно легко оспорить. К примеру, если звуковое будет представлено стуком молотка во дворе, услышанным из окна квартиры, а визуальное – созерцанием картины Герхарда Рихтера, то многое может перевернуться: удары окажутся однонаправленными и предлагающими дистанцию, а холст – обволакивающим и погружающим в себя. Темпоральность звуков вовсе не изолирует их от пространства, а визуальное вполне способно длиться (кинематограф здесь – отнюдь не единственный, но наиболее очевидный пример). Собственно, сами исследователи звука постоянно обращают на это внимание, посвящая много страниц пространственному пониманию звучания, анализируя локализованные и рассеянные шумы, выделяя их центр и периферию. Несмотря на то что шумы взаимодействуют и конфликтуют друг с другом, а порой смешиваются так, что проблематично определить момент перехода, тем не менее можно вести разговор об их локализации.
Но в этих рассуждениях открывается кое-что не сочетающееся с изначальным противопоставлением слышимого и видимого. Погружаясь в пространственные классификации шумов, звуковые исследователи вынуждены использовать для их анализа тот самый инструментарий, который сами уже успели охарактеризовать как «по преимуществу визуальный»: фокусировка, ближний план и т. п. Это вынуждает их отступать назад и оправдываться, что «описание, полностью избегающее пространственных образов, затруднительно, а то и вовсе невозможно»7070
Ihde D. Listening and Voice. Phenomenologies of Sound. P. 220.
[Закрыть]. Означает ли это, что даже термин «звуковой ландшафт» логически неточен? Или, может быть, сама оппозиция визуальное/слуховое в разговоре о звуке, как ни странно, оказывается отнюдь не фундаментальной?
В глобальном смысле успехи sound studies пока заключаются лишь в масштабной каталогизации звуков, в основе которой у авторов лежат самые разные принципы и методики – культурологические, социологические, искусствоведческие. Вопреки частому обращению к феноменологической проблематике, их подлинную основу в подавляющем большинстве случаев составляет инструментарий семиотики. При этом парадоксально, что внутри звуковых исследований до сих пор не оформилось сколь-либо влиятельного направления, подобного семиотике танца или семиотике кино. Примечательно также, что разговор о звуке как знаке в подавляющем большинстве случаев избегает не только обращения к концепциям Пирса или Соссюра, но, странным образом, даже упоминания их имен. Конечно, как и в случае с Бергсоном, само по себе отсутствие тех или иных цитат едва ли может считаться главным исследовательским недостатком, но речь идет о принципиальных методологических совпадениях.
Так, например, известная триада Пирса репрезентамен–объект–интерпретанта обнаруживает внушительный потенциал при анализе звуковых явлений – от шороха раскрывающегося зонта после раската грома до сложных звуковых систем, выстраиваемых человеческой памятью. Уже в самых бытовых ситуациях открывается широкое поле для игры разными смыслообразованиями: узнаваемый звук включающегося ноутбука фирмы Apple одновременно является своеобразной рекламой этой компании, а, например, недовольный кашель, неверно истолкованный рассеянным собеседником как признак простуды, угрожает усугублением конфликта. Любое звуковое сообщение способно не только обрастать значениями, но и быстро сменять их. Поводов для обращения к концептуальному аппарату семиотики здесь множество.
Кстати, будет ошибкой считать, что этой многозначностью звуки обязаны людям. На первый взгляд, у животных все обстоит по-другому и каждый слышимый сигнал куда более жестко привязан к значению. К примеру, скуление собаки может считаться выражением боли или страха, а лай – признаком недовольства и агрессии. Конечно, можно представить себе ситуацию, в которой загнанный пес испытывает страх и одновременно пытается сопротивляться, отчего соответствующие звуковые сигналы смешиваются друг с другом, и все-таки даже в этом взаимоналожении рычания и визга можно выделить определенные чувства и сопутствующие им звуки. Однако если чуть подробнее вслушаться в эти рыки и поскуливания, то выяснится, во-первых, что границы перехода одного сигнала в другой далеко не всегда определимы, а во-вторых, и лай, и визг имеют множество подвидов, используемых собаками в самых разных ситуациях, порой не менее многозначных, чем человеческие крики. И в-третьих, даже одни и те же звуки (или, во всяком случае, кажущиеся таковыми биологам и их измерительным приборам) звери издают по самым разным поводам. Скулеж собаки вполне может свидетельствовать о нетерпении, а тявканье – о радости. У лисиц, например, весьма схожая «серия лая» в период гона означает призыв к спариванию, а в период воспитания потомства – строгость в отношении детеныша. В свою очередь, звуки, издаваемые слонами, до сих пор не поддаются четкой классификации: весьма схожий рев может раздаваться как по поводу воссоединения семьи, так и по причине смерти родителей или детей. Вопреки частым заблуждениям, звуковую коммуникацию животных отличает столь изощренная полифункциональность, что едва ли ее исследование можно будет когда-либо считать полностью завершенным7171
Подробнее см., например: Константинов А. И., Мовчан В. Н. Звуки в жизни зверей. Л.: Изд‐во Ленинградского университета, 1985; Evolution of Emotional Communication: From Sounds in Nonhuman Mammals to Speech and Music in Man. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 26–154.
[Закрыть].
Но существуют и звуковые сигналы вроде азбуки Морзе, «сопротивляющиеся» многозначности: заводской гудок, звонок в дверь, пиканье парктроника, оповестительный свист приближающегося поезда. Наша реакция на них почти рефлекторна – настолько, что можно вспомнить собак Павлова. И хотя в повседневной жизни таких примеров, на первый взгляд, сравнительно немного, в роли подобного звонка может выступить едва ли не каждый из окружающих нас звуков. Конечно, эту однозначность несложно оспорить: Шейфер пишет о сигнале автомобильного клаксона, который может быть интерпретирован разным образом в зависимости от того, кому принадлежит автомобиль – раздраженному таксисту или водителю свадебного кортежа7272
Schafer R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. P. 149.
[Закрыть]. Но можно привести и противоположный пример: в какой-то момент производители телефонов заговорили о том, что звуковая культура человека должна обогащаться и монотонные звуки должны уступить место полифоническим. Однако, как только музыка стала выполнять функцию телефонного звонка, случилось противоположное: она была низведена до уровня однозначного сигнала и перестала восприниматься как работа композитора, а первым значением этого звука, вытесняющим все остальные, стал входящий вызов. Схожим образом воспринимаются фоновые мелодии в лифтах и туалетах, не слишком часто обретающие завороженных слушателей (если, конечно, исключить музыковедов и социологов). Поразительно, но даже столь сложная звуковая структура, как музыка, способна выступать в роли сигнала, жестко привязанного к единственному значению. К примеру, марш по сей день воспринимается большинством слушателей прежде всего как аккомпанемент для строевой подготовки солдат. В то же время подобная однозначность звука может оказаться экзистенциально значимой – герой «Фальшивомонетчиков» Андре Жида не решается застрелиться, потому что понимает: последним, что он услышит, будет звук выстрела, который полностью нарушит его желание погрузиться в смерть как в сон и предельный покой.
Как и в случае со словами, сталкиваясь со звуками, мы способны перебирать их значения и выбирать подходящее – причем это происходит даже в ситуации смешения множества шумов (феномен, получивший название эффекта коктейльной вечеринки). Так орнитолог различает в птичьем грае отдельные голоса, а звукорежиссер слышит каждый из тонов, составляющих фонограмму. Эта способность выделения того или иного звукового сегмента (партии одного инструмента или даже отдельных частот) в процессе прослушивания фонограммы обычно требует значительно большей подготовки, чем фокусирование взгляда на одном из массы близлежащих предметов. Возвращаясь к аналогии с визуальным, можно заметить, что звуковая палитра чаще всего напоминает импрессионистские картины, изобилующие промежуточными оттенками. Кстати, именно так выглядит и спектральное отображение звуковых сигналов: яркий, выделяющийся цвет здесь, как правило, будет означать присутствие инородного артефакта – треска или щелчка. Чаще же звуки словно перетекают друг в друга, выделить отдельный тембр из массы порой весьма непросто. Неподготовленный слушатель испытывает сложноописуемый внутренний восторг, когда ему вдруг удается различить звук, который еще несколько секунд назад он, казалось, даже потенциально не осознавал. Когда мы вслушиваемся в партию медных, все остальные группы инструментов внезапно оказываются в роли «фона», а духовые становятся для нас «солирующими» (звукорежиссер в таком случае имеет возможность нажать клавишу «Соло» на нужных треках). Но можно не останавливаться и на этом, продолжив выявлять отдельные нюансы в партии каждого из инструментов. Мастеринг-инженер умеет акцентировать в сведенной музыкальной фонограмме «нужные» частоты. Так можно вслушиваться и в гул ветра, отделяя в нем низкочастотные составляющие от высокочастотных. И тем не менее, хотя современная технология записи при помощи наложений предполагает умение слушателя различать звуковые слои, в аудиовосприятии это умение, возможно, дает ненамного больше, чем синтаксический разбор способствует пониманию смысла стихотворения. Речь рождается из молчаливого вслушивания в речь, а не из изучения синтаксических связей.
В кинематографе распространен прием исключительно звукового присутствия события, порой определяющего особый драматизм происходящего. Например, в фильме Робера Брессона «Приговоренный к смерти бежал» практически все действие происходит в здании тюрьмы, но время от времени за окнами слышны автоматные очереди, и исключительно по звуку этих залпов заключенные понимают, что кого-то из них в этот момент расстреляли. Впрочем, этот прием использовался и в области театрального искусства: например, во время постановки «Войцека» Бюхнера, репетиции которой были задокументированы, Ингмар Бергман предложил актерам сыграть сцену убийства не на авансцене, «а немного в стороне, в тени»7373
Шегрен Х. Режиссер: Ингмар Бергман (Дневник постановки в театре «Драматен» драмы Георга Бюхнера «Войцек») / Пер. со шведск. А. Афиногеновой // Бергман о Бергмане. Ингмар Бергман в театре и кино. М.: Радуга, 1985. С. 86.
[Закрыть], чтобы люди только по шуму догадывались, что́ там происходит. Звуки, не сопровождаемые визуальным рядом, способны выступать яркой аллегорией смерти.
Но подлинно безграничные семиотические цепочки складываются из звуков в воспоминаниях. Лучше многих это продемонстрировал Пруст, и хотя подобный взгляд на его тексты по сей день остается довольно экзотичным, трудно отыскать другого автора, для которого всевозможные шумы играли бы столь значительную роль. В романах Пруста звуки выстраиваются в колоссальные ассоциативные ряды, связанные набатом мартенвильских колоколен, звоном колокольчика садовой калитки, позвякиванием ложки, стуком лифта, всевозможными скрипами, икающим звуком водяного калорифера, треском пламени в камине, напоминающим вступление к увертюре «Тангейзера»7474
При этом едва ли не единственным звуковым исследователем, всерьез обратившим внимание на эту гулкость вселенной Пруста, стал Мишель Шион, а для филологов она и по сей день остается практически неизведанной.
[Закрыть]. В свою очередь, это присутствие в памяти сложных, но все-таки каким-то образом структурируемых звуковых событий способно открыть пространство для разговора о звуках без ясного значения. Продолжая литературные аналогии, можно вспомнить прозу Николая Кононова. Его первый роман «Похороны кузнечика» многие критики вполне справедливо назвали вещью, написанной в традиции Пруста. Однако есть пример, в каком-то смысле противостоящий стратегии «Поисков утраченного времени». Это эпизод с девяностолетней старушкой, которая слышит адресуемые ей реплики, но путает их с голосом диктора, доносящимся из радиоприемника: она, «как лыжница, мчится по звуковому, только ей принадлежащему склерозному ландшафту»7575
Кононов Н. М. Похороны кузнечика. СПб.: Амфора, 2003. С. 43.
[Закрыть]. Теряя ясность значений, звуки перестают выстраиваться в логичные и структурируемые ряды, начинают путаться и подменять друг друга. Конечно, в этом эпизоде речь идет о разрушении сознания, но вполне можно распознать в подобном уклонении от узнавания внутреннее свойство самих звуков: они одновременно способны быть привязанными к значению и его терять, причем человек в этом далеко не всегда участвует, а лишь фиксирует происходящее. Это нечто напоминающее семиотическую ситуацию десигната без денотата – знака, не отсылающего к обозначающему предмету. Но на этом этапе инструментарий семиотики перестает казаться всеохватным.
Именно здесь дает о себе знать неразрешенный вопрос, с которым так или иначе сталкиваются практически все sound studies. Его можно сформулировать следующим образом: каким должен быть разговор о звуке не как о знаке или качестве, а как о сущности? И, пожалуй, именно неустанные старания классифицировать тембры все дальше уводят от ответа на него. Вероятно, это происходит потому, что звуки относятся к тем сферам, которые, если процитировать Хайдеггера, «по своей природе исчислению противятся»7676
Хайдеггер М. Цолликоновские семинары / Пер. с нем. И. Глуховой. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2012. С. 197.
[Закрыть]. Противопоставления визуального и звукового отнюдь недостаточно для решения этой проблемы, более того, эта антитеза вовсе не первична. Есть более ранний вопрос, мимо которого проходят почти все, кто пишет о звуке. Но для его формулирования необходимо покинуть территорию гуманитарных исследований, в русле которых par excellence развивается сегодня рассматриваемое направление мысли. Дело в том, что звук как сущность, а не как знак, – проблема не гуманитарных наук, а философии. И об этот порог придется спотыкаться до тех пор, пока не будет выстроена онтология звука.
Увы, работы о восприятии мира на слух, затрагивающие онтологическую проблематику, непросто отыскать. Конечно, весьма продуктивным шагом для взаимодействия звуковых исследований и философии оказывается реактуализация метода феноменологии, но тем не менее даже исследование Айди не говорит на языке философии. В каталоге изданий, представленном на известном сайте, посвященном книгам о звуке7777
URL: http://bookshelf.sonicfield.org.
[Закрыть], раздел «Философия» включает более восьмидесяти книг, однако почти все они связаны прежде всего с социологическими и культурологическими сюжетами (неслучайно большинство из них продублированы на соответствующих страницах сайта). Но несмотря на пересечение гуманитарного и философского дискурсов, едва ли можно вести речь о полном стирании границ между ними. Вроде бы очевидно, что эрудиция того или иного автора в области феноменологии или изобилие цитат из Гегеля еще не означают, что мы имеем дело с философским высказыванием; но странным образом в разговоре о звуке разница между методами гуманитарных наук и языком философии все еще остается непродуманной. Сборники статей с названиями вроде «Делёз и музыка»7878
Deleuze and Music. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
[Закрыть] и работа самого Жиля Делёза «Ницше и философия»7979
Делёз Ж. Ницше и философия / Пер. с фр. О. Хомы. М.: Ад Маргинем, 2003.
[Закрыть] решают принципиально разные задачи: в первом случае речь идет о музыковедческой систематизации отдельных шизоаналитических установок, а во втором – о развертывании самостоятельного философского концепта через чтение работ Ницше.
В этой связи разительно выделяющимся на общем фоне и наиболее многообещающим вновь оказывается «звуковой материализм», который благодаря отсылкам к спекулятивному реализму нередко предстает и как «онтологический поворот» sound studies. Предложенный Коксом концепт звукового потока в значительной степени направлен на взаимодействие с «разнообразными нечеловеческими силами и ассамбляжами»8080
Cox C. Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics. P. 7.
[Закрыть]. Впрочем, стоит еще раз обратить внимание на то, что стремление не отставать от философских трендов вовсе не гарантирует противостояния «ортодоксии» внутри sound studies (в частности, продолжению борьбы с визуальным). И тем не менее теоретические ставки «звукового материализма» впечатляюще высоки: проблема знака рассматривается как второстепенная в отношении антропоцентричных установок. Поэтому – наряду с семиотикой и структурализмом – мишенями для критики становятся феноменология, психоанализ и деконструкция – теоретические системы, очертившие горизонт континентальной философии в ХХ столетии и «превратившиеся в своего рода ортодоксию»8181
Ibid. P. 15.
[Закрыть]. Однако чтобы понять, насколько удачным оказывается здесь выбор оппонентов, нужно будет последовательно рассмотреть взаимоотношения каждого из этих теоретических сюжетов со звуковой сферой. Несмотря на то что соблазн мгновенного «преодоления» феноменологии, психоанализа и деконструкции по-своему притягателен, этот путь кажется слишком быстрым решением.
Удивительно, однако, что философы на протяжении столетий касались темы звука лишь опосредованно – например, через разговор о времени, о музыке, о технике, – но почти никогда напрямую. Это странное, непривычное молчание. Мы сталкиваемся с некоторым противоречием: с одной стороны, объявление философии царством беззвучных объектов кажется слишком поспешным, с другой – сложно не обращать внимание на эту многовековую лакуну. Порой философия вплотную приближалась к разговору о звуке, но почему-то никогда не начинала его, останавливаясь на границе. Впрочем, отсутствие богатой традиции не обязательно стоит воспринимать как катастрофу или невозможность заглянуть за эти пределы. Однако, чтобы обрести фундамент, эта претензия к философам должна быть сформулирована на философском языке. В противном случае она всегда будет бить мимо цели.
Едва ли не первым философским текстом, написанным собственно о звуке, стал очерк Жан-Люка Нанси «Вслушивание». Это короткое эссе вышло в 2002 году, но его вряд ли можно назвать попавшим в фокус sound studies. Во всяком случае тот факт, что в библиографиях почти всех вышеупомянутых звуковых исследований, опубликованных после 2002 года, «Вслушивание» отсутствует, едва ли можно считать свидетельством продуктивного диалога между звуковыми исследованиями и философией (к слову, в эссе Нанси, нарочито скупом на ссылки, Шион упомянут). Среди звуковых исследователей, всерьез обративших внимание на это эссе Нанси, можно назвать разве что Франсуа Бонне8282
Bonnet F. The Order of Sounds. А Sonorous Archipelago / Trans. from the French by R. Mackay. Falmouth: Urbanomic, 2016. P. 73, 76–78, 111–112, 229–230, 319.
[Закрыть]. Но чем же «Вслушивание» отличается от перечисленных книг? Прежде всего, Нанси мало интересуют разновидности «сетей», набрасываемых на звуки с целью их последующей систематизации. Подобное исчисление (в разных вариациях проявляющееся у О’Каллагана, Шейфера, Шиона) во многом заимствует инструментарий точных наук, и если принять, что звуки способны противиться исчислению, то этот метод всегда будет упускать что-то важное в их сущности. Примеры из области искусства (которые часто приводят Туп и Фёгелин), в свою очередь, уводят этот разговор от феноменологии в область искусствоведения. Нанси предлагает принципиально иную точку отсчета: противопоставление философии понимания и философии вслушивания. Более того, он задается вопросом, не замещала ли философия на протяжении многих веков слушание пониманием. Ведь вслушиваться означает оказаться до означивания и рождения смысла: «всему, что произносится (и я имею в виду весь дискурс, всю цепь значений), внимают, но внутри этого понимания, в самой его глубине, присутствует вслушивание»8383
Nancy J.-L. À l’ écoute. Paris: Galilée, 2002. P. 19.
[Закрыть].
Нанси противопоставляет французские глаголы entendre (слышать, внимать, понимать) и écouter (слушать, вслушиваться): «Разве философ это не тот, кто всегда внимает и все слышит, но кто не способен слушать или, точнее, кто отказывается от слушания, чтобы начать философствовать?»8484
Ibid. P. 13.
[Закрыть] Здесь на месте очевидного противопоставления зримого и слышимого возникает проблема звука, не наделенного значением, улавливаемого как нечто неясное и в то же время предельно близкое. «Слушать значит приближаться к возможности значения, мгновенное схватывание которого затруднено»8585
Ibid. P. 21.
[Закрыть]. Поэтому речь у Нанси идет не столько о предпочтении вслушивания пониманию, сколько об указании на то, что предшествует этому разделению. И точкой отсчета для этих размышлений оказывается именно звук. Эссе Нанси демонстрирует, что проблематика sound studies имеет прямое отношение к метафизике.
Возвращаясь к языковой проблематике, можно заметить, что слышание имеет место в процессе обмена информацией, а вслушивание – это попытка погружения в сферу, предваряющую ясные значения и дающую им возможность состояться. Привычной дихотомии видимое/слышимое предшествует оппозиция коммуникативного и докоммуникативного. Звук, как и цвет, находится на пересечении этих сил: он может выступать в роли ясного сигнала и одновременно способен раскрываться в предельной абстрактности. Однако (уже в пику Нанси) можно заметить, что именно философия всегда была областью мысли, способной взаимодействовать с докоммуникативным, и в этом смысле встреча звука и философии неизбежна. Подобная неминуемость позволяет не только сформулировать те вопросы о звуке, которые могут быть заданы исключительно из пространства философии, но и определить, что́ может дать философу этот опыт вслушивания.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































