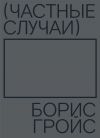Текст книги "Голоса тишины"

Автор книги: Андре Мальро
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Что тогда музей собирал? Античное искусство, скорее римское, чем греческое; итальянскую живопись, начиная с Рафаэля, великих фламандцев, великих голландцев, великих испанцев, начиная с Риберы; французов – с XVII, англичан с XVIII века; Дюрера и Гольбейна, чуть отдельно – кое-кого из предшественников Ренессанса.
В основном это был музей масляной живописи. Той живописи, для которой важнейшим было завоевание третьего измерения, для которой само собой разумеющимся делом было сочетание иллюзии и изобразительной выразительности. Сочетание, цель которого – выразить не только форму предметов, но также их особость и объём (безотносительно ко всем неевропейским искусствам), то есть добиться одновременно изображения и эффекта осязания. Сочетание, целью которого было также не вызывать мысль о пространстве как о бесконечности, на манер художников эпохи Сун, но ограничить его заключащей рамкой, поместив туда предметы, как рыб, плавающих в воде аквариума, – отсюда поиск света и особого освещения; во всём мире, с тех пор как существует искусство живописи, только в Европе создаются тени… Сочетание, которое, наконец, предполагало не только совокупность того, что мы видим, чего касаемся, но и того, что мы знаем; художники эпохи, переходной к культуре нового времени, писали дерево, листья которого отстоят друг от друга не потому, что они думали, что так видят, но потому, что полагали, что так оно и есть. Отсюда деталь, связанная с глубиной, чего не знает никакое другое искусство, кроме европейского.
Стремясь к подобному сочетанию, которое, казалось, каждый раз разрушалось, как только было преодолено, западноевропейская живопись сделала множество открытий: мы уже видели, что та или иная фреска Джотто была более «похожей», чем фреска Каваллини, картина Боттичелли – более, чем Джотто, произведение Рафаэля – более, чем Боттичелли. В XVII веке в Нидерландах, в Италии, во Франции, в Испании совокупный гений живописи продолжал один и тот же поиск; признаком и могучим средством последнего было всеобщее распространение масляной живописи. Изображались движение, свет, всевозможный материал; в сущности, были открыты перспективное сокращение, а также светотень и искусство изображения бархата; и эти открытия сразу же стали всеобщим достоянием, подобно тому, как на наших глазах всеобщим достоянием стали в кино тревеллинг (съёмка с помощью движущейся камеры) и быстрый монтаж. Каждый раз, когда живопись становилась вымыслом, она, как и театр, была представлением. Отсюда мысль, что сочетание искусства и иллюзии являлось привилегированным выразительным средством и средством достижения качества; подобное сочетание было и в античном искусстве. Отсюда очевидно принятое подчинение живописной манеры тому, что изображается.
Но кроме готического искусства, от которого романтизм усвоил только драматизм и живописность, XIX век начинает открывать Египет, Евфрат, фрески, предшествовавшие Рафаэлю. XIX век открывает тосканское искусство, «идя к истокам» – от XVI к XV, от XV к XIV векам. В 1850 году Боттичелли ещё воспринимался как «предшественник». Считается, что тогда открыты сюжеты, декоративный орнамент, – отсюда возникнет прерафаэлизм; открытием для XIX века стала двухмерная живопись.
Конечно, были известны средневековые фламандцы. Но хотя их палитра восхищала, вызывало сожаление отсутствие достойного рисунка. А особенно то, что поздняя живопись не была равноценна скульптуре, которую открывали тогда мало-помалу, вплоть до романского искусства. Она принадлежала музею в большей мере, чем тому, что ему противостояло. Торжественность королевского портала Шартрского собора сближала его с двухмерной живописью, от которой были далеки ван Эйк, Рогир ван дер Вейден в силу относительной глубины, тщательности и колорита их произведений.
Поначалу казалось, что величественное соперничество, которое противопоставляло голландца Рембрандта испанцу Веласкесу, переходило из области географии в область истории; однако различавшее их несходство было несводимо к тому, что отделяло их обоих от египетской или романской статуи, наверное, от Джотто и, бесспорно, от Византии. Вступала в игру сама идея стиля.
Быть может, византийское искусство (готическое, и особенно романское, поначалу воспринимались как драматическое начетничество) лучше всего открыло бы нам это новое понятие стиля крайностью своих характерных черт. Византийский художник лишён видения стиля, он претворяет византийский стиль. Для него быть художником – значит именно быть способным претворять. Он впускает вещи в сакральный мир: сближаются его средства – средства обряда, ритуала.
Эта манера писать «по-византийски», подобно тому как говорят на латыни, имела только одну точку соприкосновения с искусством музея: если византийское искусство открывало доступ в сакральный мир, то европейское искусство было таким средством в области, к которой стремились Рафаэль и Рембрандт, Пьеро делла Франческа и Веласкес и которую они назвали бы приближением к Богу. Пуссен стилизует своего персонажа, Рембрандт освещает своего, чтобы заставить их вырваться за пределы удела человеческого, а мозаичист Монреале стилизует фигуры, впуская их в создаваемый им сакральный мир.
Но романское искусство, даже искусство Кватроченто, не отвечали религиозному или сентиментальному призванию, что было свойственно готическому искусству в начале века: они отвечали призванию художественному. Хотя романское искусство воздавало хвалу Богу в своих творениях, оно возрождалось без Бога. Эпоха вынуждала его становиться произведением искусства подобно тому, как музей вынуждал распятие становиться скульптурой. Ощущала свою остроту и романтическая конфронтация. Было принято считать, что картина так или иначе прекрасна, когда то, что она изображает, было бы прекрасным, будучи реальным. Теория, касавшаяся Рафаэля и Пуссена, в более тонком смысле касалась и Рембрандта. Однако, что значила бы «ожившая» статуя-колонна? Или даже романская голова?
Новые скульптуры представали отдельно от всей живописи и всей скульптуры музея. Они больше напоминали некую живопись, творимую воображением, чем созданное родоначальниками фламандской школы: живопись, близкая готической скульптуре, вероятно, была бы близкой «Вильнёвской Пьете», которую перенесли в Лувр только в 1906 году; а романская живопись была неизвестна. Великое наследие Средневековья не без труда расставалось с живописностью XV века, чьё воздействие на подлинную живопись ограничивалось сюжетами. Если бы великие романтики, Констебл, Жерико, Делакруа никогда не видели, что такое кафедральный собор, какие черты их картин изменились бы?
По сравнению с замкнутой глыбой отёнских фигур традиционная скульптура начинала казаться одновременно театральной и лёгкой. Характерные особенности романского стиля, особенности стилей Древнего Востока проявлялись резко, поскольку они противостояли стилю не того или иного художника, но характеру музея в целом, вне зависимости от школ. В едином стиле, которому новые стилистические манеры противопоставляли свою неясную и обширную область, смешивались образ реалистический и образ идеальный, Рафаэль, Веласкес и Рембрандт.
Область, которой трудно подобрать название. Искусства были подражательные или декоративные (сколько же стилей будут декоративными, прежде чем стать просто искусством!). Итак, существовали великие изображения человека, не имеющие ничего общего с имитацией; между ними и декоративностью или иероглификой имелось нечто. По сравнению с парками лорда Элджина[124]124
Элджин Томас Брюс, граф Кинкардин (1766–1841 гг.) – британский дипломат; во время своего пребывания в посольстве в Турции перевёз в Британский музей часть фриза Парфенона (448–438 до н. э.).
Парки – богини судьбы в римской мифологии; в греческой – мойры.
[Закрыть], по сравнению со всеми греческими статуями, чьё появление разрушало греческий миф того времени, так как они опровергали их римские копии, обнаруживалось, что Фидий не похож на Канову (с горьким изумлением Канова и сам это открыл в Британском музее); к тому же начинали появляться на свет произведения искусства доколумбовой эпохи. В 1860 году Бодлер писал: «Я хочу сказать о неизбежном синтетическом раннем варварстве, которое нередко ощутимо в изумительном искусстве (мексиканском, египетском или ниневийском), проистекающем от необходимости видеть вещи возвышенно, рассматривать их во всей совокупности». Романский стиль, который вытягивал и искажал свои образы, согласно некоему торжественному преображению, утверждал, что система организованных форм, отказывающихся от имитаций, может сосуществовать с вещами как иное Творение.
Наверное, барокко также деформировало образы (за исключением Эль Греко, считавшегося в те времена всеми, кто его знал, скорее художником поздней готики), но пламенеющее барокко принадлежало миру, служившему чувству, а чувство для художников не было, конечно, средством, позволявшим избежать тирании чувственности. Романское искусство было совершенно чуждо как театральности скорбящих Мадонн XV века, столь дорогих романтикам, так и театральности барочной Италии. Оно показывало, что изображение персонажа, который испытывает чувство, не обязательно самое сильное выразительное средство этого чувства; что в произведении, проникнутом печалью, нет нужды изображать плачущих людей; что стиль сам по себе есть выразительное средство.
Небезызвестно, что его строгость, его монументальная структура были обязаны архитектуре; но это ощущалось меньше по мере того, как фотография стала вычленять из памятника в целом скульптурные ансамбли и лица; а художник не склонен умалять значение богатых, сулящих успех форм ради их источника. С другой стороны, так как романский стиль не выражал психологической и сентиментальной стороны христианской веры в XIX веке, а Христос XII века был весьма далёк от художников и любителей, романское искусство, не связанное с архитектурой и разлучённое со своим Богом, открывало ту истину, что произведение может проявлять свою гениальность не только благодаря гармоническому согласию между частями, но также благодаря глубокой гармоничности, связанной с самим стилем, объединявшим святых и грешников тимпанов в единой и величественной манере; что внешние формы способствовали этой специфической гармоничности; и, наконец, что искусству было подвластно подчинять формы жизни художнику, вместо того, чтобы подчинять художника формам жизни. Ни одно из искусств, открытых в наше время, каким бы необычным оно ни казалось, не поставило под сомнение художественное наследие так властно, как одновременное вторжение романской, месопотамской и египетской скульптур.
В музее, которому была так же неизвестна архаика Олимпии, как и фетиши, и где самые масштабные произведения Микеланджело слыли незавершёнными, греческое искусство начиналось с Фидия. «Тщательность отделки» тогда была общей характерной особенностью всех традиционных скульптур, а общим свойством всего искусства, постепенное воскрешение которого тогда начиналось, было поначалу отсутствие – или отказ от тщательности отделки. Отсюда открытие, сформулированное Бодлером по поводу Коро: «завершённое произведение не обязательно тщательно отделано, а тщательно отделанное произведение не обязательно завершено». Египетское искусство Древнего царства[125]125
…египетское искусство Древнего Царства… – т. е. периода IV–V династий (2720–2300 гг. до н. э.) фараонов Хеопса, Хефрена, Микериноса, Менкаура. Тогда были сооружены пирамиды Гизы. Столица была перенесена в г. Мемфис, отсюда – мемфисский стиль: гармония прямых линий и обширных симметрических масс; предпочитается барельеф; в эту эпоху начинает развиваться скульптура колоссальных размеров (Сфинкс); гробницы знати.
[Закрыть], ассирийское, а также романское отказывались от «отделанности», как и Коро, но – это особенно касается египетского искусства – такой отказ не мог объясняться ни неумелостью, ни незавершённостью. То, что какая-нибудь египетская статуя – произведение искусства, не подлежало сомнению. Таким образом, стиль был выразительным средством художника в той же мере, что и подчинение последнего иллюзии, согласием, чья завершённость служила только выразительности.
Проблемы скульптуры, – художники с их ненасытностью понимали, как проблемы рисунка; поскольку египетское искусство ещё более отошло от своих богов, чем романское – от своего, казалось, что именно в формах и причина.
Познавать монументальные искусства – неплохой путь для открытия Джотто; но упрощающее влияние новых стилей не имело живописного выражения. А то, что в области живописи производило впечатление влияния, сходного с влиянием этих стилей и едва ли не скрытого, – был эскиз.
В принципе, эскиз представлял собой «состояние» произведения, предшествующее его завершению, особенно в смысле исполнения деталей. Но существовал особый тип эскиза, когда художник, не считаясь со зрителем и будучи безразличным к иллюзии, сводил реальное или воображаемое зрелище к тому, что его делает живописью: к пятнам, краскам, движениям.
Между рабочими эскизами и «грубой выразительностью» – та же неопределённость, что и между японским наброском и великим синтетическим дальневосточным искусством сепии, между эскизами Дега или Тулуз-Лотрека и рисунком их самых импровизированных, на первый взгляд, литографий. Набросок – это конспект, некоторые эскизы – финал. И поскольку они представляют финал, имеется естественная разница между этими эскизами и законченной картиной. Закончить некоторые эскизы (это относится к Констеблу, к Коро) никоим образом не означало их завершить, но их претворить: добавить деталь, усиливающую глубину, поработать над тем, чтобы лошади стали в большей мере лошадьми (Делакруа), а повозки – в большей степени повозками (Констебл), чтобы картина стала и зрелищем, и живописью, превратилась в убедительный вымысел. Чтобы картина приблизилась к иллюзии благодаря «отделке», предназначенной для зрителя, которая была здесь только пережитком, отброшенным ранее эскизом подобно тому, как его отбрасывали воскресавшие скульптуры…
Художникам это было известно, и они всё больше в том убеждались. Эскизы, отобранные живописцами ради того, чтобы их сохранить, – эскизы Рубенса, «Сады» Веласкеса – не выглядят незаконченными изображениями, а полны пластической выразительности, чьё подчинение изображению ослабило бы, а, может, и уничтожило бы её. Хотя Делакруа и утверждал превосходство законченной картины над эскизом, отнюдь не случайно он сохранил некоторое количество своих эскизов, чьё качество произведений не уступает качеству самых прекрасных его картин. Он помнил о набросках Донателло, Микеланджело, – о «незавершённости» «Дня»… И так же случайно Констебл, первый из современных пейзажистов, выполнил некоторые важнейшие свои полотна «в стиле эскизов», а затем продолжил их в виде так называемых «законченных» авторских копий, которые выставлял; в то же время чуть ли не втайне он хранил свои изумительные эскизы, о которых писал, что они-то и есть настоящие картины. А Домье…
Дело ведь не в том, чтобы эскиз заранее занимал более высокое место, чем законченное произведение. Речь идёт об эскизах особого рода – сродни «Поклонению волхвов» Леонардо, – о некоторых «незаконченных» эскизах Рембрандта, почти обо всех эскизах Домье. Вряд ли эскизы портретов Рафаэля были именно такого рода; эскиз Энгра к его «Стратонике» уступает картине, хранящейся в Шантийи (музей Конде); однако эти эскизы, которые на самом деле были подготовительными этапами картины, подчинены её законам. В то время как эскиз к «Мосту в Нарни» подчинён законам Коро, законченная картина – законам критики. Достаточно сравнить оба произведения, чтобы убедиться, что речь идёт о версии – и о регрессе; Коро, как и Констебл, сохранил у себя в мастерской, не выставляя их, картины, написанные в юности, с которыми позднее был связан самый чистый его стиль. Эскизы Рубенса не только подготовительные этапы. Искусство вступало в конфликт с «тщательностью отделки» подобно тому, как сакральное искусство Византии когда-то вступало в конфликт с иллюзией.
Граница же между эскизом и картиной начинала терять свою отчётливость. Во множестве шедевров – на многих полотнах венецианцев, в последних работах Халса, у англичан – целые куски написаны в эскизной манере. Что такое «Филопемен»: эскиз или картина? А те или иные вещи Рембрандта? А то, что ближе художникам той эпохи, например, первый вариант «Моста в Нарни», «Мариэтта» Коро?
Для Коро и Констебла, Жерико, Делакруа, Домье эскизная манера была своеобразной формой свободы, такой, к которой стремились со всё большим нетерпением, хотя она и не помогала избегать мучительных сомнений.
Итак, если иллюзия переставала быть исключительным средством изображения, то обретала значимость любая двухмерная живопись. Об этом ещё не подозревали, но это было первым выходом на поверхность всей мировой живописи. Египет, Месопотамия, Греция, Рим, Мексика, Персия, Индия, Китай, Япония – за исключением нескольких веков западной живописи, двухмерная живопись охватывает целую планету…

Анри де Тулуз-Лотрек. Эскиз к картине «Монруж – Роза-ла-Руж», 1886–1887 гг.
Хотя высочайшая традиция музея оставалась монаршим моментом в истории искусства, не она более составляла историю искусств. Изолированная от территорий, которые начинали простираться вокруг, вплоть до неисследованных, она являла единое целое. Собственно область масляной живописи становилась тем, что за пределами теорий и даже мечтаний великих мастеров объединяло картины в музеях: не техника, как полагали, не ряд изобразительных средств, но язык, независимый от изображаемых вещей, столь же специфический, как и язык музыки. Никто из великих художников музея этот язык, конечно, не игнорировал: все его подчиняли. Понимать живопись прежде всего как живопись означало желание трансформировать её функцию. То, чего искусство добивалось, что обнаружил робкий гений Домье и вызывающий гений Мане, не было изменением традиции, сходным с тем, что совершали предшествующие мастера, но было разрывом, подобным тому, что приносили воскресшие стили. Другой стиль, а не другая школа, что было бы немыслимо, если бы сама идея некоего другого стиля не была этим самым разрывом.
Тогда талант художников перестал служить выразительным средством вымысла.
Талант, но не живопись. Уже после конца века великие сюжеты и случаи из жизни переполняют официальные салоны: живопись будет и впредь давать волю воображению и вымыслу, но это будет живопись, создатели которой в счёт не идут. Подобные великие трансформации произойдут и в поэзии, и сходным образом: начиная с Бодлера, она перестанет рассказывать, официальная же поэзия надолго ещё увязнет в драмах и повествовании. Золя и Малларме будут вместе восхищаться Мане, и это восхищение не так удивительно, как может показаться: натурализм, символизм, современная живопись, воодушевляемые различными, а иногда и противоположными пристрастиями, будут упорствовать в агонии обширного вымысла, чьим последним выражением был исторический романтизм.

Эжен Делакруа. Эскиз к картине «Пьета», 1857 г.
Однако требовать от живописи и от поэзии примата их специфических выразительных средств значило требовать поэзию более поэтичную и живопись более живописную, то есть, по утверждению некоторых, поэзию менее значительную. В сущности, поэзию специфическую, не иллюстрацию. Отбрасывая последнюю, живопись ненароком одновременно отбросила и вымысел, который не был только карикатурой, и мир, отличный от того, что создаёт «наслаждение для зрения», как некоторые пассажи Виттории, Баха или Бетховена, которые не только услаждают слух. Живопись перестала считать себя причастной к тому, что называется божественным или трансцендентным. Человек мог заявить, что он доволен, но при этом душа его, по-видимому, оставалась нетронутой. Искусство и красота расходились гораздо более глубоко и основательно, чем в эпоху агонии итальянизма.
Чем же становилась живопись, которая больше не имитировала, не воображала, не преображала? Живописью. Тем, чем она становилась в музее, когда, переполненный, он был уже только некоей настоятельной гипотезой. Отныне художники хотели создавать живопись, имеющую власть над предметом, а не явно ему подчинённую; казалось, что им знакомо предчувствие такой «власти» (не задуманной и коснувшейся всего творчества, а случайной, часто ограниченной рамками куска, полотна, особенно эскиза, всегда подчинённого) у мастеров, которые «писали кистью».

Эжен Делакруа. «Оплакивание Христа» («Пьета»), 1857 г.
Рубенс и жирные ломаные арабески его эскизов, Халс и его упрощённые руки пророка современного искусства, Гойя и его чисто чёрные пятна, Делакруа и Домье с их яростными толчками – казалось, они стремились появиться на своих полотнах подобно мастерам примитива, которые к лицам дарителей добавляли свои собственные. Их страстная манера была своего рода подписью. А художники, ставившие такую подпись, кажется, предпочитали саму материю живописи материи изображаемой.
Но манера и материя по-прежнему служили изображению. В последних полотнах Тициана и Тинторетто манера их письма подчинена драматическому лиризму, у Рембрандта тоже, но только лиризму внутреннему. Делакруа не без угрызений совести предаётся гениальной манере потрясённого Рубенса. Нередко дальше всех идёт Гойя; но Гойя минус его голоса и часть теней, доставшихся от музея, – это уже современное искусство.
Существовала также манера Гварди и Маньяско. Неистовая манера лучших произведений Маньяско, словно ощетинившихся восклицательными знаками, кажется, повинуется какому-то световому потоку, который едва ли не задевает предметы и персонажей (этот косой свет Энгр находил несовместимым с достоинством искусства…). Он служит ему, даже если этот свет не иносказательный, – кисть художника следует за ним. Каков бы ни был при этом успех ослепительной итальянской трагикомедии, видны её пределы, установленные нормами, которые эта трагикомедия требует от художника в сценах инквизиции.

Оноре Домье. «Любители», 1865–1868 гг.
Современное искусство вынесет из всего этого только одно: независимость художника. Поэтому свет – не главная его забота. (Кстати, действительно ли «Олимпия» и «Флейтист» освещены в фас?). То, что на языке ателье тогдашних художников называлось «мастерством», заменяет здесь «верность передачи». Говорилось, что Мане не умел написать ни одного сантиметра кожи, что «Олимпия» написана будто проволокой: при этом забывалось, что, прежде чем пожелать создать «Олимпию» или выписать человеческую плоть, он хотел писать картины. Розовый пеньюар «Олимпии», малиновый балкон «Бара Фоли-Бержер», голубая ткань «Завтрака на траве», разумеется, – цветовые пятна, чья материя – живописная, а не изображаемая. Картина, фоном которой была дыра, становится поверхностью. Самые яркие эскизы Делакруа представляли ещё драматизацию; то, что Мане предпринимает в некоторых своих полотнах, – есть живописание мира.
Ибо если дело дошло до того, что кисть художника обрела такую независимость, какой отныне она будет домогаться, то это всегда служило какой-нибудь страсти, для которой живопись была только средством. «Мир создан ради того, чтобы закончиться прекрасной книгой», – говорил Стефан Малларме; тем более, он создан для того, чтобы привести к этим картинам.
Отсюда связь между всеми великими новыми произведениями и удивительной историей идеологии импрессионизма. Соотношение между теориями и произведениями нередко из области прихоти, настроения. Художники теоретизируют о том, что они хотели бы сделать, но делают то, что могут; и их возможности, подчас слишком слабые для их теорий, иногда сильнее последних. Произведение, более соответствующее предисловию к драме «Кромвель», конечно, не «Рюи Блаз», а, вероятно, «Благовещение»[126]126
По-видимому, дело не в том, что Мальро отрицает соответствие драмы Виктора Гюго «Рюи Блаз» (1838 г.) такому блестящему манифесту романтизма, как его Предисловие к драме «Кромвель» (1827 г.), и, напротив, видит такое соответствие в драме Поля Клоделя «Благовещение» (L’Annonce faite a Marie, 1912). Кстати, он забывает, что в Предисловии Виктора Гюго к «Рюи Блазу», его размышлениях о философии истории, как и у Клоделя в «Благовещении», содержатся идеи о дуализме мира, отмеченные христианством, вполне естественные для католического писателя, каковым являлся П. Клодель.
[Закрыть]. Теории Курбе ничтожны в сравнении с его живописью. В то самое время, когда, подобно взломщику, ворвался Мане, импрессионизм утверждает свои достоинства ради более близкого согласия со зрелищем, – словно он стремится быть пленэром, улучшенным оптикой: Сезанн, вскоре Гоген, Сёра, Ван Гог создают искусство, стилизованное более, чем когда-либо со времен Эль Греко. Теоретики импрессионизма провозглашали, что живопись адресована прежде всего взору; только теперь картина передаётся взору в большей мере как картина, чем как пейзаж. По мере того, как менялось отношение между художником и тем, что он называл натурой, теоретики оформляли применительно к натуре то, что художники делали в живописи (не всегда предумышленно, но всегда потрясающе неукоснительно). Главным было не то, что берега Сены были похожими на берега больше у Сислея, чем у Теодора Руссо. Новое искусство стремилось перевернуть отношения между предметом и картиной, подчинить предмет картине. Нужно было, чтобы пейзаж покорился так, как Клемансо схематизировался на своём портрете. Признавать значение только видения означало порывать с музеем, которому пейзаж был подчинён в знании и идее, имевшихся на этот счёт у человека. Задний план импрессионистического пейзажа был не изображением, а аллюзией, и он весьма отличался от заднего плана у Леонардо; в сущности, дело было вовсе не в том, чтобы созерцать зрелище обострённо, чтобы его достоверно воспроизвести, но в том, чтобы извлечь из этого видения более яркую живопись. Мане родился в 1832-м, Писсарро в 1830-м, Дега в 1834-м; за два года, с 1839-го по 1841-й, родятся Сезанн, Сислей, Моне, Роден, Редон, Ренуар: для каждого из них мир станет ослепительным средством самовыражения. Цель, острота видения которой – лишь способ, состоит в трансформации вещей в автономном изобразительном, логичном и особом универсуме. Вскоре начнёт писать Ван Гог. Изображение мира сменялось его аннексией.

Винсент Ван Гог. «Стул Винсента», 1888 г.
Неверно, что современное искусство представляет собой «предметы, увиденные и пропущенные через некий темперамент», ибо ложно, что это способ видения. Гоген не видел предметы наподобие фресок, Сезанн не видел их наподобие объёмов, Ван Гог – как кованую сталь. Современное искусство есть присвоение форм через внутреннюю систему, которая принимает или не принимает форму лиц и предметов, при этом лица и предметы – только выражение, экспрессия. Изначальная воля современного художника направлена на то, чтобы всё подчинить своему стилю, подчинить, прежде всего, самый необработанный, голый предмет. Его символ – «Стул Винсента с трубкой» Ван Гога.
Не стул голландского натюрморта, ставший благодаря антуражу и свету одним из элементов того покоя, с которым Нидерланды периода упадка заставили считаться любые вещи, а отдельно взятый стул (вряд ли напоминание о жалком отдыхе) как идеограмма самого имени Ван Гога. Наконец, вспыхивает скрытый конфликт, с давних пор противопоставлявший художника и вещи.
Современный пейзаж всё меньше и меньше напоминает то, что до сих пор называлось пейзажем, ибо исчезнет земля; современный натюрморт всё меньше и меньше становится тем, что до сих пор называлось натюрмортом. Покончено с бархатистостью персиков Шардена; у Брака бархатист уже не персик, а – картина.
Покончено с медью, всяким хламом и кухней, со всеми предметами, оживляемыми светом; натюрморт, отбрасывающий голландскую сверкающую стеклянную посуду, найдёт пачки с табаком Пикассо. Натюрморт Сезанна по сравнению с голландским натюрмортом – то же, что ню Сезанна по сравнению с ню Тициана. Хотя пейзаж и натюрморт – со всеми ню и лишёнными индивидуальности портретами, которые сами являются натюрмортами – и становятся доминирующими жанрами, это не потому, что Сезанн любит яблоки, а потому, что на картине Сезанна, изображающей яблоки, есть больше места для Сезанна, чем его было для Рафаэля в портрете Льва X.

Питер Пауль Рубенс. «Жертвоприношение Авраама», 1600–1608 гг.
Я слышал, как один из великих художников нашего времени говорил Модильяни: «Если ты пишешь натюрморт, как тебе хочется, любитель в восторге, пишешь пейзаж, – он опять же в восторге, если ню, – он начинает кривить физиономию; если его жену… то смотря по обстоятельствам; но если ты садишься писать его портрет и на беду тронешь его морду, – ну тогда, старина, увидишь, как он подскочит!» Только в отношении собственного лица многие люди, даже среди тех, кто любит живопись, начинают осознавать магическую операцию, в результате которой происходит как бы экспроприация в пользу художника. Любой художник, который некогда навязал такое восприятие, современен в нескольких отношениях. Рембрандт – первый мастер, чьи модели иногда боялись увидеть собственный портрет. Единственное лицо, с которым современный художник, как правило, «договаривается», это его собственное, и, глядя на автопортреты, можно предаваться долгим раздумьям… Разрыв с вымыслом, конец воображаемого могли привести только к двум последствиям: или экзальтации абсолютного реализма, относительно которого мы убедимся, что его никогда не существовало, ибо любой реализм ориентирован неким суждением, ради которого он отдаёт свою силу иллюзии; или рождением нового идеала, который стал абсолютным и заявленным освоением того, что художник изображал: метаморфозой мира в картинах.
Когда живопись была средством преображения, последнее, хотя и могло проявляться в портрете, пейзаже (Рембрандт это предостаточно показал), признавало за воображением монаршие права и было связано с глубоким течением вымысла. Довольно представить себе Тинторетто, которому пришлось бы написать три фрукта в компотнице, – и ничего вокруг! – чтобы почувствовать, что присутствие его как художника было бы там подавляющим, и насколько оно было бы очевиднее, чем в барочном изобилии или в пышно поставленном искусстве «Битвы при Заре»[127]127
«Битва при Заре» – полотно Тинторетто (1585), заполоняющее всю стену во Дворце Дожей (Венеция), одна из первых исторических картин.
[Закрыть]. Ведь ему пришлось бы преобразить фрукты исключительно средствами живописи. Художник никоим образом не перешёл от преображения к капитуляции, но от преображения к аннексии. Потребовалось, чтобы фрукты стали частью его особого универсума, как некогда они были частью преображённого универсума. И неистовство, которое на протяжении веков было неистовством искусства ради того, чтобы извлечь предметы из их естественной среды, чтобы подчинить их божественной способности человека, которая называлась красотой, распространилось на то, чтобы захватить их снова в их естестве, дабы поставить на службу божественной способности человека, которая называется искусством. Яблоки не стали в большей мере яблоками, они стали в большей мере красками; живописный мир, не становясь более вымыслом, должен был стать живописью, и было сделано следующее важное открытие: чтобы стать живописью, надо было, чтобы этот мир сделался особенным.
Если бы ангел-хранитель Рафаэля объяснил ему (но не показал) то, что позднее пришлось делать Ван Гогу, думаю, что Рафаэль прекрасно понял бы, как интересна будет эта неожиданная и рискованная затея для самого Ван Гога. Что его, Рафаэля, заинтриговало бы, так это то, насколько подобный опыт может быть интересен другим. Но так же, как люди давно обнаружили, что существует драматический рисунок, трагическая краска, они уяснили, что сведение мира к индивидуальному изобразительному универсуму, по-видимому, несёт в себе силу, подобную силе стилей, а в ней полно того же рода ценностей для тех, в чьих глазах искусство ценностью обладает.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?