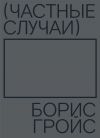Текст книги "Голоса тишины"

Автор книги: Андре Мальро
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Его история – это прежде всего история достижения неподвижности. В христианстве преобладает искупительный смысл муки; в буддизме – безмятежный образ медитации. Отсюда – на протяжении столетий средневековья – медленное опускание век, всё более и более лаконичный стиль, который в Китае словно «закроет» лицо Будды в момент его самоуглубления; отсюда складки его мантии, всё более и более сливающиеся с телом; отсюда абстрактность самого тела. Если античное, особенно александрийское, обнажённое тело внушает идею подвижности, то буддийское не только неподвижно – оно избавлено от движения.
Таким образом, первым был поражён жест. Головы, характерные для Аполлона, некоторое время оставались нетронутыми потому, что были знаками; часто чужеродные в этом неподвижном и задумчивом мире, они казались дополнениями… однако постепенно Аполлон становился антагонистом. Рядом с его формами стали искать новое воплощение их освободительной силы. Постепенный переход планов был заменён гранью, античная же линия казалась нетронутой. Но объёмность ликов Гандхары слишком отличались от архитектурной объёмности архаической Греции, чтобы затверделое лицо Аполлона вновь стало лицом Возничего[157]157
См. комментарий 108 к части 1.
[Закрыть]. Линия, которая заменила ускользающий контур форм, служила не архитектуре, но, прежде всего, каллиграфии. Кажется, глаз фресок Бамиана[158]158
…Фрески Бамиана… – Бамиан – город в центральном Афганистане на высоте 2500 м над уровнем моря; самое западное из буддийских поселений в долине между высокими скалами, где были высечены статуи Будды (III–IV вв.), среди них две гигантские (53 м и 38 м); разрушены талибами; там же – 750 монашеских келий украшены фресками и скульптурами (V–VII вв.).
[Закрыть] – часть орнамента, который называется штрихами пера; тонкий, изогнутый нос, заменяющий нос греческий, этнический или нет, таков, что его форма гармонирует с декоративными арками, которыми становятся многочисленные раструбы…
Эта каллиграфия – не случайность. Византия найдёт иную каллиграфию, угловатую. Запад, иллюстрирующий свои манускрипты эпохи Меровингов, – ещё одну, которую он будет смягчать вплоть до хрупкости рисунков Адемара де Шабанна; романское искусство, едва освободившись от суровой гениальности Отёна и Клюни[159]159
Клюни – город французского кантона Сон-э-Луар; бенедиктинское аббатство (910 г.), обширнейшая по площади христианская церковь (нач. в 1088 г., до собора св. Петра в Риме). Богатая архитектура Клюни сыграла решающую роль в развитии романского искусства.
[Закрыть], обретёт каллиграфию каталонских фиоритур. Каллиграфия Гандхары завершится в индийской живописи, связанной с танцем, чья гибкость всё больше и больше будет сближаться с движениями баядерок, скользящих в глубине Аджанты, напоминая ритуальные жесты последователей Византии. Так витиеватый рисунок Виллара де Оннекура[160]160
Виллар де Оннекур – французский архитектор и рисовальщик (первая половина XIII в.). С его именем связан манускрипт, содержащий серию из 325 рисунков, ценный документ по архитектуре и технике графики Средневековья.
[Закрыть] и рисунок наших изделий из алебастра распространятся на множество изделий из слоновой кости и затеряются в великой каллиграфии готических ломающихся складок…
У любого искусства есть своя каллиграфия, которая интегрируется в его великих произведениях, но не всегда на них похожа. Подобно тому, как будут развиваться монументальные стили в Византии и в Западной Европе, параллельно с сопровождающей и не затрагивающей их каллиграфией в приветливый стиль Гандхары проникали формы (подчас, быть может, возникшие на иранской основе), которые упрочивали греко-буддийское искусство в его борьбе против Греции. Манера, объёмность занимали место, которое занимает мазок в живописи. Так как вновь появилась грань, поверхности щёк оставались лепными; но как бы ни были изящны губы и веки, казалось, они делались с помощью ножа, как у «Дамы из Эльче», как у романских голов.
Когда родится наше средневековое искусство, формы, разработанные в древности, столкнутся с душой примитивной, одновременно крестьянской и воинственной, когда христианство, распространившееся среди племён, вобьёт свой тёсаный крест ударами военного топорика; в Азии те же античные формы встречались с культурой «Вопросов Милинды»: тогда легендарный Менандр заставлял греческих философов и теологов буддизма вести диалог в его присутствии. У нас – плуг и секира, старый набор фигур, перемазанных красным; здесь – толпы, приветствующие высокими жёлтыми лилиями коленопреклонённого проповедника под тополем Памира или фернамбуковым деревом Индии… Совсем неподалёку простирались степи, но оазис не утратил ни изделий из слоновой кости, ни стеклянной посуды, ни украшений, ни своего церемониала. В высокогорных долинах эллинистическое искусство встречалось не с Меровингами и их казнями чернокожих царей, а с утончённостью. Индо-скифский Канишка возглавлял четвёртый буддийский собор. Замена хрупкой имитации мрамора синим сланцем произошла не без причин и, тем более, не без последствий. Там, где победа сострадания превратила мир в обширное причастие и вызвала на живых лицах улыбку, неведомую ещё буддийскому искусству, так называемые гуманистические формы словно начинали служить этому смиренно торжествующему состраданию, будто давно задумали его историю; к тому же им приходилось менять гуманизм. Так, у нас они, видимо, будут служить готической кротости и папскому блеску. Мастера Реймса, Джотто, Микеланджело, однако, не Фидий и не Лисипп. Термин «готико-буддийский», которым обозначают некоторые из этих произведений, удачен в том смысле, что он отличает их от древнейших Сланцев, равно как от фигур, навеянных изображениями Аполлона, но это не готические образы: это образы, возвещающие Возрождение. Фигуры, родственные «Реймсской улыбке»[161]161
«Реймсская улыбка» – изображение улыбающегося ангела (XIII в.), один из шедевров Реймсского собора.
[Закрыть], не являются таковыми в смысле моделировки, отличной как от Микеланджело, так и от Праксителя; достаточно сравнить глаза, рты… У этих улыбок общего есть только смутная нежность, когда греческая идеализация, преображённая состраданием, соединяется с готикой, которая в христианстве, видимо, знала только ангелов…

Улыбающийся ангел. Реймсский собор, ок. 1236–1245 гг.
История гандхарского искусства привлекает скульптора как раз потому, что оно встречает наше Возрождение, не зная ни романского стиля, ни готики. Оно обрело неподвижность, но не религиозный формализм. Оно прошло путь от античности к Джотто через Никколо Пизано, минуя Средневековье, по-прежнему ничего не зная ни об аде, ни о святости. Выражая величайшую мудрость в лице Мудреца, буддизм вынуждал каждого из своих художников извлекать из универсальной иллюзии некую часть избавления, а его стилизация призвана была создавать из окружающего мира обрамление безмятежности, подобно тому как египетская стилизация некогда творила из окружающего мира обрамление вечности.
Таким образом, в ещё большей степени, нежели римское искусство в Европе, это искусство займёт место эллинистического и, сменяя последнее, встретится с Индией, Китаем и смертью.
В V веке в Индии оно вызовет к жизни великие лики эпохи гуптов[162]162
…статуи гуптов… – династия гуптов на севере Индии (ок. 320–480 гг.) дала название одному из самых прекрасных стилей индийской скульптуры.
[Закрыть]. Оно их создавало рядом… Хотя гандхарское искусство обретает смысл благодаря своим изображениям, которые освобождаются от эллинистики, а не тем, которые её имитируют, греческий дух давно был реально связан с буддизмом в этом эллинизированном регионе. В Матхуре[163]163
Будда Матхуры – это не лик Санчи… – Матхура (Уттэр Прадеш) – один из семи священных городов Индии, столица Кушанского царства (II в.); играл особую роль в религиозной истории, считается местом рождения Кришны (воплощения Вишну). Древнейший центр буддизма – Санчи (III–II в. до н. э.); ступы – хранилища реликвий.
Амаравати – другой центр буддизма, оказавший огромное влияние на дальнейшее его развитие в Индии и всей юго-восточной Азии.
[Закрыть] он обнаруживал буддизм Ганга. Его влияние на индусское искусство долго анализировалось. Но не оно будет воздействовать через статуи гуптов; точно так же оно не будет просто интегрировано вечной Индией. Будда Матхуры – это не лик Санчи и не лик Амаравати. Это искусство не очень индийское, но и не эллинистическое. В качестве фермента искусство Гандхары, возможно, оказало там своё воздействие на формы, которые предшествовали его неожиданному появлению; точно так же как буддизм придал брахманизму универсальность, на которую последний не претендовал. В Индии это искусство вызвало к жизни образы, которые она до того никогда не знала. После своего исхода, по возвращении, буддизм вынудил её искать в универсальности образ достаточно очищенный, чтобы весь буддийский мир смог себя в нём признать. И он признал себя в нём – от Ганга до Чампы, от Цейлона до Явы. История эллинизма заканчивалась. Вплоть до оживления брахманизма Будда будет принадлежать только Индии.
Но в скором времени будет изваян Махешамурти Элефанты[164]164
Махешамурти Элефанты – см. комментарии 22 и 23 к части 1.
[Закрыть]…

Стоящий Будда. Красный песчаник, Матхура, Индия, период империи Гупта, ок. V в.
Греко-буддийское искусство достигло Китая не через гавани Индии, а через прибежища пустыни. Ещё до того, как в песках и под голубыми маками Памира завершилась ставшая траурной его феерия, оно приблизилось к Юньгану и Лунмыню[165]165
Юньган, Лунмынь – см. комментарий 41 к части 2.
[Закрыть].
Со всей очевидностью ему принадлежит колоссальный Будда Лунмыня. Кажется, он спустил с древних китайских гор всё окружающее его множество статуй. Но откуда берётся их романская жёсткость? Быть может, Север извлекает отовсюду в её расцвете греческую форму, будь то растение, атлет или купальщица, дабы она стала послушной сланцу; быть может, ему неизвестны волюты Сасанидских наскальных барельефов. Создавали ли Тибет и Памир что-нибудь сопоставимое с этими храмами уединения? Кажется, озарение вдруг коснулось этих статуй-паломников, дошедших до Тихого океана через бесплодие Гоби. Подлинное религиозное искусство возникает в Китае, столь же отчётливо иное, сколь иным является романское искусство в сравнении с сакральностью Древнего Востока: человеческая драма отныне происходит на земле, словно вечерняя звезда Пастухов навсегда изменила неумолимый небесный свод Халдеи.
Конечно, беспощадный в случае надобности гуманизм китайской цивилизации принял буддизм так, чтобы последний не был, как в Индии, под постоянной угрозой метафизического повторения, которое сделало бы тщетным даже его космическое сострадание. Китай показал качество несравненного стиля. Магическая геометрия Цинь[166]166
…Магическая геометрия Цинь… – Имеется в виду архитектура Древнего Китая (III в. до н. э. – III в. н. э.) периода династий Цинь и Хань. От периода Цинь почти не сохранилось памятников, но представление о них дают литературные источники. В столице государства Цинь Сяньяне было около 300 дворцов, в которых важным конструктивным элементом была своеобразная система многоярусных деревянных кронштейнов (доу гун).
[Закрыть] намного превосходила искусство Индии с его пышностью… Покорный или восставший, индус является частью космоса; в то же время самые старинные китайские чеканки заставляют думать если не о мастерстве человека, то, по крайней мере, о его независимости, о постоянном уходе от судьбы. (И даже в космическом причастии велика дистанция от Плясок смерти[167]167
Не Danses de Mort (как в оригинале Мальро), а Danses macabres – словосочетание, выражавшее в Средние Века одну из трёх важнейших тем о конце всего сущего. Ни одна эпоха не навязывала человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV век. С плясками смерти, вовлекающими в свой хоровод людей, вторгался элемент, вызывавший приступы леденящего страха, предназначенный, в частности, для устрашения и назидания.
[Закрыть] до живописи Сун[168]168
Живопись Сун – см. комментарий 51 к части 1.
[Закрыть]). Любое большое китайское искусство стремится прийти к идеограммам, наделённым чёткой выразительностью. В чистых образах Юньгана аллюзия заменяет утверждение; главное – это место всего, что не есть судьба. Глаза в искусстве династии Вэй[169]169
Глаза в искусстве Вэй… – устремлённый в пространство взгляд широко расставленных глаз; о характере скульптуры вэйской эпохи (Северо-Вэйское царство, 386–584 гг.) дают яркое представление пещеры Юньгана и Лунмыня. Наиболее ранние пещеры (V в.) не имеют себе подобных: например, пятнадцатиметровая фигура Будды в 20-й пещере. Другие скульптуры Будды-Вэй – удлинённых пропорций, строго фронтальные – воплощают своей таинственной улыбкой и опущенными глазами мистическую веру приверженцев буддизма.
[Закрыть] не имеют себе равных. Это уже не изгибы индийской каллиграфии, но решительная линия, извлекающая из уверенности манеры некую духовность, которую обнаружат только в сложной лепке кхмерских голов, чьи глаза нередко изображаются подобным же образом; но эта духовность служит прихоти архитектуры. И из соединения гениального эллипса с монументальностью на склонах жёлтых крутых скал Шаньси рождаются несколько высочайших фигур, которые когда-либо изваяли люди.
Монументальность, побуждающая к размышлению. Говорят, европейские статуи-колонны происходят от колонны, откуда выделится готическая форма. Может, удлинение стел и наскальных фигур Вэй обязано некоей архитектуре? Нет ли точек соприкосновения между нашими соборами и этими горами, где упорные анонимные творцы высекали камень? Не окоченение смерти встречает художник, а незыблемость бессмертия. Вновь вырастают, на этот раз озарённые духовностью, глыбы халдейских гранитов, сонмы иберо-финикийских статуй. И вопреки фиоритурам, украшающим волосы или одеяние, – строгости готических ломающихся складок – платья Христа, – Будда эпохи Вэй опускает веки, охватив взором мир, где тщеславная конница Акрополя вклинивается в толпу призраков…
Как не усмотреть в пространных исканиях ума и души, когда обретались пристанища великой азиатской пустыни, возврата к истории, родившейся в Акрополе Дельф? При очевидности культа, который многие века связывали с Грецией, прославляются или нет открытые ею ценности, она некогда в корне изменила позицию художника в тот день, когда посторонившиеся боги подчинились примату человека. Перед лицом богов она подняла с колен раболепство трёх тысячелетий. Затем некое неистовство, когда нечеловеческий блеск пустыни погружался во мрак священных пещер, отбросило человека к его ничтожности везде, где на солнце он возводил греческий победоносный образ. Вслед за полной неги агонией эллинского мира, за печальной агонией римского мира от Испании до Тихого океана религиозное искусство, пробиваясь не столько через неумелость художественного стиля эпохи раннего христианства, сколько сквозь страсть иконоборцев, завладеет монаршим правом вечного. В те времена, когда то, что вблизи Ионического моря было некогда улыбкой, дарованной женщиной, Китай на склонах гор заменял одинокой улыбкой людей безмолвных…

Гигантский Будда. Пещеры Лунмынь, Китай, ок. VII в.
Эта судьба не столько история жизни эллинистических форм, сколько история их смерти. Когда в оазисах они сталкиваются с незначительными ценностями, они разрушаются; когда в Индии и в Китае они встречают мощные учения индийского буддизма или буддизма китайского, наступает метаморфоза. Редко с большей ясностью история показывает нам, что столь всеохватная сегодня «проблема влияния» всегда перевёрнута вверх дном. В Гандхаре эллинистические формы суть формы, где искусство освобождается, подобно тому, как греко-буддийские формы освобождаются в Индии и Китае. Наконец, становится явным глухой конфликт в регионах, где существует влияние эллинизма. Есть связь между Корой Евтидикос и Лунмынем, но это не преемственность влияния метаморфозы в точном смысле слова: жизнь эллинистического искусства в Азии – не жизнь образца для подражания, а жизнь хризалиды, куколки бабочки.
С точки зрения Азии, это жизнь некоего освободителя, который создаёт средства освобождения от него самого. Там, где греко-буддийское влияние остается реальным, то есть там, где оно не встречает метаморфозы, искусство, по-видимому, медленно чахнет. Уже после VII века в великой азиатской пустыне, чьи города засыпает песком, оно агонизирует, вновь обретая свою древнюю каллиграфию и смешивая её в своих фресках с фресками Ирана, Китая и Индии. В Тумчуке, в Кашгаре[170]170
Кашгар – город на крайнем Западе Китая, в прошлом важный перевалочный пункт Великого шелкового пути.
[Закрыть] его скульптура уходит из-под влияния китайского искусства, несмотря на китайские лики, возвращается к тяжеловесному украшательству в создании образов владык. Однако к западу от Кабула, в Фундукистане, были обнаружены поздние фигуры ещё до того, как война приостановила раскопки, где местные жители извлекали из глиняной пыли вместе с фрагментами ларцов из слоновой кости стеклянных разноцветных рыбок и какой-нибудь лошадиный череп с татарскими удилами. Там расцветал красочный мир, который несло с собой эллинистическое искусство, мир, ещё сохранившийся сегодня и на Ганге, и в Самарканде, в Азии, где гуляют пары подростков и жуют пыльный степной шиповник, где на мокрой от пота шее жрецов, совершающих жертвоприношения, висят ожерелья из плюмерии. Найденные в обжигающем пахучем песке руки изогнуты, как лилии. Когда-то человеческие формы будут поводом для пафоса барокко, здесь же они становятся поводом для абсолютной «антиготики», для некоего стиля орхидеи, который подспудно блуждает в азиатском искусстве, начиная с индийской избыточности и кончая богато декорированной величественностью периода Тан[171]171
Время правления династии Тан (21 император, 618–907 гг.) считается «золотым веком» Китая и небывалого расцвета искусства.
[Закрыть]. Такой системы линий, которая не имеет общего с замкнутой системой средневековых углов на Западе и искусства Вэй, ни даже системой, тоже замкнутой, нашего классического искусства; когда тело становится тюльпаном, когда пальцы удлиняются, смягчаются, а формы барокко устремляются вверх…
Арабеска служит «замедлению» камбоджийского танца, того балета, который Азия никогда окончательно не забывает. В эпоху, когда буддизм найдёт в китайском искусстве своё наивысшее сентиментальное выражение, он теряет в этом искусстве всякое чувство и находит чувственность, лишённую сексуальности. Если оставить в стороне орнамент, его торсы напоминают каллу, наименее живой из цветов. Почти тысяча лет существования скульптуры замыкается в этом одиночестве, когда доносится аромат обожжённой лаванды афганских степей, когда мечты скульпторов Александра, Менандра и Канишки, наследие Бамиана и фресок Индии отделены от своей изысканности только патиной времени.

Скульптура божества буддийского пантеона (деватта). Буддийский монастырь Фундукистан, VI–VII вв.
В то же время, как в Пальмире, а вскоре в Византии и в искусстве гуптов, одно из самых эффективных средств одухотворения появляется в Китае: обведение контуром рта и глаз. Оно завоюет Азию: Юньган, Лунмынь, Японию, Камбоджу, Яву. Этот позабытый в Египте контур проникнет вглубь македонской Азии, где агонизировала «зелёная бронзовая конница на широких мостовых», просуществует четырнадцать веков и исчезнет только в XVIII столетии. С другой стороны, завершится история буддийской скульптуры, и пагоды Сиама, заснувшие под монотонный звон колокольчиков и завывание малайских муссонов, будут пассивными свидетелями того, как на фоне обманчивой декорации Ост-Индской Компании исчезнет последняя метаморфоза Аполлона.
III
В Византии и в христианском Риме вновь создаваемые формы не сталкивались с могучим прошлым, как в Индии и Китае: они сталкивались с Востоком, который не сдерживали более легионы.
Метаморфоза античного искусства в византийском становится, однако, понятной, если перестать видеть в Восточной Римской империи упадок Западной Римской империи. Последние Палеологи ничтожны в сравнении с Августом, чего нельзя сказать о Василии Втором в сравнении с Гонорием. Ангелы, свидетели заката Византии, долго бодрствовали в камышах Равенны[172]172
В VI в. (до 584 г.) Равенна была византийским владением в Северной Италии (так называемый Равеннский экзархат), форпостом против наступления варваров.
[Закрыть], в катакомбах Рима, где папские гвардейцы в золочёных камзолах боролись с гвардейцами его противников. Византия, в V веке единственная мировая империя, просуществовала тысячу лет – дольше Рима.
Республиканский стоицизм был мёртв в апогее всевластия Рима. Ни Цезарь, ни Август, ни их преемники не были примерами добродетели… На протяжении столетий моральная история Европы писалась для церкви, которая, скорее, старалась свидетельствовать о пороках своих гонителей, чем нападать на Цинцинната. С горечью наблюдаемый соратниками Плутарха мир Мессалины[173]173
Валерия Мессалина – римская императрица (ум. в 48 г.), жена Клавдия I, знаменитая своим распутством, жестокостью, управлявшая империей вместо мужа.
[Закрыть] воплощал упадок в не меньшей степени, нежели мир Феофано[174]174
Феофано – византийская принцесса, стала германской императрицей, вступив в брак с Оттоном II (955–983 гг.), германским императором. Он пытался утвердиться в качестве властителя Италии, но был разбит сарацинами (982 г.), что позволило славянам освободиться от германского господства к востоку от Эльбы.
[Закрыть]. Церковь не брезговала тем, что связывала с миром жестокости и коррупции, где находили конец все двенадцать Цезарей[175]175
Жизнь двенадцати цезарей описана Гаем Транквиллом Светонием (ок. 70–140). – Это Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, Отон, Вителлий, Веспасиан, Тит и Домициан.
[Закрыть], раскольнические уроки Византии; но разложение великой военной империи внушает бесчувственную торжественность мозаик и икон не больше, чем сладострастие александрийских фигур. Нам известна манера, объединяющая некоторые образы Катакомб и Пальмиры, Файюма и ранней Византии; римский дух на берегах Босфора побороли не беспорядок, не сексуальность, а Восток.
При византийском дворе женщины носили фату так же, как при дворе Сасанидов, и церемониал Порфирородных отнюдь не поражал персидских послов. Разве Дарий не благодарил Василия II за своё воскрешение, за то, что тот стёр с лица земли всё, вплоть до души Фидия и Брута? В гробницах опять находили шпаги с бирюзовыми эфесами, но не мечи, выкованные из одного куска металла, закалённые одновременно с лемехами плугов. Смертоносное великолепие, противостоявшее сверкающей непринуждённости Греции, кишение полицейских, которыми так дорожат тирании, изворотливость, столь часто подменяющая закон (но не верховную власть), вся эта оттоманская мёртвая декорация была лишь новым отражением тысячелетнего волнения: Бога.
Если бы ислам писал свои собственные иконы, насколько византийское искусство было бы понятнее!

Добрый пастырь. Древнейшее изображение Христа, Катакомбы Домитиллы, Рим, Италия, II в.
Христианство восприняло прежде всего формы, которые оно нашло в Риме. Гермес, несущий барана, стал Христом; он подходил в этом смысле не так плохо, как Юпитер или Цезарь. Но язык вечной жизни был связан со смертью, которая на каждом заброшенном цоколе, казалось, заменяла статую императора, с торжествующей, наконец, азиатской смертью, которая теперь придавала смысл жизни. Когда штормовой вал нищеты и милосердия накрывает империю, затерявшиеся наивные её изображения ещё встречаются на стенах церквей. Понадобятся столетия, прежде чем Христос перестанет быть неким античным пастырем, а сам Рим обретёт собственную христианскую манеру, только услышав свои давние подземные голоса сквозь Катакомбы и кладбища…

Древнейшее изображение Богородицы с младенцем Иисусом и пророком. Катакомбы Присциллы, Рим, Италия, II в.
Это искусство тайников и гробниц похоже на канте хондо, импровизированную песнь Испании. Оно не развивается стилистически. Сохраняла ли своё обаяние римская живопись? Сколь бы мало мы её ни знали, в произведениях, которыми мы любуемся (как и скульптурой того же времени), она находится в поиске монументальности и декоративности изображения. Зачем толпе рабов эти впечатляющие формы, зачем они патрицианкам, которые несли свои опустошённые души на жалкие пиры римской нищеты? Оранты[176]176
Оранты – (букв. молящиеся), одна из распространённых фигур в катакомбном искусстве; обычно это фигура молодой девушки, чьи простёртые руки характерны для позы античной молитвы; образ души, освободившейся от телесных пут и испытывающей небесное блаженство.
[Закрыть], наспех написанные на потайных стенах, римлянки, усопшие в своих саркофагах, противоречили статуям на залитых солнцем площадях не более, чем песнь распятой девочки ошеломляющему Колизею…
Душераздирающее звучание живописи Катакомб исходит не из их ценности, а оттого, как невнятно человек отвечает здесь на заповедь Синая[177]177
…Заповедь Синая… – Катакомбные фрески, выполненные при тусклом свете ламп, позволяют представить, как христианство приходило на смену язычеству, первые чувства христиан, вчерашних язычников, воспитанных в духе легенд Древнего Рима. Так, в катакомбах изображения Эроса, Психеи и Орфея чередуются со сценами из Ветхого и Нового Завета. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». (Исход, XIX–XX, Моисей пред Господом на горе Синай).
[Закрыть]. Когда свеча, привязанная к палке каким-нибудь монахом без сутаны, высвечивает первые надписи подземных ходов, можно ли вновь не слышать зов подземелья? Пока пробираешься среди скал пещеры Фон-де-Гом; голос далёких времен предупреждает о появлении поблёкших бизонов, дрожащих при свете электрического фонарика, будто были они некогда тенью. Если не считать магии, имеющей слепое лицо тысячелетий, для которого смерть людей ещё не принадлежит им самим, а в придачу – данный в откровении голос помилования. Однако плохо потаённые образы отвечают голосу, идущему из глубины! На земле римской деревни, за ощетинившимися посадками артишоков, уходят вдаль кипарисовые аллеи, а солнечные кузницы всё ещё куют красное золото, дрожавшее, когда корабль Антония мчался навстречу Клеопатре. Бесчисленные мертвецы и мученики, откровение, которое вскоре восторжествует над Империей, оставили в этих подземельях лишь несколько молящихся фигур и плохую копию декорума виллы Нерона[178]178
Вилла Нерона – так называемый (Золочёный дом), построенный на Эсквилинском холме после пожара в Риме (64).
[Закрыть].
В Риме III века стиль уже не является выразительным средством: саркофаги язычников, древних евреев и христиан, барельефы, изображающие победы императоров и жертвоприношения Митре, принадлежат одному и тому же искусству. Христианская душа заселяет античные формы подобно тому, как вскоре церкви займут императорские покои.
Неумелость и бедность придают катакомбному искусству христианское звучание. Хотелось бы ближе разглядеть эту бедность, разгадать в рисунках Добрых Пастырей душераздирающий, почти дикий образ, чьей волнующей копией они могли быть; но на саркофагах Добрый Пастырь, Оранта – это фигуры, восходящие к эпохе Флавиев. Того не сознавая, они уходят от примет имперского стиля; иногда они принимают этот стиль. В глубине подземного кладбища римский образ Осени олицетворяет падение империи.
Всё же образы Пастырей, Орант, даже евхаристическое причастие, нередко принадлежат той же области, что и хлеб этого причастия, и рыба, и печальный крест подземных галерей. Развитие этого творчества скорее приведёт к отказу от античного искусства из-за декоративности, когда христианские художники из народа были декораторами, привычные и понятные им формы не были формами статуй. Однако, хотя творчество это в том, что в нём есть элементарного, представляет собой обрамление, оно не декоративно. Бедность, за неимением стиля, придаёт ему напряжённость. Кажется, некоторые Оранты неожиданно готовы заговорить на языке заутрени, на языке окружающей их религиозной любви; а тёмные линии на редких рисунках вот-вот зачеркнут этот смиренный народ, наивный и полный скорби. Как изобразить высокопреподобных? Возможно, смирению художников способствует характер знака, а не изображения, который они придают самым «реалистическим» Добрым Пастырям, как граффити. Но как только Добрый Пастырь перестаёт быть знаком, как только женщина с ребёнком становится Мадонной, религиозное начало оживляет выразительные средства.
Прежде ломается арабеска. Почти всякий раз, когда в агонии чувств воцаряется мир несчастья и крови. Египет некогда принёс свою тонкую непрерывную линию; Евфрат – иератическую извилистость; Греция – улыбку и торжественные складки; затем родились волюты и спирали, продолжавшие кривую линию вглубь и украшавшие императорские доспехи, а также лелеявшие александрийских ню. Арабеска, которая проникла в Рим и в Сирию вместе с копиями греческих шедевров, которая прикрыла своими переплетениями искалеченные бюсты, не знала прецедентов за пределами Азии. Именно она в Западной Римской империи выражала доверие человека к самому себе, когда он утверждал силу вместо того, чтобы раскрывать свой гений, когда Император заменял Возничего. Но когда мир переместится в подземелье, а христиане Катакомб будут бояться встретить там призрак Цезаря, который бродит в водостоках Рима, только торжественные и согбенные фигуры Орант взовут к искусству священной сени. Такому трагизму чужда арабеска.
В ещё большей степени, нежели греческие образы, образы римские принадлежали театру. Быть может, они были единственным законченным театром некоей культуры, чьи зрелища столь обязаны маске; те знаменитые изображения, которые дошли до нас, и вся римская скульптура прославляют Сенеку, возможно, лучше, чем представление какой угодно трагедии. Начинался великий спад, который изображение в церкви заменял мессой, а на паперти – мистерией. Исчезает самоутверждение человека, поначалу энергичное, затем тщетно громкое; человек не ставит более под вопрос то, что он не в состоянии понять, – Греция это давно провозгласила, – но ставится под сомнение человек самим фактом того, что от него ускользает, того, что выше его разумения, того, что выходит за пределы его возможностей или его подавляет.
В Византии членение линии, особенно в изделиях из слоновой кости, связано с усложнением искусства эпохи Константина Великого; это членение ещё с ним не смешивается. «Христос между четырьмя святыми и апостолами» из Катакомбы Домитиллы[179]179
Катакомба Домитиллы – одна из сорока катакомб, расположенных вблизи Аппиевой дороги в Риме (виа делле Сетте Кьезе). Фреска «Христос между четырьмя святыми и апостолами» (ок. 340) относится к периоду преследования первых христиан в I веке; Домитилла была осуждена на изгнание, а её муж Флавий Климент из рода Веспасиана, ставший христианином, казнён.
[Закрыть], наверное, более обязан гравюре, чем скульптуре. Мы слишком хорошо знаем, что всё это искусство воспримет византийскую манеру, чтобы не были ясны этапы, которые приведут его в Византию. Но история римского искусства состоит далеко не только из того, что его преобразует в византийское искусство: нередко это история борьбы с Востоком, уже тогда история тяжкая. До того, как Византия стала оказывать воздействие на римский мир, в Риме возникло беспорядочное, но пламенное тяготение в пользу преобладания христианской выразительности над римской идеализацией облика. Фигуры, которые некогда изображали Марса или Венеру, принадлежали демону; и хотя никто ещё не знал, какие именно линии подобали Христу, происходило так, что их искали в магических угловатых мазках кистью, не известных античности; это членение не было ещё византийским серповидным членением. Аноним, который написал Богоматерь Катакомбы Присциллы[180]180
…Богоматерь катакомбы Присциллы… – Впервые появляется образ Богоматери, несущей младенца (III в.). Рядом с ней – пророк, который возвещает о её приходе, указывая на звезду, её символ.
[Закрыть], быть может, был первым христианским художником.
Однако Рим не утратил своего старинного вкуса к портрету; изделия из золочёного стекла продолжали фотографическую традицию вплоть до кладбищ. Вечная жизнь, по-видимому, придавала особые черты лицу индивида подобно тому, как в Фаюме особые черты человеческому лицу придавала близость трупа: трудно себе представить на плащанице помпейскую «Поэтессу»[181]181
Портрет помпейской «Поэтессы» изображает молодую женщину, держащую в руках книжечку и карандаш.
[Закрыть]. Благодаря увеличению глаз и неподвижности взора некоторые Оранты становились идеализированными портретами. Когда потусторонний взгляд будет сочетаться с удлинённым силуэтом, родится христианский стиль.
Кстати, по-видимому, родственное искусство создавалось за пределами Рима: в Пальмире и в Фаюме римская форма давно встретилась с Востоком так же, как у подножия Памира греческая форма некогда встречалась с Азией. По-видимому, эта римская форма становилась весьма уязвимой. Риму не требовалась Византия, чтобы забыть об искусстве эпохи Траяна: не бывшая дополнением части арки Константина, колоссальная статуя последнего уже относится к стилю, враждебному тому, что мы именуем римским. Это не было ещё христианством, которое сковывало римские изображения: это был паралич Рима. Жест Цезаря умер, и речь шла не о том, чтобы знать, какой новый жест придёт ему на смену, но о том, как искусство будет оживлять неподвижность.
Существовали, быть может, иные Пальмиры, которые мы не обнаружили. Известная нам Пальмира была вратами пустыни, военным портом, оазисом, где комплектовалась арабская кавалерия, которая так часто нужна была Риму в Сирии. Её искусство, оставшееся без должного внимания, – которое столькими чертами указывает на Византию, – существовало почти так же долго, как и французское романское искусство. (Как легко вообразить историю искусства, где Ренессанс был бы только недолговечной гуманистической случайностью!). Характер иберо-финикийских статуй – несмотря на всё, что разделяет стелы Пальмиры и «Даму из Эльче», – кажется, превращает в камень греческий танец, в то время как погребальные изображения идут на смену ню. Восходящий изгиб, который улыбка требовала от губ, становится нисходящим; жест сменяется неподвижностью вечного. Вечное же стремится найти свой стиль.
В этом искусстве отчасти присутствует реализм (на камне гравируется радужная оболочка глаза); очевидна одержимость портретом, который умирающее римское искусство завещает Катакомбам и Фаюму, второстепенным фигурам Гандхары и Сирии. Погребальные портреты стремятся уйти от жизни, не воспроизводя её: вместо лёгкости вуали здесь драпировки и диадемы, будто всё это поиски архитектуры смерти. Заметим, что данное искусство, как и искусство Гандхары, мнимо историческое: некоторые простейшие образы сосуществуют с тщательно разработанными. Энгр и Делакруа тут в центре братского общего достояния, и это, быть может, смерть, а может, пустыня, без сомнения, священная. Кажется, различимы усилия автора «Амит»[182]182
«Амит» – одна из надгробных портретных скульптур Пальмиры (II–IV вв.).
[Закрыть], превращающие в камень персонаж, который переживает самого себя: он стилизует его так же, как какой-нибудь греческий скульптор его бы украсил. Но некий квазисовременник усматривает в более сложной стилизации величие, которого империя никогда не достигала, ваяет единственную голову, быть может, достойную того, чтобы называться Римом; ещё один удлиняет и делает жёстким лицо, что наводит на мысль о Византии.
О том же напоминают формы рук, вес украшений и тканей, – всё, что оба города имеют неуловимо сасанидского: мы инстинктивно приписываем Зенобии (которая звалась Зейнаб, как одна из жён султана в сказках «Тысячи и одной ночи») жесты Феодоры[183]183
Феодора (500–548) – жена византийского императора Юстиниана I.
Зенобия Септимия – вторая жена правителя Пальмиры Одената, после убийства которого в 267 г. объявила Пальмирское царство независимым; расширила его пределы до Малой Азии, Аравии и Египта; потерпела поражение под Антиохией и Эмесой от римского императора Аврелиана и попала в плен; умерла в Тиволи, недалеко от Рима; её жизнь стала сюжетом произведений драматургии XVII и XIX вв.
[Закрыть].
На просторах гибнущей империи боги восстанавливали своё непобедимое владычество. Вместе с империей умирало светское искусство. Ласковые лики Аттики и Александрии, торжественные фасады Капитолия были не менее чужды пустыне, лесу, Катакомбам, ночному миру светил и крови, чем Плутарх святому Августину. Искусство стремилось столь же упорно уйти от человека, сколь упорно оно стремилось его достичь в Греции VI века. Исчезали улыбка, движение: всё, что двигается, что проходит, не стоит труда ваятеля… Вскоре появится торжественный идол Востока и кочевников; но ни неподвижность, ни бесчеловечность не становятся вечностью без усилий. На ощупь против Рима действует галло-римское искусство; от друзов до Петры и, быть может, до Сабы, искусство доисламской Аравии яростно отвергает римский лик, и эта ярость вскоре станет характерной для иконоборцев: нос заменяется трапецией, рот – чертой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?