Текст книги "Прочтение Набокова. Изыскания и материалы"
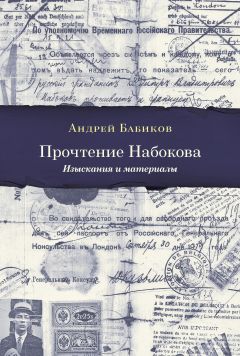
Автор книги: Андрей Бабиков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Сумма претензий Набокова к советской литературе, таким образом, обусловлена не раз приводившимися им общими основаниями всякого истинного искусства, которые кратко сводятся к следующим: оперирование постоянными, а не относительными исторически или социально детерминированными величинами, широта взглядов, презрение той или иной моды, направления, господствующей философии или доктрины, любого «заказа», любой утилитарной цели и отказ от мысли, что писатель своими книгами должен наставлять, изменять и вообще улучшать общество, каких бы благих целей он ни преследовал. Приверженность той или иной идеологии или направлению неизбежно ведет, по Набокову, к неприемлемой и, по сути, невозможной форме коллективного творчества, отрицавшейся им с тем же жаром, что и, к примеру, формы коллективной, заранее определенной модели психических реакций и влечений фрейдизма, классовое деление общества или принцип борьбы за существование вульгарного дарвинизма. Советской коллективной литературе («классовость» – лишь эвфемизм безличия), с ее пафосом строительства нового общества и «борьбы за интересы трудящихся», Набоков противопоставлял великую транснациональную традицию индивидуального независимого творчества, исходящего из ценности личного взгляда художника на человека и общество, каким бы крамольным или неожиданным этот взгляд ни был. Именно сложностью и глубиной уникального восприятия действительности объясняется сложность и глубина всякого подлинного искусства, с его поисками неизведанного, с его сомнениями и открытиями, в то время как для советской литературы была разработана «нормативная эстетика» (выражение Д. Мирского в статье 1934 года под показательным названием «Политика и эстетика») заведомо условного реализма (заведомо условного, поскольку действительное положение дел и состояние умов писатель не вправе был показать), предполагающая абсолютное знание истинной природы человека, назначения «принадлежащего народу» искусства, законов общества и его благополучия.
Окончательно утратившая свою независимость, советская литература к началу 30-х годов могла вдохновляться лишь речью вождя, постановлением какого-нибудь пленума или передовицей «Правды» о великих свершениях и отдельных недостатках, а революционная героика под воздействием центростремительных сил закономерно редуцировалась до воспевания фигуры одного-единственного героя – Сталина, инструментом обслуживания интересов и вкусов которого она и стала. В докладе, составленном для Британского правительства в 1945 году, Исайя Берлин писал:
Новая ортодоксия, окончательно утвердившаяся после падения Троцкого в 1928 году, решительно положила конец инкубационному периоду, в течение которого лучшие советские поэты, романисты и драматурги <…> создали свои самые оригинальные, памятные всем произведения. Это обозначило конец бурной второй половины 20-х годов <…> До 1928 года мысль была в бурлении, все было неподдельно оживлено духом бунтарства, вызова западному искусству; казалось, что идет последний решительный бой с капитализмом, который вот-вот ниспровергнет – на художественном фронте, как и на всех остальных – сильная, молодая, материалистическая, земная пролетарская культура, гордая своей брутальной простотой и новым жестоким и неистовым образом мира <…> это была эпоха Пастернака, Ахматовой <…>, Сельвинского, Асеева, Багрицкого, Мандельштама; таких писателей, как Алексей Толстой (вернувшийся в 20-е годы из Парижа), Пришвин, Катаев, Зощенко, Пильняк, Бабель, Ильф и Петров; драматурга Булгакова; таких признанных литературных критиков и ученых, как Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, Шкловский, Лернер, Чуковский, Жирмунский, Леонид Гроссман. Голоса писателей-эмигрантов – Бунина, Цветаевой, Ходасевича, Набокова – были едва слышны[353]353
Берлин И. Литература и искусство в России при Сталине // История свободы. Россия. М: Новое литературное обозрение, 2001. С. 394–395. Пер. Л. Лахути.
[Закрыть].
Звучащий в 30-х годах из репродукторов голос Сталина заглушил все прочие голоса. Любое его высказывание о литературе и роли писателя немедленно приобретало силу директивы и тут же на разные лады перепевалось советскими авторами. Провозгласив, к примеру, в 1932 году на банкете у Горького, что «писатели – инженеры человеческих душ», Сталин пустил в литературный оборот десятки всевозможных технических уподоблений писательского ремесла и – шире – всего общественного переустройства, вплоть до «социалистического строительства души» у Д. Мирского и «духовной электрификации» у А. Толстого (другое дело, что любая игра слов с «душой» в литературном контексте и в контексте эпохи немедленно напоминала о гоголевских «Мертвых душах»)[354]354
См. также другие вариации этого высказывания в обзоре Омри Ронена «Инженеры человеческих душ». К истории изречения (Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 164–174).
[Закрыть].
Эти тенденции были очень скоро замечены эмигрантской критикой. О том, что «фантазирует в России только один человек», а все остальные «по мере сил проводят его предначертания в жизнь», в 1933 году проницательно написал Адамович в статье «План», в которой он вынужден был с сожалением признать, что советская литература не состоялась: «Да, могло бы что-то быть… Но не получилось почти ничего». Критик приходит к выводу, что «в слово „литература“ вложено в СССР новое, чуждое нам понятие».
Для нас литература – выражение или отражение духовного мира человека, – продолжает Адамович. – Определение это может быть заменено другим <…> но какое бы определение кто ни нашел, всякое будет содержать в себе приблизительно то же самое. Во всяком будет подразумеваться личность в ее отношениях к стихиям, к обществу, к неизвестному, к самой себе, – и передача всего этого в слове. <…> В России литература становится механична потому, что только при этом она чувствует себя в безопасности: вольная трактовка темы неизбежно увлекла бы ее в «уклон». Это особенно видно в языке. Кто читает советские журналы, тот знает этот нестерпимый, мертвый, казенный советский язык, составленный не столько из комбинаций слов, сколько из комбинаций готовых фраз, всегда одинаковых, неизменно повторяемых. Да и слова одинаковые! Сказал о ком-то Сталин «головотяп»: через неделю не было статьи без головотяпа… [Адамович 2007: 369–372][355]355
Эти мысли Адамовича в статье «План» (Последние новости. 1933. 23 ноября) отвечали многочисленным замечаниям Ходасевича и др. эмигрантских критиков.
[Закрыть].
Набоков отдельно остановился на новой функции советской литературы в обзоре 1941 года, а еще раньше схожим образом высмеял рабскую зависимость писателей от вкусов «отца народов» в рассказе «Истребление тиранов» (1938):
Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться, – не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как «осколки сткла», «речные праги» или «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав» [Набоков 2016: 462–463].
В эссе «О Ходасевиче» (1939) Набоков принужден был заключить, что «<…> в пределах России мудрено представить себе поэта, отказывающегося гнуть выю (напр., переводить кавказские стишки), т. е. достаточно безрассудного, чтобы ставить свободу музы выше собственной» [Набоков 2000-б: 587]. В том же году, когда он опубликовал «Тиранов», Ходасевич в статье «О советской литературе» писал:
С момента своего прихода к власти советское правительство поставило себе задачу – в определенном направлении перестроить миропонимание всей нации. Естественно, что самое сильное влияние в первую очередь было направлено на литературу, от которой предстояло добиться, чтобы она не только сама идейно перестроилась, но и служила орудием для внедрения новых понятий в умах общества. Поскольку литературные кадры, сравнительно небольшие по объему, доступнее воздействию и надзору, нежели вся огромная народная толща, процесс перестройки совершался в литературе быстрее и отчетливей, нежели в народе вообще [Ходасевич 1996-б: 420–421].
Вслед за Адамовичем он приходит к выводу, что «Советскому писателю становится нечего делать, потому что ни ему, ни его читателям (как он их себе представляет) нечего больше желать и не о чем тревожиться. Конечно, может он предаться естественному райскому делу – славословию, воспеть хвалебный гимн если не Отцу миров, то отцу народов со всеми угодниками. Он это и делает, но <…> может он повторять только то, что все и без него знают, превращаться лишь в один из голосов всеобщего хора» [Там же: 424–425]. При таких обстоятельствах единственной надеждой на возрождение русской словесности оставался русский читатель, который, по словам Ходасевича, сохранив духовную связь с русскими писателями, «чутьем угадывает художественное превосходство классиков перед современниками» и к «эстетической оценке приходит <…> через ощущение человечности, которой советские авторы лишены» [Там же: 422]. О том же говорит и Набоков в конце лекции 1958 года «Русские писатели, цензоры и читатели», уже вынужденный отказаться от надежды стать свидетелем «блистательной упоительной юности» русской литературы, которую он предвещал в докладе 1926 года:
<…> талантливый читатель – фигура всеобъемлющая, не зависящая от законов пространства и времени. Это он, хороший, тонкий читатель, снова и снова спасает художника от истребления – монархами, диктаторами, священниками, пуританами, мещанами, моралистами, полицейскими, почтмейстерами и лицемерами.
Публикуемые сочинения Набокова о советской литературе представляют собой не только антикварную ценность. Помимо того, что высказанные им мысли находят множество важных соответствий и пересечений с мыслями и взглядами первоклассных эмигрантских критиков, что дает возможность отвести Набокову среди них заметное место, они имеют немалое значение и как документальное свидетельство, позволяющее расширить и уточнить круг его чтения советских авторов в самых разных жанрах и родах литературы, от стенограмм писательских съездов и очерков капитана-полярника, которые Набоков внимательно прочитал и процитировал в обзоре советской литературы 1940 года (причем детальные описания полярной зимовки могли вдохновить Набокова на рассказ об арктической экспедиции Гумберта в «Лолите»), до критических статей и драматургии. Они, кроме того, существенно дополняют ряд опубликованных произведений, лекций и писем Набокова о современной литературе, немало нового открывают в его понимании настоящего достоинства искусства, отношений художника и власти, свободы творчества, ложных и истинных путей словесности.
* * *
Для настоящей публикации нами подготовлены следующие сочинения Набокова.
1. Две лекции «Советская драма», написанные в феврале 1941 года для лекционного курса в колледже Уэльсли [Бойд 2010: 34; Nabokov—Wilson: 46; Набоков—Карпович: 149]. В архиве Набокова сохранились частью машинописные, частью рукописные отделанные черновики этих лекций (всего 32 страниц), которые мы печатаем в нашем переводе с исправлением явных описок и неточностей и приложением исключенных Набоковым фрагментов, первых вариантов и рабочих заметок (The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. The Soviet Drama. Holograph and typescript draft of two lectures). Хотя и посвященные только двум советским драматургам, Вишневскому и Погодину, эти лекции имеют отношение к широкому кругу вопросов, касающихся современной драмы и советской литературы, и затрагивают темы, подробно рассмотренные Набоковым в опубликованных нами ранее лекциях «Ремесло драматурга» и «Трагедия трагедии» [см.: Набоков 2008: 494–518].
2. Лекция «Советский рассказ». Публикуется в нашем переводе (с выпусками тех мест, которые повторяются в обзоре «Советская литература в 1940 году») по черновой рукописи, частью машинописи (всего 20 страниц), хранящейся в Berg Collection. В том же архиве отложилось восемь машинописных страниц с обильной правкой неозаглавленной лекции, часть которой (со стр. 4 до стр. 11) имеет пометку: «Olesha and émigrés» (Олеша и эмигранты). Эта часть (назовем ее Лекция-2) корреспондируется с лекцией о советском рассказе, отчасти повторяет и дополняет ее. Наличие двух разных редакций лекции «Советский рассказ» объясняется, по-видимому, тем, что Набоков использовал на различных стадиях своего курса и перед разными аудиториями материал более общего (как во втором архивном тексте) и более специального характера. Некоторые фрагменты из этого второго текста мы приводим в подстрочных примечаниях.
3. Обзорная статья «Советская литература в 1940 году», написанная в марте 1941 года для нью-йоркского журнала Клауса Манна (старший сын не любимого Набоковым Томаса Манна, эмигрировавший из Германии после прихода Гитлера к власти) «Decision. A Review of Free Culture». Несколько раз отложенная редакцией журнала, она должна была выйти в июльском номере, но так и не была напечатана, по-видимому, вследствие нападения Германии на СССР и отказа редакции от публикации на этом фоне резко-критического материала Набокова[356]356
В июльском номере журнала была опубликована короткая статья Карсон Мак-Каллерс «Русские реалисты и литература американского юга», в которой рассматриваются русские классики XX в. и ни слова не сказано о литературе советской.
[Закрыть]. В Berg Collection нами обнаружено следующее английское письмо Клауса Манна, напечатанное на бланке журнала:
DECISION a review of free culture
141 East 29th Street, New York
6 мая 1941 г.
Г-ну Владимиру Набакову [sic]
35 West 87th Street
Нью-Йорк
Многоуважаемый г-н Набаков [sic]:
Да, действительно, мне бы хотелось увидеть Ваши переводы Пушкина[,] Лермотова [sic] и др. Это очень хорошо, что я смогу выбрать то или другое для этого журнала.
Так глупо, что нам пришлось несколько раз откладывать публикацию Вашего замечательного материала – исключительно по причинам технического рода. Собственно, он уже был сверстан около восьми недель тому назад и я надеюсь, что смогу его поместить в наш следующий номер.
Конечно, я хочу познакомиться с Вашим другом г-ном Алдоновым [sic]. Я бы предложил ему позвонить мне в конце недели – или в Отель Бедфорд утром (СА–5–1000), или в контору журнала после полудня.
С искренним почтением,Клаус Манн
Набоков 8 мая послал Алданову открытку следующего содержания (Berg Collection):
Дорогой Марк Александрович,
Klaus Mann просит вас ему позвонить (причем, мое имя он пишет Nabakov, а ваше Aldonov – мы с вами трогательно обменялись главной гласной) в пятницу или субботу, либо утром в отель Bedford (Са 5 1000), либо в контору 141 E. 29 пополуднем [sic] (Le 2 3555). А Лермонтов у него превратился в Larmotov [sic]. Я вас ему описал.
Жму вашу руку. Хорош стиль у Коварского.
Ваш [подпись: В. Набоков]
26 мая Клаус Манн сообщил Алданову, что собирается напечатать его работу «в июле, вместе со статьей Набокова о русской литературе при Сталине, набоковским переводом стихотворения Пушкина, который я получил от него сегодня, и эссе американского автора Карсон Мак-Каллерс о влиянии русской классической литературы на писателей американского юга» (Columbia University / The Rare Book and Manuscript Library / Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture / Mark Alexandrovich Aldanov papers). Из перечисленных К. Манном материалов было опубликовано лишь эссе Мак-Каллерс.
Перевод статьи выполнен по правленным редакторской рукою гранкам, хранящимся в библиотеке Йельского университета (Yale University Library. Manuscripts and Archives // Decision Magazine papers. MS 176. Vladimir Nabokov. Soviet Literature 1940).
Приношу выражения живейшей признательности проф. Брайану Бойду, приславшему мне копию этой статьи Набокова, а также Майклу Фросту, куратору архивного отдела в Sterling Memorial Library Йельского университета, который любезно содействовал мне в изучении архива журнала «Decision» и его редакторского портфеля 1941 года.
4. Посвященный советской литературе отрывок из рецензии «Зеленые щи и черная икра» (на американскую антологию «Сокровищница русской жизни и юмора», 1943), напечатанной в журнале «New Republic» (1944, № 3, рр. 92–93).
5. Отрывок из итоговой лекции «Русские писатели, цензоры и читатели» (1958), для которой Набоков использовал начало статьи «Советская литература в 1940 году». Перевод выполнен по изданию: Vladimir Nabokov. Lectures on Russian Literature / Ed. by Fredson Bowers. London, 1982.
Цитаты, приведенные Набоковым в измененном или сокращенном (без оговорок) виде, восстановлены нами в квадратных скобках по оригинальным текстам – в случае необходимости, с нашими пояснениями; вставки и рабочие пометки Набокова даны в угловых скобках.
Советская драма
(Две лекции)[357]357
© The Estate of Vladimir Nabokov, 1998, 2019
[Закрыть]
Прежде чем по-своему приняться за увлекательный предмет – современную советскую драму, – два положения следует разъяснить со всей определенностью, и, стало быть, короткого вступления нам не избежать. Первое положение связано с вопросом качества. Мы, разумеется, вправе заметить, что всё существующее заслуживает существования и, приложив эту мысль к современной драме, прибавить, что, поскольку существует известное число пьес, которые нравятся театралам и собирают залы, мы должны принять это как данность, хотим мы того или нет. С этой точки зрения, ежели пьеса успешна и долго не сходит со сцены, ее нельзя отвергнуть, как образчик тенденциозного красноречия или дешевой мелодрамы; она существует, ее ставят, ей аплодируют, она, наконец, приносит деньги. И по этой логике выходит, что «Золотого мальчика»[358]358
Драма Клиффорда Одетса (1906–1963), поставленная на Бродвее в 1937 г.; экранизация – 1939 г.
[Закрыть] или «Забаву дурака»[359]359
Бродвейская пьеса Роберта Шервуда (1896–1955) 1936 г., получившая Пулитцеровскую премию, экранизирована в 1939 г. Название «Idiot’s Delight» неверно переводится на русский язык буквально («Восторг идиота»), в то время как это принятое в Америке шуточное название любой разновидности карточного солитера. В пьесе героиня произносит фразу о Боге: «Бедняжка, одиночка. Сидит на небесах, где нечего делать, только играть в солитер. Бедный Господь. Играет в „забаву дурака“».
[Закрыть] следует так же серьезно рассматривать, как пьесы Ибсена или Чехова – которые ведь тоже нравятся публике и приносят деньги. Такого взгляда, впрочем, я не стану придерживаться, говоря о советской драме. Я слишком глубоко ценю достижения непреходящих достоинств, чтобы не применять к современным пьесам те высокие и неизменные требования, которым следуют гениальные драматургии независимо от их национальной принадлежности, социальных взглядов, эпохи или публики. Кроме того, я убежден, что вкус зрителей намного тоньше, чем то кажется театральной дирекции. Банальная современная пьеса с толикой психоанализа или громким социальным посылом может быть столь же бурно принята зрителями, сколько и «Гамлет», идущий в соседнем театре. Но в первом случае зрительский восторг не продлится и до следующего сезона, как и сама пьеса, а во втором – сохранится в веках. И здесь мы переходим ко второму положению, требующему разъяснения.
Нередко приходится слышать, и я не раз сталкивался с такими утверждениями в серьезных пособиях по драматургии, что зрительский прием и есть самое главное во всем взаимозависимом согласии элементов театральной постановки, и даже что пьеса существует лишь тот отрезок времени, в который перед зрителями идет спектакль. Эта условная публика, как и условный читатель романа, может на долгие годы отнести пьесу к разряду тяжеловесных и неприятных, а следующее поколение может ее понять и полюбить – не говоря уже о том, что среди зрителей едва ли наберется дюжина человек, способных оценить значение пьесы во время провала спектакля в ужасный вечер премьеры, – и потому утверждение, будто публика – важнейший соавтор, звучит довольно глупо. Если, однако, добавить один-единственный эпитет в это утверждение, оно станет абсолютно точным, и эпитет этот – «идеальная». Гениальный писатель сочиняет для идеальной публики, для читателей или зрителей, которые должны обладать той же силой восприятия, каковой силой выражения он сам наделен. Говоря языком человеческого эгоизма, если имя автора – Браун, то он желает, чтобы его публика состояла сплошь из Браунов; много более уязвима, впрочем, вторая часть этого положения, утверждающая, будто пьеса не существует вне сцены. Разумеется, тонкая постановка пьесы со всеми ее составляющими – действие, актерская игра, цветовая гамма и звук – открывает ее достоинства со всей очевидностью, так же точно, как цветущее дерево раскрывается полнее, чем в обычном своем состоянии, представляющем совокупность листьев и ветвей (даже если ботаник легко может себе представить это дерево в цвету). Впрочем, покуда наука не предоставит нам волшебные ящики, в которых самые лучшие пьесы можно вечно видеть и слышать в самых лучших постановках, до тех пор мы должны довольствоваться напечатанным текстом, чтобы получить о пьесе собственное мнение, хотя я и признаю, что было бы изумительным наслаждением вставить пластину в щель и увидеть и услышать пьесу Чехова в том виде, в каком она была представлена Московским художественным театром сорок лет тому назад. В нашем случае, обсуждая драму в лекционной аудитории и имея дело только с печатным текстом, мы не можем не рассматривать ее с литературной точки зрения – и под «литературной» я не имею в виду тот же метод, каким мы оперируем, обсуждая прозу как таковую, или прозу романов в частности, но метод, который лучше всего подходит для рассмотрения драматургии.
Так вот, русская драматургия внесла в общемировую сокровищницу драматической литературы, в которой хранятся лишь самые-самые выдающиеся образцы, совсем немного по количеству, но очень много по качеству. Кроме бессмертной комедии Гоголя, трех или четырех пьес Чехова и стихотворных драм Александра Блока, я не думаю, что русские драматурги создали что-либо еще на этом очень высоком уровне. Следует учитывать, что достичь этого уровня совсем не просто и что, говоря об Америке, «Падение града» Маклиша[360]360
Стихотворная радиопьеса (1937) о надвигающейся угрозе фашизма Арчибальда Маклиша (1892–1982), представленная радиокомпанией «Columbia Workshop» (Нью-Йорк) с музыкальными и звуковыми эффектами; была не раз воспроизведена затем в 1939 г. В 1951 г. Набоков написал Маклишу: «Хочу сказать Вам, что <…> я большой поклонник Вашей поэзии. В одном из Ваших самых известных стихотворений есть то озарение, что неизменно ощущаю всем своим хребтом как дрожь наслаждения – всякий раз, как вспоминаю его» (Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977. P. 129).
[Закрыть], к примеру, хотя и относится скорее к поэзии, чем к драме, имеет больше шансов остаться в веках, чем крепко скроенная мелодрама О’ Нила. И потому мне представляется, что с точки зрения удовольствия, душевного волнения, артистического возбуждения и долговременной значимости выдающегося достижения все, что написали русские драматурги на протяжении советского периода, начиная с 20-х годов и до волшебного настоящего, так же никчемно, как и обширно. Если прибавить, что структура и атмосфера этих пьес, в сущности, ничем не отличаются от определенного рода европейских и американских, заполонивших сцену приблизительно с 70-х годов прошлого века, то вы имеете все основания спросить, стоит ли тратить наше время на рассмотрение советской драмы? Однако, как я надеюсь показать, – несомненно, стоит.
Точка зрения художника, полагаю, единственно верная при обсуждении драматургии и любого иного рода литературы, что не подразумевает никоим образом идеи «чистого искусства» – плоской, как все другие идеи, жадно поощряемые модой или контр-модой, обычно становящейся новой модой. Не обладающий гениальным даром писатель, неукоснительно следующий широко известной программе искусства ради искусства, довольно курьезным образом приходит в конце концов к тому же, к чему приходит и псевдопролетарский автор, настолько человечно озабоченный долей униженных и оскорбленных, что сострадательная публика охотно прощает ему отсутствие таланта. И в том и в другом случае речь идет о ничтожных пьесах, постановка же может быть сколь угодно талантливой и остроумной; однако, повторю, я рассматриваю лишь текст пьесы. Нет, «искусство ради искусства» слишком сильно страдает определенными модами девяностых годов и не имеет ничего общего с точкой зрения художника – я бы предпочел найти выражение более емкое. Что, возможно, является основой моего метода или должно ею быть, это техническое, научное рассмотрение той напасти, которая убивает драму во всех странах, – и анатомическое препарирование ряда современных русских пьес, я надеюсь, прольет свет не только на саму болезнь, но и на метод лечения. А поскольку для ученого осмотр отравленных тканей столь же увлекателен, что и совершенно здоровых, мне думается, что, приступая после этого введения к изучению капилляров и клеточек советской драматургии, мы займемся весьма полезным делом.
Советская драматургия, как я уже сказал, необыкновенно обширна. Замечательное развитие чистейшего в мире сценического мастерства (которое, как мы помним, не имеет ничего общего с драматической литературой), изумительное совершенствование режиссуры, актерской игры, хореографии, декораций достигло теперешнего уровня задолго до революции. Московский художественный театр и другие театральные объединения, расцветшие как раз к самому началу 20-го века, сохранили свои достижения, в большей или меньшей степени, и в советское время, когда все другие искусства, даже музыка, обычно выживающая в революциях, не смогли совладать с политическими, социальными и экономическими трудностями, которые им полагалось изображать. Возникали предположения, что, сохраняя театр, Советы исходили из необходимости предоставить народу замену для выхода той эмоциональной энергии, которую в прошлом люди находили в религии. В действительности хорошее представление любят во всех странах, и, не вдаваясь в вопрос сравнительной ценности искусств, мы можем сказать, что театр – искусство самое простое из всех – и по устройству своему, и по своему непосредственному обращению к публике. Девять человек из десяти предпочтут кресло в театральном зале или посещение галереи живописи книге у себя дома. И поскольку театральное представление не только проявляет и развивает артистическую славу, контрабандой провезенную из прошлого русской культуры в нынешнее русское Средневековье, но также является единственным сравнительно свободным видом искусства благодаря возобновлению старого репертуара[361]361
Вычеркнуто: «в стране, где другие искусства, такие как литература и живопись с их грозной пропагандой политических идей и идолов, не в состоянии утолить артистического голода русских людей».
[Закрыть], популярность театра в России дошла до того, что превратила его в баснословное чудище, заставляющее столь многих заморских путешественников дивиться великолепию театрального искусства в стране застенков и процессий или ошибочно рассматривать его как новое достижение коммунизма.
Следует ясно понимать, что все это относится к сцене, к действию, цвету, звуку и их гармонии и не имеет никакого отношения к истинной ценности драматургии. Когда глаз прельщает разнообразие декораций, когда душу трогает чудесная актерская игра, большинство зрителей простят политическую начинку пьесы, и государственные руководители понимают, что под яркой глазурью сценического оформления зритель может легко, почти бессознательно проглотить и переварить политическую пилюлю, заложенную в пьесе. Не так давно я прочитал в «Нью-Йорк таймс» письмо, подписанное одним немецким эмигрантом из театральных кругов. Он сетовал на то, что бродвейские постановки так искусно украшают и смягчают современные пьесы магией чистого зрелища, что их социальный или моральный посыл практически ускользает от публики, хотя этот посыл и важен, и приятен автору письма, когда он читает эти пьесы у себя дома. Если бы его мечта осуществилась, современный театр лишился бы своей последней и скорее трогательной связи с искусством – чистой зрелищности.
Итак, что же представляют собой пьесы, создаваемые современными русскими драматургами для советских театров? Давайте вспомним законы детерминизма, механические приемы и механические следствия, унаследованные европейским театром с античных драматических свалок. Из этого рабства каузальности бегут лишь настоящие гении драматургии – или, лучше сказать, только от того, что Шекспир или Ибсен[362]362
Вычеркнуто: «или Чехов».
[Закрыть] отбрасывали те или иные требования драмы, они сумели создать великие произведения. В противном случае мы имеем дело с одним из самых курьезных явлений, с непреложным господством каузальности на протяжении всей истории театра, а вспомним еще античного «deus ex machina» – окончательное следствие, этого, так кстати появляющегося на сцене бога, настолько же неотвратимого, насколько и входящий вдруг под конец пьесы посланник Ленина или Сталина, – или приезд настоящего дядюшки в конце буржуазных комедий прошлого века. Причинно-следственная связь последовательно разрушает существо драмы; как и почему настоящий гений чувствует истинный дух искусства, который так далек от неизменной в веках основы драмы – этих железных законов детерминизма, – вопрос, который уведет нас в сторону от предмета лекции. Но о чем я хочу рассказать сейчас, это о советской драме и ее левокрылом слепке в Западной Европе и Соединенных Штатах, представляющих собой последнее слово драматического детерминизма, законопативших последнюю щель для проникновения вольного таланта писателя. Когда в буржуазной пьесе появляется хороший человек, мы все же знаем, что, хотя правда рано или поздно восторжествует над ложью, всегда есть вероятность, что хороший человек, борясь со злом, совершит самоубийство, или его благое дело разрушит какое-нибудь странное вмешательство, или иным способом жертва этой пьесы может быть обделена (притом что всегда подразумевается, что как-то, где-то, за сценой, после падения занавеса, правда непременно восторжествует). Но в крайней форме социальной пьесы, типичной для советской драмы, хороший коммунист тогда лишь падет, когда в пьесе появится другой, еще лучший, и настоящий герой в ней – неугасающая революция. Другими словами, добро в его политической форме совершенно убеждено в победе над злом – прямо на наших глазах, в последнем акте, – и мы знаем, так и будет, поскольку в противном случае правительство не разрешило бы постановку. И потому, каким бы драматургическим талантом автор ни обладал, ему остается лишь довольствоваться извлечением максимальных возможностей драматических коллизий и неожиданностей из таких положений и характеров, которые с самых первых сцен не скрывают своей главной идеи или правды. От головы до ног замаскированный контрреволюционный злодей – так задумано автором – действует как верный ленинец до тех пор, пока диалектика драмы не обнаружит, что он саботажный изверг. Появляется персонаж более мягкий и кроткий, не вызывающий подозрений, и публика уже близка к тому, чтобы назначить его добрым коммунистом пьесы, как вдруг комбинация событий или развитие конфликта открывают, что он так и не сумел избавиться от мелкобуржуазных или либеральных наклонностей и потому обречен. Если в пьесе имеется ведущая женская роль, мы можем быть уверены, что, хотя она никогда и не читала Ленина, ее незамутненное пролетарское происхождение вскоре себя проявит, и она окажется ближе к советскому богу, чем педант, пустозвон, чья политическая программа звучит вполне удовлетворительно, но чьи семейные связи с бывшим лавочником[363]363
Было: «тайным кулаком».
[Закрыть] портят все дело. Настоящий мужчина советской драмы – основательный, скучноватый, зря не болтающий парень с железной волей и сияющими глазами – вам знаком этот тип – сильный мужчина, с такой восхитительной человечностью играющий со щенком или ребенком и затем вновь затвердевающий и посылающий некоего негодяя на расстрел. Этот герой, чрезвычайно популярный у советских драматургов, не что иное, как символ Ленина, которого биографы также изображают марксистским роботом со сверкающими проблесками юмора[364]364
О том же Набоков писал Э. Уилсону 15 декабря 1940 г., разбирая его книгу «К Финляндскому вокзалу»: «Нет, даже магия Вашего стиля не заставит меня полюбить его [Ленина], и еще давным-давно я читал те официальные биографии, которым Вы так преданно и фатально следуете (как жаль, что Вы не заглянули в Алдановского „Ленина“!) <…> Это преувеличенное добродушие, этот взгляд с прищуринкой, этот детский смех и прочее, что так любовно описывают его биографы, – все это особенно омерзительно. Вот эту атмосферу жовиальности, вот это ведро парного молока с дохлой крысой на дне я изобразил в своем „Приглашении на казнь“» [Nabokov—Wilson: 38].
[Закрыть]. В самом деле, что может быть трогательней улыбки хозяина? Кто бы не пожелал оказаться на месте трепетной девочки в воскресном платьице, преподносящей букет роз священному диктатору, выходящему из своего священного автомобиля?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































