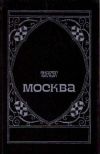Текст книги "Московский чудак. Москва под ударом"

Автор книги: Андрей Белый
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Лизашу уже занимала беседой своей мотылястая барышня; что-то ожгло спину ей; обернулась; и – видела; там Эдуард Эдуардыч стоял; через головы всех он возлег на ней взглядом.
Они забарахтались: взглядами.
Вдруг!
Пред Мандро слишком быстро раздвинулась кучка; из центра ее вышел где-то таившийся – маленький, рябенький – Киерко: крепкий и верткий; Мандро, заприметив его, раскрыл рот, став таким угловатым, рукастым (манжетка казалась промятою), галстух же – скошенный; он, было, – в сторону, да опоздал, потому что уже Николай Николаевич – загоготушил (с «подче́рком»), засунувши руки в карманы и дергая плечиком:
– Нуте?
– Мандрашка!..
– Что, брат?..
– И ты тут?
На лице у Мандро проступил зеленец сероватый; глаза стали рысьи, а ноздри расширились; он уже виделв чьем-то внимательном взоре лица, призакрытого взмахами зеленоватого веера, злость и гнушенье: мадам Эвихкайтен! А Киерко, прорисовав треугольник – Лизаша, Мандро, Торфендорф, – ухватившись руками обеими за край жилета, в подмышках, по краю жилета награнивал пальцами дроби:
– А я, брат, признаться, не знал, что ты стал гогель-могелем, – нуте.
Я думал по-прежнему в Киверцах бегаешь ты голоштанником.
Был гоготок из угла.
– А ты, – вот как: «Подпукиным» ходишь!
И, вдруг оборвавши себя, Николай Николаевич Киерко, дернув плечом, отступил: с изумленьем вперившись в к нему подступившую девочку в белом во всем с точно вытертым мелом лицом (до того побелевшим), с кругами огромными вкруг – не двух глаз: бриллиантов, стреляющих молньей; иль – нет: Николай Николаевичу, если бы он пожелал себе дать беспристрастный отчет, показалось бы, что соблеснулися звезды – в Плеяды; Плеяды – вы помните?
Летом поднимутся в небе: пора!
Что пора?
А Лизаше казалось, что вот, – побежала: бежала, бежала, бежала, – куда? Но бежала, чтоб – выпрыгнуть, чтобы разбить это все: тут, сейчас же (революционеркой считала себя); уничтожить – вот этого, маленького господинчика, оклеветавшего «б о г у ш к у», но с таким ей приснившимся взглядом; в ней сердце рванулось – в «пора»!
Если б им здесь сказать, что они убудут оба в годах вспоминать этот миг, прозвучавший обоим настойчивой властью: «пора!».
Что?
То – длилось мгновение.
В следующее – сердце ножиком острым разрезала боль, потому что слепивший ей «богушка» фразой о Киверцах (он не оспаривал Киерко) рушился с башни, как Сольнес; и рушилось что-то в Лизаше: ведь «о н» говорил ей, что детство провел в Самарканде, а юность – в Москве; и – белела: добел – прочернел.
В горле ком появился глотательный.
Киерко же стушевался, вкрутую спиной повернувшись к Мандро, заметавшемуся, потому что его поедали глазами.
И кто-то сказал, точно в рупор: десятками ртов:
– Не Мандро: Дюпердри!
А Луи Дюпердри в своей темно-зеленой визитке с растягом, оглаженный, зеленоногий, на дам загляденье, с румянчиком нежным искусственных, кремовых щек, уж не во́лос – руно завитое, руно золотое крутил, вздернув кончик такой завитой эспаньолки; и губки слагал он, как будто целуя продушенный воздух «Свободной эсте-тики».
Кто-то при нем, рукотер и шаркун, представлял его дамам; и Пукин, сияя, щютягивал руку:
– Рр…рад дд…давно пп… пп… пп… пп… пора так!
Входили все новые гости.
Казалось, что каждый мужчина – срыватель устоев; и каждая дама – модель из Парижа; и все здесь – любовники всех; и казалось, что все здесь любовницы; точно купчихи, парчовые трены развеяв и перья своих вееров, здесь показывали свое глупо одетое чванство; пронес свои лысищи чех, Переше́ш, откровенно живущий с мадам Жевуди́ке, – в сплошной кругопляс, в ясный завертень барышень; томный дантист Розмарин ловил ляпис-лазули (не взгляды) мадам Эвихкайтен.
Из облачка кружев пропудрились голые руки и плечики Теклы Матвевны Феклушиной (кто же не нежился в мраморах черных огромных «Феклушинских бань», с металлическим, темным, литым Посейдоном?).
Шутила с мадам Индианц (вот так нос – ушла в нос!).
Индианц, Мариэтта Евгеньевна, – стиль «сапри-сти», кабинэ-де-ботэ[22]22
Косметический кабинет (фр.).
[Закрыть]; брошь с агатами; платье из желтого канфа; глаза, налитые экстазом (ресницы же с прочернью); губы – с подкрасом; вплела себе в волосы целый бирюзник; виляя боками, покачиваясь вывертной своей тальей, неслась в карусели из кружев, в волчок из визиток за Ольгою Львовной Яволь: белоснежные руки ее, как в слезах, в бриллиантах; казалось, что плачут слезой; платье – ясное, с блесочью, из серебра из живого, с изысканной выточью и перехватами: юбка из кружев, со свистами шелка под ними; и – трепетень, веер, ветрящий ей грудь; говорили друг другу:
– Луи Дюпердри!
– Он – француз!
– Ведь мы любим французов.
– Вильдрак, Малларме, Мореа́с, Дюпердри!
– Они – наши союзники… Да?
………………….
Эдуард Эдуардович понял, что руль всей карьеры его – не рулит уже; к Капитулевичу он подошел; явно пахнущий крэм-ж е-ву-зэмом Кадмиций Евгеньевич Капитулевич – любитель, ценитель, поклонник, – такой полнотелый мужчина, – пленительный, плотолюбивый, – в муругой визитке стоял; и сказал Неручайтису, сухо подавши Мандро кончик пальца и тотчас же ставши спиною:
– Он – деньги растратил.
Кто «он»?
Эдуард Эдуардович – прямо к Губонько.
Аггей Елисеич Губонько, соленопромышленник, шукался с толстым главой фирмы «Пепс»; Эдуард Эдуардович – позеленел:
– Иахим Иахимович!
Но Иахим Иахимович Вуд, Попурчо́вич (его свечносальный завод процветал) – не откликнулись; и, пропустивши его, пожимали плечами:
– Его поведенье – растленье…
– Он – дам…
– Даже девочек…
Им подкаблучивал толстый, проседый Пукэшкэ, болтаясь брелоками:
– Даже… мальчишек…
Берлу́нзила с пузика цепь от часов.
И стояли: доцент Роденталов, Булдяев, Бергаков и Штинкина (все, что хотите, и, в частности, если хотите, с аж-фамм[23]23
Акушерка (фр.).
[Закрыть]), облеченная в ткани тигриные, с пальца лучащая ясный, индийский топаз; композитор Июличев им объяснял:
– Дюпердри!
– Понимает Равеля!
– Знаком с Дебюсси!
– Даже… даже: с Матиссом на «ты»!
О Мандро позабыли, стояло кругом: Дюпердри, Дюпердри. Дюпердри! Уже всех пересек заостренной бородкою Брюсов; и – замер один у стола, постаментом фигуры явив монумент своей собственной жизни: автобиографию.
Где же они, – среброусые и седоусые дни?
Далеки!
Солнопечное время; снежишки сбежали в два дня; уже отмазались двери; профессор, надев плоскополую шляпу, террасою в садик ходил: пошуршать прошлогодним проро́стом, листвой перепрелой и серой, которая в солнце казалась серебряной, где уже полный пенечек промшел, где уже обнаружились сохлины над водороиной, еще сыревшей промоем дождя и пятном снеголеплин, пускающих из-под себя лепетавшие, полные отблесков, струи – под склон; где лежала дровина, – полено к полену – с корою сырой и отставшей: узор обнаружить (в ней червь, древоточец, знать, жил).
На дровину вскарабкался, как показалось профессору издали, малый глупыш в неприятной, кровавого цвета кофтенке, кричавшей под солнцем; под ним, подобравши рукой свою юбку, в подол набирая дрова, загаганила Дарьюшка; там, за забориком, мимо него промелькала весенняя, голубоперая шляпка (весной появлялись двуперые шляпы); по небу летели сквозные раздымки; и небо проси́нилось там сквозь раздымки.
Профессор подставил свой лоб под припек; он припеки любил без затины; зноистое место себе выбирал; и сидел, из лица сделав морщ.
Тут окликнули.
Он сиганул через комнаты и очутился в передней: прищурил глаза; и – увидел: стоит долгоухий японец, задохлец лимонно-оливковый, в черном во всем, выдается плечом надставным, черным стриженым волосом усиков и волосятами вместо бородки под очень сухою губою, промаслившись жестковолосым прочесом прически, рукой поправляя очки, сквозь которые черные пуговки сосредоточенно смотрят, как будто они пред собой увидали священнейший лозунг.
Профессор, как Томочка-пес, сделал стойку – с готовностью кинуться: взлаем; японец присел, чтобы пасть.
– Чем могу я служить?
Мелкоглазый японец засикал, как будто слова подавал он с подливкой – «сиси́» да «сиси́»; он страдальчески так выговаривал русские буквы; напружилась шея; и не выговаривал «ер»:
– Я из Жа́пан плисол!
– ?
– Я писал с Нагасаки, цто сколо плиду к фам: из Жа́пан.
– А с кем же имею честь я? – не бросал своей стойки профессор.
– Я есть Исси-Нисси.
Вот кто!
Теперь знал, что оливковый этот задо́хлец, стоявший пред ним, – разворотчик вопросов огромнейшей математической важности, двигатель мысли, которого имя гремело во всех частях света (в кругу математиков): имя громчей Ишикавы[24]24
Известный японский биолог. – Примеч. А. Белого.
[Закрыть]; профессор стал вдруг просиявшим морщаном, блеснувши, как молньей, очками, – ну, точно стоял он в лучах восходящего солнца:
– Как-с?.. Право, – считаю за честь… Из Японии?.. К нам?.. – протопырил японцу он обе ладони.
Японец, припав к ним, нырнул перегибчивой шеей под носом профессора, руку взял с за́держью, точно реликвию; дернул и твердо, и четко; подшаркнул: отшарком отнесся к стене, оторвавши ладонь; ведь понятно: профессор, который ему представлялся в стране Восходящего Солнца литым изваянием Будды, стоял перед ним, не как лозунг «Коло́бкин», – стоял как «Ван-Ваныч»; «Ван-Ваныча» он и разглядывал – с пристальной радостью.
Да, – глядя в корень: в груди – разворох; галстух – набок; манишка – пропячена; выскочил – черт дери – хлястик сорочки; жилет – не застегнут; уже из последней брошюры он понял: открытие близится в мир через этот пропяченный хлястик.
И – на́бок все галстухи!
Да, – в Нагасаки еще раскурял фимиам Исси-Нисси Ивану Иванычу: три панегирика тиснул ему в нагасакском научном журнале; себя же считал он вполне неуверенно шествующим за Иваном Иванычем – той же научной стезею.
«Ван-Ваныч» подшаркивал:
– Как же-с, – читал с удивленьем, читал-с, – в «Конфере́шен» – о ваших трудах… Удивлялся… Пожалуйте-с!
Жестом руки распахнул недра дома, введя в кабинетик, откуда он тотчас же выскочил.
– Знаешь ли, Вассочка, – там Исси-Нисси стоит, – дело ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю – ну там… В корне взять, – знаменитость!
Любил, побратавшись с учеными Запада, он прихвастнуть русской статью:
– Мы – да… Мы – у нас: в корне взять, – русаки!..
Приглашал отобедывать их он русацкими блюдами: квасом, ботвиньями и поросятами с кашей; когда-то дружил он с Леже́, как потом приударил за Полем Буайе, в его бытность в Москве. И теперь предстояло все это: братанье, турнир математики и, наконец, громкий спор: о Японии и о России:
– Вы – да: вы – япошки… Мы, черт побери, – русаки!
Предстояло: нагрев тумаками японца, торжественно мир заключить:
– Впрочем, светоч науки – один, так сказать!
Ветерок потянул из открывшейся фортки; и слышался: тонкий, щеглячий напев.
– Азиатский ученый!
Прищелились в двери: Надюша и Дарьюшка.
– Вот он…
– Японец.
– Сюсюка, картава…
– Ледащий какой.
– Недоро́сток.
Японец с лицом цвета мебельной ручки (олифой прошлися) сидел, наготове вскочить; и вскочивши, – пасть ниц, точно в идольском капище – перед литым изваянием Будды; профессор же носом развешивал мненья, щекою гасился, клочил волоса, из них строя ерши; и, бросаясь от шкапчика к полке, выщипывал он за брошюркой брошюрочку: «О наибольшем делителе», «Об инварь-янтах», «О символе «е» в «I» и в «фи».
Подносил Исси-Нисси:
– Вот-с: я написал…
– Вот-с…
– И вот-с, вот-с…
Японец привскакивал: благодарил:
– Я ус это цитал…
А профессор, довольный, охлопывал вздошье свое:
– Есть у вас аритмологи?
– Есть!
Нисси спрашивал тоже:
– А есть ли тлуды по истолихи мацемацицески зна́ни?
– А как же-с, – Бобынин почтеннейший труд написал!
И блаженствовал носом с японцем: вот, черт побери, – не японец, а – клад; безоглядно летели в страну математики: мохрый профессор с безмохрым японцем:
– Да, да-с, – математика, в корне взять, вся есть наука о функциях, но, что бы там ни сказали, – прерывных: прерывных-с! А… а… сударь мой, непрерывные, то есть такие, в которых прерыв совершается в равные, так сказать, черт дери, промежутки – прерывны: прерывны-с! Они – частный случай…
– Как фи плоплосали в блосюле о метод…
Профессор подумал:
– И это он знает: и вовсе пустяк, что словами ошибся.
«Япошку», смеясь, трепанул по плечу:
– Вы хотели сказать «написали»; «плошать» – «фе́лер ма́хен»[25]25
Ошибаться (нем).
[Закрыть].
Япошка, конфузясь, краснел.
– Ничего-с, ничего-с…
Подбодривши надглядом, приподнял, стал взбочь и подвел его к полочкам:
– Есть у меня тут… – совсем мимоходом расшлепнул брошюрочкой он паучишку (таскались к нему из угла)… – Вот вам Поссе…
Японец разглядывал Поссе.
– А вот вам Лагранж…
– Вот Коши, Миттаг Леффлер, – расфыркался в пыльниках, – Клейн.
И японец уже веселился глазами над Клейном: сиси́ да сиси́!
– Дело ясное, – да-с – он добряш: зуб со свистом…
И нате: наткнулись на спорный вопрос!
Вейерштрассе профессор назвал декадентом; японец – уперся: он чтил Вейерштрассе; профессор поднялся нагрубнувшим носом, с тяжелым раздолбом пройдясь; он – сердился; он – фыркался; не понимает японец:
– Вы, батюшка, порете чушь: эти, как их, – модели пяти измерений, они – шарлатанство-с! Еще с Ковалевского, Софьей Васильевной, спорили мы: вы – туда же-с…
То было назад – сорок лет: Исси-Нисси в то время еще голоногим мальчоночком ползал вокруг Фузи-Ямы: что, право!..
Японец, продряхнув веками, – кощеем сидел: и молчал.
Василиса Сергевна вошла – оторвать друг от друга:
– Пожалуйте: чай пить.
– Пожалуйте, милости просим, – опять суетился профессор, забыв Вейерштрассе. – А после мы, батюшка, с вами посмотрим Москву; да, – я вас поведу; для нас, русских, Москва, – так сказать…
Тут – представьте – японец не вспыхнул от радости: он – потемнел; он, признаться, едва лишь ввалился в Москву, предварительно ровно четырнадцать суток промчавшись в экспрессе; едва он стоял на ногах; а тут – с места в карьер!
А профессор с пропиркой тащил его к чаю; ведь случай – единственный; поговорить-то ведь не́ с кем; из всех математиков разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уровень; Нисси – включался в десяток; и – вот он; профессор же был говорун.
Пролетели в столовую – лбами в косяк: бум, бух, бряк!
Карандашик упал.
Друг пред другом стремительно снизились на подкаракушки, чуть не ударившись: лбами о лбы; и сидели, ловя карандашик: профессор – орлом; Исси-Нисси – корякой такой сухоякой (дощечкою задница); он и схватил: будто это был нежный цветок, подносимый стыдливой невесте, стыдливо поднес карандашик профессору:
– Не ожидал-с!
Не японец, а – мед!
Исси-Нисси уселся за стол: с дикой скромностью; он приналадился к слову и с за́визгом им говорил про Японию; в звуке словесном был про́гнус; сидел, наготове вскочить перед каждым, а был знаменитым: гремел на весь мир.
– Вы скажите нам – что, как: какие там люди?
– Жапа́ны.
– Какие там моды?
– С Амелики.
– Что вы!
– И с Лондон…
– Какие дома?
– В Жа́пан… – длил он словами, ища выраженья.
И – прытко запрыгал словами, найдя выраженье:
– Нельзя констлуи́л, как в Москва…
– Констлуи́л – что такое?
– Да строить, маман, – конструир: совершенно же ясно.
– Ну да – почему ж?
Искал выраженья:
– Там элда: тлясётся.
– Что?
– Элда: на цто все стояйт, – сказал с за́держьъю, свесив беспомощно руки (на сгибени пальцев – предлинные, желтые, свежепромытые ногти, не наши, а – дальневосточные).
– Что это «э́лда»? – мизюрилась Наденька, щелкая праздно фисташками. – А, да – поняла: «э́лда» значит – земля: это он о земле…
Азиат!
– Да, вы – бедный народ!
– Ну-с, – поднялся профессор, – сидите, а я пойду, в корне взять, перед прогулкой соснуть – минут на́ десять… Нет-с, вы сидите, – почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднялся. – Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с…
Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за японца схватился, чтоб с ним подрассеяться; он – заслуженный профессор, «пшеспольный» там член, академик, почетный член обществ и прочая, прочая, прочая – он был подпуган; гремел на весь мир, а боялся – Мандро.
Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой машинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности определяется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели интриг: ведь Ивана Иваныча, как национальную, даже как сверхнациональную ценность, должны б заключить в семибашенный замок из кости слоновой, таскать на слонах, окружив самураями: математический богдыхан, далай-лама, микадо!
Так думаем вовсе не мы, – Исси-Нисси…
А он, между нами сказать, – под оглоблями бегал: дела-с!
………………….
Василиса Сергеевна скрылась.
– Хотите, пройдемте-с по садику?
Наденька с Нисси – прошли; над просохом серебряным встали:
– Здесь Томочка-песик наш: похоронили его…
Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и первая, желто-зеленая бабочка перемелькнулась с другою – под солнцем: припо́дпере-по́дпере-пе́ре – пошли перемельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили.
И листьями стали средь листьев.
– Вам папочка нравится? – Надя спросила.
Японец, добряш, – просиял:
– Оссень, оссень!
Профессор Коробкин был идолом для Исси-Нисси: приехал устроить ему превосходное капище он; в этом капище видел Ивана Иваныча твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые два пальца поставившим перед литой, златой мордой: в халате златом!
Азиат!
Щебетливые скворчики вдруг обозначились: в кустиках; а сквозь орнамент суков прогрустило апрельское небо: в распёрушках белых.
Профессор схватил плоскополую шляпу и в шубу медвежью впихнулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродранным (что ж не подшили?); под руку подцапнул японца; из двери с ним выскочил взбочь; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что свалился с японцем на полупроталый ледок.
Здесь опять отвлекусь рассужденьем.
Катаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под цоканье очень опасных копыт, – как-то зря; в заседаньях, на кафедрах, – рыба в воде: все движенья – ловки, своевременны, стильны, изящны; а здесь, средь прохожих, кубарики эти – нелепейше вертятся: только одно поврежденье – себе и другим.
И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, – примененье предметов, полезнейших в сфере одной, – бесполезное к сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковырянья: термометр – сломается; нос – окровавится колким осколком стекла; ртуть – просыплется; ни – ковыряния носа, ни – температуры! А впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.
Можно, с большой осторожностью… – даже с ученым пойти: прогуляться.
………………….
Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержь: наверное, двигался так манекен.
За забориком – издали – пели:
На улице нашей
Живет карлик Яша.
Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилося солнце сияющим и крупнокапельным дождиком; и обозначился: мокрый булыжник.
– Арбат-с!
– По Арбату проехался Наполеон, да – бежал, черт дери…
– Мы Москву ему в нос подпалили! – показывал он своеумие русского духа.
Таким разгуляем шагал, молодяся всем видом:
– Артур бы не сдали-с: изволите видеть, – тут Стессель… Один Кондратенко русак, да его разорвали гранатой… А то бы – он вас…
– У нас тозе золдат: холосо…
Но профессор нахмурился: не понимает японец!
Последний поглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.
Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут, подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:
– Кремль-с!
– Кремлевские стены…
Не видя, что Нисси оливковым стал и давно уже пот отирал, он тащил его дальше:
– Музей Исторический: великолепное зданье!
Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу.
– Не это-с, а – то-с… Не туда-с… Как же это вы, батюшка: это же – Дума; музей Исторический – то-с!
Но японцу не нравился стиль; и профессор сердился:
– Япошка!
– Завидует!
Был Исси-Нисси в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке; готический стиль ему нравился; русский – не нравился.
Встала слепительность: в синеполосую твердь:
– Храм Спаситель!
Не видел он в жестах умеренных поползновенье на что-то японца:
– Зайдем?
И – зашли:
– Это вот Богоматерь, – с младенцем: картина прекрасная, очень…
– Видал Лафаэль…
– Верещагин писал…
И, не давши опомниться, – в купол: перстом:
– Саваоф!.. Потрясающий нос – в три аршина, а кажется маленьким…
Головы оба задрали: и долго смотрели – молчком:
– Нос – с профессора Усова списан; не с Павла Сергеича списан, а – дело ясное: списан с Сергей Алексеича, автора – да-с – монографии «Единорог: носорог»…
А на скверике кустики вспучились, бледные, – добелу: перепушилися чуть желтизною; там – зелени из бледно-розовых, бледно-сиреневых почек.
Прошлись вдоль реки.
На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой; вот прогоркнет рыботек, – поплавок сребродрогнет, взлетит: только червь извивается; отлепетнула струей сребробокая рыба; юркнула и – взвесилась темной спиною в зеленой водице; а наискось, над рябо-розово-серой, зубчатой стеною Кремлевскою – башни: прохожее облако, белый главач, зацепилось за цапкую башню; и, став брадачом, отцепилось, теряясь краями.
Профессор увидел: вот – Федор Иванович Пяткин сидит, как и в прошлом году, – тот, который простуживает, тот, который с Надюшею встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, предлинное очень, до… флюса, – тот самый, который, зимой позапрошлой с Иваном Иванычем встретившись, за руки взял, с ним уселся на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; и после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор; лошадь – вскинулась; в глаз просверкала подкова; и все – испугались; а Федор Иванович, – тот еще более; Федор Иванович Пяткин, дендролог, профессор в отставке, – у Храма Спасителя жил: и – под мост ходил рыбу удить.
Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, призамолк: отбратался!
– Ну – вот-с и Москва: город древний…
– Мое вам почтенье…
– Пожалуйте как-нибудь запросто к нам…
И пошел себе прочь: с помаханием рук.
И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом японца – в «Отель-Националь», чтоб пасть замертво: в сон.
Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым достопримечательностей городских; Москва – древний, весьма замечательный город.
А – что же в итоге? Кубарики…
………………….
Вечер стеклил.
И по небу неслися ветрянки: разорвинки облак; и – чуть прокололись звездинки, чтоб к ночи разинуться; был на реке – светоход; воды – дернулись ветром; на них испорхалося вдруг отражение месяца; после мелькая иссиявшихся бабочек ясно сбежался.
И вот: отражением месяца сделался вновь.